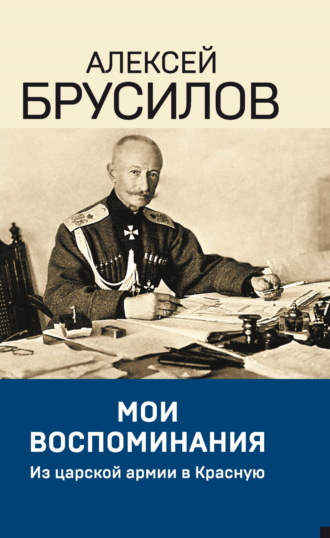
Алексей Брусилов
Мои воспоминания. Из царской армии в Красную

Эпохальные мемуары

© Издательство «Эксмо», 2023
© Издательство «Яуза», 2023
От автора
Я никогда не вел дневника и сохранил лишь кое-какие записки, массу телеграмм и отметки на картах с обозначением положения своих и неприятельских войск в каждой операции, которую совершал. Великие события, участником которых я был, легли неизгладимыми чертами в моей памяти. Я не имею намерения писать связанных между собой подробных исторических воспоминаний о мировой войне, и тем более не в моих намерениях подробно описывать боевые действия тех армий, которыми мне пришлось командовать во время этой войны. Цель моих воспоминаний – более скромная. Она состоит в том, чтобы описать мои личные впечатления и переживания в тех великих событиях, в которых я был или действующим лицом, или свидетелем.
Думаю, что эти страницы будут полезны для будущей истории, они помогут многое правильно осветить, охарактеризовать только что пережитую эпоху, нравы и психологию ныне уже исчезнувшей, а в то время жившей вовсю русской армии и многих ее вождей. Надеюсь, читатель не посетует, что на этих страницах он не найдет ничего стройного, цельного, а лишь прочтет то, что меня наиболее мучило или радовало, то, что захватывало меня полностью, да еще несколько картинок, почему-либо ярко сохранившихся в моей памяти.
С детских лет до войны 1877–1878 гг
Я родился в 1853 году 19 (31) августа в Тифлисе. Мой отец был генерал-лейтенант и состоял в последнее время председателем полевого аудиториата Кавказской армии. Он происходил из дворян Орловской губернии. Когда я родился, ему было 66 лет, матери же моей – всего лет 27–28. Я был старшим из детей. После меня родился мой брат Борис, вслед за ним Александр, который вскоре умер, и последним брат Лев. Отец мой умер в 1859 году от крупозного воспаления легких. Мне в то время было шесть лет, Борису четыре года и Льву два года. Вслед за отцом через несколько месяцев умерла от чахотки и мать, и нас, всех трех братьев, взяла на воспитание наша тетка, Генриетта Антоновна Гагемейстер, у которой не было детей. Ее муж, Карл Максимович, очень нас любил, и они оба заменили нам отца и мать в полном смысле этого слова.
Дядя и тетка не жалели средств, чтобы нас воспитывать. Вначале их главное внимание было обращено на обучение нас различным иностранным языкам. У нас были сначала гувернантки, а потом, когда мы подросли, гувернеры. Последний из них, некто Бекман, имел громадное влияние на нас. Это был человек с хорошим образованием, кончивший университет; Бекман отлично знал французский, немецкий и английский языки и был великолепным пианистом. К сожалению, мы все трое не обнаруживали способностей к музыке и его музыкальными уроками воспользовались мало. Но французский язык был нам как родной; немецким языком я владел также достаточно твердо, английский же язык вскоре, с молодых лет, забыл вследствие отсутствия практики.
Моя тетка сама была также выдающаяся музыкантша и славилась в то время своей игрой на рояле. Все приезжие артисты обязательно приглашались к нам, и у нас часто бывали музыкальные вечера. Да и вообще общество того времени на Кавказе отличалось множеством интересных людей, впоследствии прославившихся и в литературе, и в живописи, и в музыке. И все они бывали у нас. Но самым ярким впечатлением моей юности были, несомненно, рассказы о героях Кавказской войны. Многие из них в то время еще жили и бывали у моих родных. В довершение всего роскошная южная природа, горы, полутропический климат скрашивали наше детство и оставляли много неизгладимых впечатлений.
До четырнадцати лет я жил в Кутаисе, а затем дядя отвез меня в Петербург и определил в Пажеский корпус, куда еще мой отец зачислил меня кандидатом. Поступил я по экзамену в четвертый класс и быстро вошел в жизнь корпуса. В отпуск я ходил к двоюродному брату моего названого дяди, графу Юлию Ивановичу Стембоку. Он занимал большое по тому времени место – директора департамента уделов. Видел я там по воскресным дням разных видных беллетристов: Григоровича, Достоевского и многих других корифеев литературы и науки, которые не могли не запечатлеться в моей душе. Учился я странно: те науки, которые мне нравились, я усваивал очень быстро и хорошо, некоторые же, которые были мне чужды, я изучал неохотно и только-только подучивал, чтобы перейти в следующий класс: самолюбие не позволяло застрять на второй год. И когда в пятом классе я экзамена не выдержал и должен был остаться на второй год, я предпочел взять годовой отпуск и уехать на Кавказ к дяде и тетке.
Вернувшись в корпус через год, я, минуя шестой класс, выдержал экзамен прямо в специальный, и мне удалось в него поступить. В специальных классах было гораздо интереснее. Преподавались военные науки, к которым я имел большую склонность. Пажи специальных классов помимо воскресенья отпускались два раза в неделю в отпуск. Они считались уже на действительной службе. Наконец, в специальных классах пажи носили кепи с султанами и холодное оружие, чем мы, мальчишки, несколько гордились. В летнее время пажи специальных классов направлялись в лагерь в Красное Село, где в составе учебного батальона участвовали в маневрах и различных военных упражнениях. Те же пажи, которые выходили в кавалерию, прикомандировывались на летнее время к Николаевскому кавалерийскому училищу, чтобы приготовиться к езде. Зимою пажи, выходившие в кавалерию, ездили в придворный манеж. Там на свитских лошадях, под управлением одного из царских берейторов, мы изучали искусство езды и управления лошадью. В то время при Пажеском корпусе еще не было ни своего манежа, ни лошадей.
В 1872 году войска Красносельского лагеря закончили свое полевое обучение очень рано – 17 июля, тогда как обыкновенно лагерь кончался в августе месяце. В этот знаменательный для нас день всех выпускных пажей и юнкеров собрали в одну деревню, лежавшую между Красным и Царским Селом (названия ее не помню), и император Александр II поздравил нас с производством в офицеры. Я вышел в 15-й драгунский Тверской полк, стоявший в то время в урочище Царские Колодцы в Закавказском крае. Пажи имели в то время право выбирать полк, в котором хотели служить, и мой выбор пал на Тверской полк вследствие того, что дядя и тетка рекомендовали мне именно этот полк, так как он ближе всех стоял к месту их жительства. В гвардию я не стремился выходить вследствие недостатка средств.
Вернувшись опять на Кавказ, уже молодым офицером, я был в упоении от своего звания и сообразно с этим делал много глупостей, вроде того, что сел играть в стуколку с незнакомыми людьми, не имея решительно никакого понятия об этой игре, и проигрался вдребезги, до последней копейки. Хорошо, что это было уже недалеко от родного дома и мне удалось занять денег благодаря престижу моего дяди. Я благополучно доехал до Кутаиса. Через некоторое время, направляясь в полк и проезжая через Тифлис, я узнал, что полк идет в лагерь под Тифлисом, и поэтому остался ждать его прибытия.
В то время в Тифлисе был очень недурной театр, было много концертов и всякой музыки, общество отличалось своим блестящим составом, так что мне, молодому офицеру, было широкое поле деятельности. Таких же сорванцов, как я (мне было всего 18 лет), там было несколько десятков.
Наконец 1 сентября я прибыл в полк, где тотчас же явился к командиру полка полковнику Богдану Егоровичу Мейендорфу. В тот же день перезнакомился со всеми офицерами и вошел в полковую жизнь. Меня зачислили в 1-й эскадрон, командиром которого был майор Михаил Александрович Попов, отец многочисленного семейства. Это был человек небольшого роста, тучный, лет сорока, чрезвычайно любивший полк и военное дело. Любил он также выпить; впрочем, я должен сказать, что и весь полк в то время считался забубенным. Выпивали очень много, при каждом удобном и неудобном случае. Большинство офицеров были холостяки; насколько помню, семейных было три-четыре человека во всем полку. К ним мы относились с презрением и юным задором.
В лагере жили в палатках, и каждый день к вечеру все, кроме дежурного по полку, уезжали в город. Больше всего нас привлекала оперетка, во главе которой стоял Сергей Александрович Пальм (сын известного беллетриста 70-х годов Александра Ивановича Пальма); в состав труппы входили артисты: Арбенин, Колосова, Яблочкина, Кольцова, Волынская и много других талантливых певцов и певиц. Даже такие великие артисты, как О. А. Правдин, начинали свою артистическую карьеру в этой оперетке. Кончали мы вечер, обычно направляясь целой гурьбой в ресторан гостиницы «Европа», где и веселились до рассвета. А. И. Сумбатов-Южин, тогда студент, начинавший писать стихи и пьесы, участвовал в ужинах, дававшихся артистам. Иногда приходилось, явившись в лагерь, немедленно садиться на лошадь, чтобы отправиться на учение. Бывали у нас фестивали и в лагере, они часто кончались дуэлями, ибо горячая кровь южан заражала и нас, русских.
Помнится мне один случай. Это был праздник, кажется, 2-го эскадрона. Так как наш полковой священник оставался в Царских Колодцах, то был приглашен протопресвитер Кавказской армии Гумилевский. Сели за стол очень чинно, но к концу обеда князь Чавчавадзе и барон Розен из-за чего-то поссорились, оба выхватили шашки и бросились друг на друга. Офицеры схватили их за руки и не допустили кровопролития. Но в это время отец Гумилевский, с перепугу и не желая присутствовать при скандале, хотел удрать из этой обширной палатки, но застрял между полом и полотном настолько основательно, что мы были вынуждены его оттуда извлечь, посадить на извозчика и отправить домой. На рассвете состоялась дуэль между Чавчавадзе и Розеном, окончившаяся благополучно: противники обменялись выстрелами и помирились.
К сожалению, далеко не всегда эти нелепые состязания кончались так тихо; бывало много случаев бессмысленной гибели. Однажды и я был секундантом некоего Минквица, который дрался с корнетом нашего же полка фон Ваком. Этот последний был смертельно ранен и вскоре умер. Суд приговорил Минквица к двум годам ареста в крепости, а секундантов, меня и князя И. М. Тархан-Муравова, к четырем месяцам гауптвахты. Потом это наказание было смягчено, и мы отсидели всего два месяца. Подробностей этой истории я хорошо не помню, но причина дуэли была сущим вздором, как и причины большинства дуэлей того времени. У меня оставалось только впечатление, что виноват был кругом Минквиц, так как это был задира большой руки, славившийся своими похождениями – и романическими и просто дебоширными. Хотя, конечно, это был дух того времени, и не только на Кавказе, и не только среди военной молодежи. Времена Марлинского, Пушкина, Лермонтова были от нас еще сравнительно не так далеки, и поединки, смывавшие кровью обиды и оскорбления, защищавшие якобы честь человека, одобрялись людьми высокого ума и образования. Так что ставить это нам, зеленой молодежи того времени, в укор не приходится.
Мы не блистали ни военными знаниями, ни любовью к чтению, самообразованием не занимались, и исключений среди нас в этом отношении было немного, хотя Кавказская война привлекла на Кавказ немало людей с большим образованием и талантами. Замечалась резкая черта между малообразованными офицерами и, наоборот, попадавшими в их среду людьми высокого образования; В этой же среде вертелось немало военных авантюристов вроде итальянца Корадини, о котором ходило много необыкновенных рассказов, или офицера Переяславского полка Ковако – изобретателя электрической машинки для охоты на медведей.
Война 1877–1878 гг
В Турецкой войне 1877–1878 гг. я уже участвовал лично, в чине поручика, и был полковым адъютантом Тверского драгунского полка.
В 1876 году мы стояли в своей штаб-квартире в урочище Царские Колодцы, Сигнахского уезда, Тифлисской губернии. Много было толков о войне среди офицеров, которые ее пламенно желали. Однако никто не надеялся на скорое осуществление этой надежды. В особенности нетерпеливо рвались в бой молодые офицеры, наслушавшиеся вдоволь боевых воспоминаний от своих старших товарищей, участвовавших в Турецкой войне 1853–1856 гг. и в кавказских экспедициях. И вдруг 2 или 3 сентября была получена командиром полка телеграмма начальника штаба Кавказского военного округа, в которой предписывалось полку немедленно двинуться через Тифлис в Александропольский лагерь. Трудно описать восторг, охвативший весь полк по получении этого известия. Радовались предстоящей новой и большинству незнакомой боевой деятельности (все почему-то сразу уверовали, что без войны дело не обойдется); радовались неожиданному перерыву в однообразных ежедневных занятиях по расписанию; радовались, наконец, предстоящему, хотя бы и мирному, походу, который заменит собою скучную до приторности штаб-квартирную казарменную жизнь.
Часто впоследствии, когда приходилось переносить разные тяжкие невзгоды, вспоминалась нам наша штаб-квартира в радужном свете, но в то время, я уверен, не было ни одного человека в полку, который не радовался бы от всего сердца наступившему военному времени.
Впрочем, нужно правду сказать, что едва ли кто-либо был особенно воодушевлен мыслью идти драться за освобождение славян или кого бы то ни было, так как целью большинства была именно самая война, во время которой жизнь течет беззаботно, широко и живо, денежное содержание увеличивается, а вдобавок дают и награды, что для большинства было делом весьма заманчивым и интересным.
Что же касается низших чинов, то, думаю, не ошибусь, если скажу, что более всего радовались они выходу из опостылевших казарм, где все нужно делать по команде; при походной же жизни у каждого – большой простор. Никто не задавался вопросом, зачем нужна война, за что будем драться и т. д., считая, что дело царево – решать, а наше – лишь исполнять. Насколько я знаю, такие настроения и мнения господствовали во всех полках Кавказской армии.
6 сентября полк, отслужив молебен, покинул свою штаб-квартиру в составе четырех эскадронов; нестроевая же рота была оставлена в Царских Колодцах впредь до особого распоряжения, потому что все тяжести были оставлены на месте за неимением средств поднять их своими силами. Полковой обоз был у нас в блестящем состоянии, так как стараниями нашего бывшего полкового командира барона Мейендорфа были изготовлены фургоны, как у немецких колонистов, на прочных железных осях; но у нас по мирному времени было всего пятнадцать подъемных лошадей, да и то весьма незавидных, а потому пришлось двинуться с места с помощью обывательских подвод и нагрузить строевых лошадей походными вьюками, забрав притом лишь самое необходимое на ближайшее время.
Стодвадцативерстное расстояние от Царских Колодцев до Тифлиса полк прошел в трое суток и в Тифлисе имел две дневки. После первого же перехода было обнаружено много побитых спин у лошадей; по прибытии в Тифлис оказалось, что побиты спины чуть ли не у половины лошадей полка, хотя большинство из них отделались небольшими ссадинами на хребте, у почек; эти ссадины скоро прошли бесследно. Виною была, конечно, малая сноровка людей, которые не умели ловко укладывать вещи в чемоданы и, приторачивая их к задней луке, недостаточно подтягивали, а кроме того, сами на походе болтались в седле.
Командир 1-го эскадрона майор князь Чавчавадзе просил и получил разрешение вместо чемоданов сделать своему эскадрону подушки, которые набивали вещами и клали на ленчик под попоной. Такой способ возки вещей практиковался во время Кавказской войны во всех наших драгунских полках и был перенят у казаков. Другие эскадроны последовали примеру 1-го эскадрона, и мы всю кампанию проходили с такой укладкой вещей, оказавшейся действительно весьма практичной и удобной.
Лошади, не втянутые заблаговременно в работу, при первых относительно больших переходах в сильную жару (как упомянуто выше, мы прошли 120 верст в три перехода, без дневок, в обыкновенное же время проходили это расстояние в пять переходов с двумя дневками) спали с тела, осунулись.
Я остановился на этих мелочах потому, что тут немедленно сказалось неправильное обучение всадников и лошадей в мирное время, то есть погоня за красотой и блеском в ущерб боевому делу. Тому были виною не командир полка и не эскадронные командиры, которые, будучи старыми кавказскими офицерами, не могли симпатизировать таким приемам обучения, но, поневоле покоряясь требованиям свыше, с досадою отбрасывали боевой опыт и заменяли его обучением плацпарадным замашкам, которые всегда были так противны кавказцам. Результаты мирного воспитания нашего, как я упомянул, сказались тотчас же; потом нам пришлось пожинать еще много плодов этого воспитания и уже во время войны учиться и учить старым сноровкам, брошенным по приказанию и потребовавшимся снова, как только мы столкнулись с боевой деятельностью.
9 сентября эшелон, состоявший из нашего полка и 5-й пешей батареи Кавказской гренадерской дивизии, двинулся из Тифлиса по Делижанскому шоссе в город Александрополь, куда и прибыл, согласно предписанному маршруту, 26 сентября.
На первом переходе батарея пошла между дивизионами драгун, хотя неприятеля, конечно, и предвидеться не могло около Тифлиса, да еще в мирное время. При таком порядке не замедлила подтвердиться пословица, что пеший конному не товарищ: пешая батарея совсем заморилась и все-таки отставала от головного дивизиона, который постоянно должен был останавливаться, чтобы дать подтянуться колонне; задний же дивизион шел черепашьим шагом. К счастью, со второго перехода был изменен порядок движения, и батарея пошла отдельно; полк же старался развить шаг лошадей и достиг того, что, подходя к Александрополю, мы легко делали около семи верст в час, причем было обращено строгое внимание на то, чтобы хвост каждого эскадрона не рысил и не смел оттягивать. Шли мы без мундштуков, на трензелях.
В Александрополе нас встретил и пригласил к себе на обед, как офицеров, так и нижних чинов, 154-й пехотный Дербентский полк, у которого мы и пировали почти целую ночь. Нечего говорить, что как большинство тостов, так и все разговоры были на тему «война», которую мы надеялись предпринять осенью же. Обычай встречи и угощения прибывающей воинской части какой-либо другой частью твердо укрепился тогда в кавказских войсках; такие две части называли себя кунаками, то есть друзьями. Обычай этот имеет великий смысл в боевом отношении, так как такие части-кунаки не только не покинут друг друга в бою, но и приложат все силы, чтобы помочь друг другу и выручить, будь то на поле брани, в походе или в лагере.
В начале октября был отдан приказ о сформировании действующего корпуса на кавказско-турецкой границе и о назначении командующим корпусом генерал-адъютанта Лорис-Меликова. В день своего прибытия он произвел войскам лагеря тревогу, а после церемониального марша собрал вокруг себя всех офицеров и сказал соответствующую случаю речь. Мы ей очень обрадовались, так как, во-первых, могли из нее заключить, что дело положительно клонится к войне, которой мы очень желали, а во-вторых, нам было объявлено о выдаче полугодового оклада жалованья сверх нормы и о переходе на довольствие по военному положению.
Вскоре после того кавалерия действующего корпуса получила новую организацию: Кавказская кавалерийская дивизия, состоявшая из четырех драгунских полков, была расформирована, и были составлены три сводные кавалерийские дивизии. 1-я и 3-я дивизии состояли из одного драгунского и четырех казачьих полков, а 2-я – из двух драгунских и трех казачьих. Начальником кавалерии был назначен генерал-майор князь Чавчавадзе, а начальниками дивизий: 1-й – свиты его величества генерал-майор Шереметьев, 2-й – генерал-майор Лорис-Меликов и 3-й – генерал-майор Амилахвари (3-я дивизия была в Эриванском отряде).
Одновременно с этим было приказано усиленно готовиться к зимней кампании. Началась усиленная покупка полушубков для нижних чинов, насколько мне помнится, по высокой цене и с большими затруднениями. Интендантство же доставило в наш полк всего лишь около ста полушубков довольно плохого качества. Началась также покупка обозных лошадей для укомплектования их по военному времени; на каждую обозную лошадь отпущено было казной 100 рублей, и покупка этих лошадей не составила никакого затруднения.
26 октября объявлена была дислокация войск действующего корпуса для расположения на зимних квартирах.
1-й кавалерийской дивизии выпало на долю зимовать в духоборских селениях и армянских аулах пограничного Ахалкалакского уезда. Тверской драгунский полк, вошедший в состав этой дивизии, выступил из Александрополя 29 октября и прибыл на свои зимние квартиры 1 ноября.
На зиму полк разместился в трех духоборских деревнях. Стоянка была сносная в отношении расположения людей и лошадей, но по причине сильных холодов и метелей, а главное, по привычке добиваться тучных тел у лошадей, в ущерб их выносливости и силе, проездки не делались. Рассуждали так: будет война или нет – бабушка надвое сказала, а, во всяком случае, на военном смотру лошадей нужно показать наподобие бочек, а то, пожалуй, въедет порядком. Такой взгляд совершенно не разделял наш новый начальник дивизии, но его требования были нам еще мало известны. Эскадронные командиры не могли так быстро переменить привычек, усвоенных в мирное время, и хотя на словах вполне соглашались с мнением, что лошадь, хорошо кормленная, требует и хорошей езды, но на деле как-то так выходило, что друг перед другом они не могли не хвастаться телами лошадей и старались перещеголять других в этом именно направлении.
Тут еще раз наглядно подтвердилась истина, о которой так много говорят и пишут и которая все-таки забывается по миновании необходимости: в мирное время от войск нужно требовать непременно и исключительно только того, что необходимо им в военное время. Эта забывающаяся истина впоследствии очень часто напоминала о себе, и много раз мы проклинали наши мирные методы обучения.
К январю 1877 года полк был приведен в материальном отношении в блестящее положение. Оставшаяся часть полкового обоза и необходимые тяжести прибыли к полку из Царских Колодцев в декабре, так что мы могли тронуться в поход по данному приказанию тотчас же.
1 апреля, по телеграмме командующего, полк выступил в Александрополь усиленным маршем, в два перехода. Погода была ненастная; громадные сугробы таявшего снега препятствовали движению обоза, Поэтому полк, прибывший своевременно к месту назначения, два дня оставался без обоза. К этому же времени все войска главных сил были стянуты к Александрополю. 11 апреля, хотя нам никто ничего не объявлял, разнесся слух, что 12-го будет объявлена война и что мы в ночь на 12-е перейдем границу. В 7 часов вечера весь лагерь, по распоряжению корпусного командира, был оцеплен густой цепью с приказанием никого в город из лагеря не выпускать, а затем в 11 часов вечера все полковые адъютанты были потребованы в штаб корпуса, и там нам продиктовали манифест об объявлении войны и приказ командующего корпусом, в котором значилось, что кавалерия должна перейти границу в 12 часов ночи. Так как оставалось всего полчаса до 12 часов, то я поскакал в свой лагерь для объявления этой новости. Я застал лагерь уже собранным и всех готовившимися к выступлению. Кто, когда и как успел это объявить – оказалось невозможным узнать; сам командир полка полковник Новрузов удивлялся, почему полк собирается.
Выступили мы в 12 часов ночи и быстро подошли к турецкой казарме, стоявшей на правом берегу Арпачая. Ночь была темная. Река оказалась в полном разливе. Мы переправились частью вброд и частью вплавь. Турки крепко спали, и нам стоило больших усилий разбудить их и потребовать, чтобы они сдались в плен. После некоторых переговоров турки, видя себя окруженными, исполнили наше требование и сдались без единого выстрела вместе со своим бригадным командиром. Другая наша колонна так же успешно выполнила возложенное на нее поручение. Мы взяли тогда в плен больше сорока сувари (турецкие драгуны) и сотню турецкой конной милиции со значком.
Сделав около 60 верст в первый день перехода границы, полк остановился на ночлег в селе Кизил-Чах-Чах. После этого 1-я Кавказская кавалерийская дивизия, в состав которой мы входили, начала снимать неприятельские посты по Арпачаю, не удаляясь внутрь страны. К вечеру стало известно, что турецкий отряд из трех родов войск стоит верстах в двадцати от нас. Начальник дивизии послал разведку в сторону противника, а дивизию расположил биваком около какого-то турецкого селения, названия которого я не помню. К пяти часам утра, когда нам приказано было выступить, разведка точно выяснила, что турецкий отряд со своего бивака снялся и спешно отступил к Карсу. Мы двинулись за ним, но догнать его не могли.
Подойдя к Карсу, мы узнали, что значительный отряд турецких войск выступил из Карса в Эрзерум и что с этим отрядом ушел главнокомандующий Анатолийской армией Мухтар-паша. Обойдя вокруг крепости Карс, на что потребовалось много времени, мы погнались за Мухтар-пашой. Взяли много отставших турецких солдат, часть их обоза, но догнать самый отряд не могли и заночевали у подножия Саганлукского хребта, с тем чтобы на другой день вернуться к Карсу. В окрестных селениях турки встречали наши войска угрюмо и молча, армяне же с восторгом. Когда мы выступили из Александрополя, у нас было взято на двое суток сухарей и больше ничего. А так как шли уже третьи сутки после нашего выступления, то приказание «растянуть» не могло быть выполнено, ибо уже все сухари были съедены. Лазаретный фургон и обоз сбились с дороги и попали в руки шайки башибузуков, которые убили и изуродовали нескольких солдат. Все эти жертвы были ни к чему, так как Мухтар-паша успел удрать в горы и скрылся в лесу. Ночью был сильный холод, огней разводить не позволяли, и мы были очень злы. Вместо Мухтар-паши взяли нескольких отставших пленных с оружием, часть обоза и патронных ящиков.
На рассвете следующего дня выступили обратно, но, проходя мимо карсских укреплений, наткнулись на засаду, намеревавшуюся преградить путь к нашим главным силам. При стычке, насколько мне помнится, мы потеряли одного или двух солдат, засаду опрокинули и вернулись к востоку от Карса, где встретились с нашей пехотой. Помнится мне, 26 апреля было донесено главному командованию, что большие стада быков пасутся за северным фронтом Карса. Туда была отправлена бригада кавалерии, состоявшая из Тверского полка и, кажется, казачьего Горско-Моздокского. Скота мы не нашли, но зато встретились с производившим вылазку из Карса турецким отрядом, состоявшим из пехоты, артиллерии и кавалерии. Турецкая пехота цепями начала наступать на нас. Наш полк спешился и открыл по ней ружейный огонь. Тогда турки открыли орудийный огонь. У нас появились убитые и раненые офицеры и солдаты. Ввиду наличия перед нами значительных турецких сил приказано было отступать, посадив спешенные части опять на лошадей.
Я ехал за своим полковым командиром, шагах в десяти от него, как вдруг со страшным воем неприятельский снаряд упал между командиром полка и мною и разорвался. Лошадь полковника Новрузова сделала большой скачок, оборвав все четыре повода, понесла его и врезалась в третий эскадрон, где ее и словили. Моя лошадь от испуга опрокинулась навзничь, и я вместе с ней упал на землю. Затем она вскочила и ускакала. В это время весь наш отряд тронулся рысью, и я, чтобы не попасть в плен, побежал по пахотному полю. Когда я увидел моего трубача, изловчившегося поймать мою лошадь, я несказанно обрадовался, быстро вскочил на нее и понесся догонять свое начальство. На этом, собственно, и кончился наш бой с турками, вернувшимися в Карс.
Постепенно Карс охватывался нашими войсками, и скоро мы его обложили со всех сторон. Вскоре подвезли осадную артиллерию, и началась первая осада крепости.
Время это для нас было очень беспокойное. Ежедневно турки делали вылазки; тогда кавалерию вызывали вперед, и мы должны были на рысях в разомкнутом порядке доходить под сильным артиллерийским огнем до ближайших фортов, никогда не сталкиваясь с неприятелем, теряли при этом людей и возвращались назад. Помнится мне следующий случай. Некий майор Артадуков, увидев неприятельскую батарею, стоявшую на открытом поле, развернул свой дивизион и, бросившись на нее в бешеную атаку, прогнал ее, но доскакать до батареи вплотную не смог, так как перед ней оказалась громаднейшая балка с очень крутыми берегами, по которым он спуститься не мог. Увидев, что батарея удирает и, таким образом, цель достигнута, он скомандовал: «Повзводно налево кругом!» Во время этого поворота крепостная граната из Карса попала во взвод эскадрона, причем были убиты все лошади взвода, но ни один человек не был ранен. Граната, ударив по голове правофланговой лошади и спускаясь ниже, у последней лошади во взводе оторвала копыто. Я никогда более такого случая в жизни не видел.
Мы называли эти вызовы кавалерии к Карсу «выходами на бульвар», и этот «бульвар», признаться, нам порядочно надоел.
Вскоре наш полк переместился с восточной на западную сторону Карсской долины. В это же время двинули и отряд, состоявший, насколько мне помнится, из Кавказской гренадерской дивизии, 2-й сводной казачьей дивизии с соответствующей артиллерией, на Саганлукский хребет по дороге в Эрзерум против турецкого отряда, шедшего для выручки Карса. Наша атака при Зевине оказалась неудачной, и наши войска стали отступать.
Когда я думаю об этом времени, я всегда вспоминаю забавный и вместе с тем печальный эпизод с талантливейшим корреспондентом петербургской газеты (кажется, «Нового времени») Симборским. Он приехал в Кавказскую армию воодушевленный лучшими намерениями. Завоевал все симпатии своими горячими, прекрасными корреспонденциями, своим веселым нравом и остроумием. Но после неудач у Зевина нелегкая дернула его написать экспромтом стихи по этому поводу. Они стали ходить по рукам и всех нас несказанно веселили. Вот эти стихи, насколько я их помню:
Чертова дюжина
Под трубный звук, под звон кимвалов
В кровавый бой, как на парад,
Пошли тринадцать генералов
И столько ж тысячей солдат.
Был день тринадцатый июня;
Отпор турецкий был не слаб:
Солдаты зверем лезли втуне —
Тринадцать раз наврал наш штаб.
Под трубный звук, под звон кимвалов
С челом пылающим… назад…
Пришли тринадцать генералов,
Но… много менее солдат…
Громы и молнии понеслись на бедного Симборского от высшего начальства. Особенно был обижен генерал Гейман, отличившийся под Ардаганом и сплоховавший под Зевином. Симборский во время одной пирушки опять обмолвился по его адресу:




