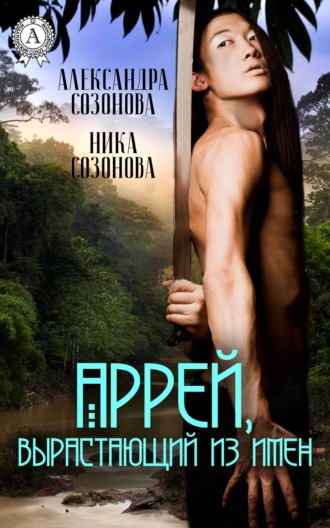
Александра Созонова
Аррей, вырастающий из имен
Дью заперли в полуразвалившейся хижине – той самой, где жил когда-то несчастный Хосса. Она пустовала, так как никто не хотел селиться в доме вора, отравившего своим презренным дыханием стены и потолок. Мальчик должен был сидеть взаперти, пока старики племени, посовещавшись, не решат его участь. Охраняли преступника двое – Хлещ Свистящий Сурок и Утто Цепкие Пальцы – самые никчемные члены племени, не блещущие ни на охоте, ни в битве, и в этом мальчик видел для себя особое унижение.
Дью лежал на земляном полу, холодном и жестком. В хижине не было ни лавок, ни тюфяка, ни даже облезлой шкуры, которую можно было бы подстелить под спину. (Все вещи Хоссу сожгли, так как они также были заражены презренным дыханием.) От нетопленных ветхих стен тянуло сыростью.
Снова и снова сын Огдая прокручивал в голове тот миг, неизбежный миг недалекого будущего, когда короткий взмах меча лишит его правой руки. Отрубит выше локтя – такую живую, теплую и сильную, с синим узором вен, со смуглым загаром, подрагивающую на запястье от толчков крови… Должно быть, будет зверски больно. Мать перетянет ремнем обрубок, чтобы не вылилась вся кровь. Вряд ли она скажет ему хоть слово на прощанье. Нет большего позора для дорийской женщины, чем родить труса, предателя или вора. Позор свой Грунн понесет молча и мужественно, как сносит все прочие удары судьбы. Мать перевяжет его, положит в кожаную сумку хлеб и сыр, и Дью побредет неизвестно куда – одинокий понурый калека. Он станет вымаливать у встречных остатки их обеда, а те будут отталкивать его с насмешками и презрением, ведь кровавый обрубок ясно покажет, что перед ними воришка. И все это из-за Вьюхо. Из-за колдуна с черной душой и смрадным сердцем, будь он трижды проклят! Будь он четырежды, будь он сотню раз проклят!!!
Помимо бессильной ненависти к Вьюхо, мальчика трясла жестокая обида на Пэди. Неужели он не мог покричать подольше? Неужели это так трудно: вопить и подпрыгивать животом вверх на тюфяке? И наконечники, и свистульку, и свое покровительство и защиту в драках пообещал ему Дью, а он… Пусть только встретится ему этот сопляк где-нибудь и когда-нибудь! Уж он сумеет отплатить за предательство!..
Если бы Дью мог узнать, отчего мальчик перестал кричать раньше времени, ему стало бы легче. Но некому было рассказать, что Вьюхо, лишь только взглянул на орущего ребенка, сразу же догадался о притворстве. Он влил в распахнутую глотку Пэди изрядную порцию снотворного отвара, и мальчик тут же стих, прикрыл глаза и засопел носом. Важно и торжественно старик сообщил родителям, что злой демон, грызший внутренности ребенка, изгнан им и больше не вернется, и те, обрадованные и благодарные, вручили ему прозрачный камень величиной с орех и новенькую шкуру росомахи.
«Попадись мне только этот предатель, – с мстительным вдохновением твердил про себя Дью, – уж я ему задам! Уж я отплачу! Рука моя устанет гулять по его тощей шее! Рука… Какая рука? Левая? А хоть бы и левая!» – яростно нахлестывал он сам себя. Не будет он нищим попрошайкой – он, Дью, сын Огдая Серебряная Рука! Он выучится владеть мечом левой рукой не хуже, чем правой. Он будет разить врагов без промаха и без устали. Станет знаменитым воином, грозой нурришей. Слава о нем побежит впереди него, как глупая и восторженная собачонка. Он вернется в родные места, израненный и немногословный, и Хиваро выйдет ему навстречу и введет в круг самых достойных и уважаемых воинов. А Вьюхо… Только бы старый колдун не умер своей смертью к тому времени! Только бы дождался его мести!..
Яростно-сладкие мечты прервал звук открывающейся двери. Дью приподнялся и встретил вошедшего взглядом брошенного в клетку волчонка. Навстречу кротко и сочувственно засветились глаза Найи, шестнадцатилетней невесты погибшего Крея.
– Чего тебе? – буркнул Дью.
– Я принесла лепешки и молоко, – девушка поставила на пол глиняный кувшин и положила завернутые в листья лопуха теплые лепешки. – Старый Хиваро велел мне сделать это. Мужчины совещаются с утра, но они всё еще не решили, какое наказание тебе вынести.
Лицо Найи с заостренным подбородком и бледными губами было печальным и слегка походило на мордочку симпатичной летучей мыши. Не хватало только больших мягких ушей и перепончатых крыльев за плечами. Она часто моргала, как делала всегда, когда грустила или волновалась. Трепет тяжело нависающих над глазами ресниц напомнил мальчику коричневую бахрому крыльев ночной бабочки.
Найя Птичье Дыхание… Настоящие имена давались девочкам раньше, чем мальчишкам. Не в пятнадцать лет, но в тринадцать-четырнадцать. Как только те подрастали настолько, что обретали способность иметь собственных детей. И одаряли именем не старики, но женщины – главным образом мать, учитывая советы подруг. Птичье Дыхание! – метко, ничего не скажешь. Не верилось, что в жилах Найи текла дорийская кровь – слишком тиха и пуглива, и совсем незаметна среди прочих девчонок и девушек. И что только Крей в ней нашел? Вечно моргает и вздрагивает от громкого голоса или крика. Говорит еле слышно, а глаза такие большие, что трудно, должно быть, прищуривать их, стреляя из лука. А сколько пыли и цветочной пыльцы, наверное, заносит в них ветер!
Дью отпил глоток из кувшина и скривился, словно молоко было прокисшим. Лепешки он даже не развернул, но лишь презрительно щелкнул по лопуху пальцами.
– И чего им так долго обсуждать? Наверное, никак не могут договориться, кто из них будет рубить мне руку. Каждый кричит: «Я! Я это сделаю!»
– Вовсе нет, – Найя покачала головой. – Они спорят не из-за этого. Хиваро уговаривает не рубить тебе руку и не изгонять из селения. Ты ведь знаешь, как уважают все старого Хиваро. Обычно всегда поступают так, как предлагает он. Когда он велел мне отнести тебе молоко и лепешки, он тихонько шепнул: «Скажи ему, пусть безрассудный волчонок не унывает раньше времени! Я попытаюсь спасти его руку для будущих славных дел».
Надежда вспыхнула было в сердце мальчика, но тут же погасла.
– Он не сумеет уговорить их! – угрюмо возразил Дью. – Старика Вьюхо уважают не меньше, а уж он-то постарается, чтобы меня искалечили и вышвырнули прочь.
– И все-таки не отчаивайся! – участливо попросила Найя.
Она неожиданно нагнулась к нему и провела ладонью по вороным волосам на макушке. Дью, пробурчав что-то нечленораздельное, отшатнулся. Теплые девчоночьи руки смутно взволновали и рассердили его.
Сын Огдая вспомнил, что Найя уже касалась его однажды. Это было, когда застылое тело Крея положили на голые камни на вершине скалы. Найя, стоявшая рядом, вдруг вцепилась ему в плечо, и теплые слезы прожгли шею. Тогда он не сразу вырвался из ее рук, а чуть помедлив, хотя и было мучительно стыдно, что девчонка обнимает его, да еще на виду у всех.
«Крей, Крей, – повторяла она не слушающимися губами. – Зачем ты так, Крей?… Попробуй подняться, пошевелись!.. Не оставайся здесь… Тебе будет холодно…»
Дорийские женщины не плачут по своим убитым. Сдержанные горцы считают влагу из глаз непростительной слабостью, по какому поводу она бы ни проливалась. Но слезы Найи не раздражали даже самых суровых мужчин – такой она казалась девчонкой, несмотря на свои шестнадцать. Хрупкой, слабой, надломленной, словно цветок на речной луговине, по которой промчалась вскачь конница.
Ни для кого не было секретом, что Крей и Найя договорились связать свои жизни сразу же, как Крей испытает себя в настоящей битве. И Крей испытал. Он выдержал испытание, как подобает мужчине, но вместо свадебного пира его ждало пиршество хищных птиц на голой макушке скалы.
– Послушай, Найя, – Дью повернулся к ней, охваченный порывом доверия. – Клянешься никому не говорить того, что я скажу тебе сейчас?
– Клянусь Рургом, – очень серьезно ответила девушка.
– Крей не умер. Он жив.
Найя тихо вскрикнула. Глаза распахнулись так, что казалось, всё остальное худенькое, заостряющееся книзу лицо куда-то исчезло.
– Но как же?! Я ведь сама видела. И разве не ты, Дью, помогал относить его тело?…
Мальчик, придвинувшись ближе, очень коротко, в двух словах рассказал о невероятных событиях, приключившихся с ним в последние дни.
– Крей не умер. Но он и не жив, – так закончил он торопливый рассказ. – Если не вернуть ему отобранную искру – хоть я и не знаю, на что она похожа и для чего она вообще, – он навсегда останется рабом проклятого колдуна. Эти искры я и пытался найти в хижине Вьюхо, когда он объявился на пороге и заорал, что я вор. Теперь ты понимаешь, что злобный старик настоит на том, чтобы мне отрубили руку и выгнали прочь. Он боится меня и оттого пойдет на всё, чтобы навсегда избавиться.
Найя сразу поверила. Наверное, ей очень хотелось, чтобы Крей оказался жив, поэтому она поверила беспрекословно, жадно и сочувственно вникая во все детали рассказа, даже самые невероятные. (Правда, о Шеуде, жалея ее рассудок, сын Огдая упоминать не стал.)
– О Дью! Он мне никогда не нравился, этот старик! Мне всегда казалось, что вместо глаз у него крючья, которыми он сдирает с меня и одежду, и даже кожу. Хотя он всегда так сладко, так ласково говорит со мной. «Моя большеглазая зверушка… Птичка нежноголосая…» Но ведь надо рассказать о нем всем! Мужчины схватят его и заставят вернуть искры. И Крей вернется!
Дью усмехнулся с горечью.
– Если уж даже Хиваро, который мало похож на круглого дурака…
Его прервал вломившийся в хижину охранник – разъевшийся и неповоротливый Хлеш, чьи кожаные одежды с трудом сходились на объемистых боках.
– Ты что, беспутная девчонка, не знаешь, что с ворами нельзя разговаривать?! – набросился он на девушку. – Хочешь заразиться от его дыхания и тоже стать нечистой на руку? А ну, прочь отсюда!
– Оставь ее! – захохотал появившийся из-за спины Хлеша долговязый Утто. – Неужели не понимаешь: она хочет наобниматься с ним напоследок, пока он еще может делать это двумя руками!
– Понимать-то я понимаю! – ответно захохотал Хлеш, трясясь всем телом. – Но все-таки пусть выматывается отсюда поскорее! К тому же руки в этом деле – не главное. Когда мы вышвырнем его из селения, пусть любезничает и развлекается с ним, сколько захочет, где-нибудь на зеленой травке!
Найя залилась густым румянцем. Покраснели даже шея и ключицы. Она затравленно переводила глаза с одного из гогочущих мужчин на другого.
– А ну, заткнитесь, вы! – крикнул Дью, вскочив на ноги и сжав кулаки. – Пошли вон отсюда!
– Ого! Ты показываешь зубки, щенок? – Хлеш перестал хохотать и уставился на мальчика, изображая крайнее удивление. – Недолго тебе осталось хорохориться! Скоро ты подожмешь хвост и будешь скулить, умоляя о прощении, презренный воришка! А ты, – повернулся он к Найе, – быстро же ты забыла своего жениха! И на кого ты его сменила, жалкая дурочка…
– Дурочка, полная дурочка! – согласился Утто, покачивая длинноносой головой.
Найя, всё такая же бордовая, стрельнув в охранников сузившимися от негодования глазами, неожиданно выпалила:
– Уж наверное, я буду слушаться не вас, неотесанные наглецы, а старого Хиваро! Это он велел мне не уходить, пока пленник не съест всего, что я ему принесла – чтобы не мог уморить себя голодом, прежде чем получит заслуженную кару! Это он велел мне разговаривать с ним, чтобы он проболтался, что именно хотел стащить у Вьюхо! А ну, прочь отсюда!
Охранники, опешившие от дерзости и напора, так не вязавшихся с робким обликом девушки, раскрыли рты. Первым опомнился Утто:
– Ну, если Хиваро велел, то конечно… Мы ведь не знали. Мы думали, ты просто любезничаешь тут с ним. Ведь с ворами нельзя…
– Как будто я без вас этого не знаю! А ну, убирайтесь, живо! Он еще не всё съел.
Дью метнул на девушку удивленно-одобрительный взгляд.
Мужчины, благоразумно решив не навлекать на себя гнев старого Хиваро, вывалились наружу и закрыли дверь.
– Послушай, – зашептала мальчику Найя, – тебе надо отсюда бежать! Хиваро ведь может и не уговорить мужчин не отрубать тебе руку. Но даже если уговорит, тебя все равно накажут, хоть и по-другому!
– Ты думаешь, я не пытался?! Самое первое, что сделал, когда меня швырнули сюда, – обшарил весь дом. Глухо! Печная труба заколочена, дверь и окно стерегут. Даже если я превращусь в крысу, мне не удастся отсюда выскочить!
– Но я помогу тебе! – горячо предложила девушка. – Ты убежишь, а потом мы встретимся с тобой в месте упокоения, и ты проведешь меня к Крею.
– Поможешь? Мне?… – усмехнулся Дью. – Интересно, как?
– Очень просто! Я выйду отсюда и отошлю Утто в хижину, где спорят мужчины. Скажу, что у Хиваро есть к нему важное поручение. Как только он уйдет, начну заговаривать Хлешу зубы. Он не слишком-то умен, это все знают! Ты в это время тихонько выскользнешь за моей спиной. Если Хлеш тебя заметит, я схвачу его за руку, кинусь под ноги, придумаю еще что-нибудь. Ты уж сумеешь за это время убежать!
Глаза у Дью разгорелись, а сердце сильнее забилось в груди.
– Пожалуй, Крей не зря собирался сделать тебя своей женой! И я напрасноего отговаривал!
Найя опустила глаза. Помедлив, она подалась к двери.
– Ну, так я начинаю!..
– Подожди! – сын Огдая схватил ее за плечо.
Новое соображение, пришедшее в голову, перечеркнуло всю радость. Если ему удастся вырваться отсюда, то Найю-то схватят наверняка. И что будет с ней? По неписаным дорийским законам тот, кто помог преступнику избавиться от наказания, подвергнется этому наказанию сам. Найе отрубят руку и вышвырнут за пределы селения. Конечно, она сама предложила ему бежать, значит, отвечает и за все последствия, но… Но получить свободу ценой чужой отрубленной руки ему почему-то не хочется. Да и что скажет ему Крей, если вернет когда-нибудь назад свою искру? Что скажет Крей, не найдя невесты или, еще хуже, встретив ее где-нибудь без руки?…
– Нет, Найя. Женщины очень глупы. Не могу понять, как Крею пришла в голову мысль жить с тобой в одном доме. Ты даже не подумала о том, что, если я убегу, тебе отрубят руку вместо меня.
– Но я тоже убегу! – пылко воскликнула девушка. – Я очень ловкая и быстрая, я вырвусь от них! А потом мы вернемся с Креем и всё объясним.
– Нет и нет! – отрезал мальчик. С женщинами надо всегда говорить коротко и сурово, даже если тебе только тринадцать. – Уходи, Найя. Можешь поговорить с Хиваро, если он станет тебя слушать. Но вряд ли из этого что-нибудь выйдет. С Креем встречаться тебе сейчас незачем. Эта встреча тебя не обрадует, можешь мне поверить.
– Обрадует! – возразила девушка.
Дью не ответил. В молчании он выпил всё молоко и протянул ей кувшин.
– Уходи, – коротко повторил он.
– Обрадует! Очень обрадует, Дью! – умоляюще прошептала Найя.
Крылья ночной бабочки затрепетали быстро-быстро. Благодаря их взмахам, слезы не выкатились из глаз, но удержались.
Не глядя на нее и не дожидаясь, пока за ней захлопнется дверь, сын Огдая снова растянулся на земляном полу, стиснув зубы и сведя брови к переносице.
* * *
Всё племя – мужчины, женщины, подростки – высыпали из домов и собрались на холме возле Черной Ели. Черная Ель была когда-то обычным деревом, но в незапамятные времена в нее попала молния, превратив в обугленный столб. Это было сочтено прямым указанием Рурга (а то и самого Яйо) на священность дерева и места. У Черной Ели когда-то отрубали правую руку Хоссе.
У сожженного дерева, едва не касаясь лбом черного ствола, стояла Грунн. Мужчины, сторожившие Дью в хижине Хоссы, теперь высились по его бокам, сжимая рукояти мечей. Сын Огдая почувствовал невольную гордость: его охраняют, словно могучего и опасного врага! Впрочем, гордость была мимолетной и быстро сменилась горечью и нетерпением. Долго они будут тянуть? Скорей бы уж говорили о предназначенном ему наказании! Скорей бы уж взмахнули мечом… Правая рука от плеча до запястья была странно онемевшей – словно уже не своей.
Дью почувствовал, как что-то мохнатое ткнулось ему в колено. Чарр! Верный щенок, чуя неладное, крутился у ног и тихо поскуливал.
– Замолчи, Чарр! – строго прошептал ему мальчик. – Сиди тихо, или тебя вышвырнут далеко-далеко.
Чарр послушно съежился у его ступней лохматым черным комком. Он больше не скулил, но трясся крупной дрожью, озираясь на собравшуюся вокруг Черной Ели толпу.
Старый Хиваро, одетый торжественно и чисто, словно то была не казнь, а праздник, поднял руку, призывая всех к молчанию. Разговоры, выкрики и смешки стихли.
– Братья мои, – медленно начал Хиваро, – нет нужды говорить, для чего мы собрались сегодня на этом священном, отмеченном Рургом месте. Дью, сын Огдая Серебряная Рука и Грунн Осенняя Буря, сын достойного, погибшего славной смертью воина и мужественной женщины, был уличен сегодня ночью в одном из самых позорных деяний на земле. Он попытался обокрасть всеми уважаемого Вьюхо Охотника за Невидимым. Все мы знаем, какое наказание полагается вору.
– Знаем, знаем… – глухо поддакнула толпа.
Где-то там, в этой толпе, были приятели Дью, была Найя, был маленький предатель Пэди. Интересно, они тоже бормочут: «Знаем, знаем», или все-таки молчат, уперев глаза в жухлую осеннюю траву?
– По законам нашего народа вору, посягнувшему на вещь соплеменника, отрубается правая рука, а сам он навсегда изгоняется из пределов селения. Так я говорю?
– Так! Так! – охотно откликнулась толпа.
– Мы всё это знаем, Хиваро! – раздался чей-то веселый голос. – Хватит болтовни! Приступай к делу!
– Не торопите меня, – с достоинством ответил старик. – С раннего утра до полудня обсуждали мы сегодня, подвергнуть ли Дью, сына Огдая и Грунн, казни, уготованной ворам, либо выбрать ему другое наказание.
– Другое? Почему другое?… – заволновалась толпа.
– Я объясню вам. Во-первых, Дью не вступил еще в возраст мужчины. Ему только тринадцать лет, и он ни разу не участвовал в испытаниях Крадущейся Рыси. Он не мужчина, но мальчик, не имеющий имени. Вправе ли мы наказывать его по всей строгости?
Голоса в толпе разделились.
– Вправе! Вправе! – кричали одни. – Если он вырос для ночных краж, значит, годится и для наказания! Младенцы и малые ребята не забираются по ночам в чужие дома! Он вырос, Хиваро! Вырос!..
– Пощади его, Хиваро! – кричали другие. – Он мал и глуп! Нельзя наказывать неразумных детей так же сурово, как взрослых!..
Дью с любопытством всматривался в лица соплеменников. Оказывается, очень интересно наблюдать, кто жаждет твоей казни, а кто жалеет и громко требует снисхождения. Жаль, что не всегда можно четко разобрать выкрики.
Многие женщины требовали сурового наказания. Многие мужчины, грозные и грубые, кричали, что он – неразумный ребенок. Вот странно! Приятели Дью просто свистели и прыгали, толкая взрослых локтями. Впрочем, кое-то из мальчишек орал во всю глотку: «Он вырос, вырос, Хиваро!» Вряд ли они делали это от злобы. Скорее, было просто любопытно взглянуть на захватывающее и редкое зрелище отсекания воровской руки.
– И второе, – переждав шум, продолжил Хиваро. – Вынося решение, мы не могли не учесть просьбу Вьюхо. Ведь именно его дом осквернил вор. Великодушное сердце Охотника за Невидимым не жаждет мести. Он просил нас не применять к мальчику суровых мер, которые искалечат всю его дальнейшую судьбу.
Дью отказывался верить своим ушам. Старик Вьюхо просил за него?! Его великодушное сердце не горит жаждой мести?!.. Как это понимать? Еще чуть-чуть, и у него лопнет голова – настолько трудно переварить услышанное.
Дью нашел глазами фигуру знахаря. Тот стоял в первых рядах толпы, скромно одетый, почти без камней и безделушек. Лишь черные перья ворона топорщились на морщинистой шее. Весь вид его выражал смирение и усталую доброту.
– Скажи это всем, Вьюхо, – попросил Хиваро. – Боюсь, что мне они не верят. Да и впрямь: трудно поверить, что тот, чей дом осквернил вор, может просить о снисхождении.
– Да, я прошу помиловать мальчика, – произнес Вьюхо с умильной и сокрушенной улыбкой. – Он еще очень неразумен, несмотря на ловкость охотника и крепкие мускулы. Его ум – ум ребенка. Конечно же, он не понимал, каким позором покрывает себя и свою достойную мать, забравшись ночью в чужой дом. Да, я прошу, я очень прошу вас его помиловать!
Рты приоткрылись у всех, не только у наивных юнцов и простодушных женщин. Помиловать! Вьюхо просит помиловать попытавшегося его обворовать! Подобные снисходительность и кротость были редки в этой суровой среде. Если бы просьбу помиловать обидчика произнес кто-нибудь иной, его могли бы засыпать насмешками. Но смеяться над знахарем никто не решился.
– Ну, раз Вьюхо просит… Пускай!.. Пусть мальчишке не рубят руку… Пусть не выгоняют… – заговорили, забубнили растерянные голоса.
– Конечно же, совсем безнаказанным его поступок оставить нельзя, – снова вступил Хиваро. – Посовещавшись, мы решили, что будет справедливо, если накажет вора тот, кто дал ему жизнь. Тот, кто должен был воспитать его таким, каким надлежит быть мужчине. Грунн, родившая Дью, должна будет нанести сыну десять ударов плетью.
Толпа согласно и удовлетворенно загудела:
– Правильно!.. Конечно!.. Раз нет отца, должна мать… Рука у Грунн крепкая, она справится!..
Десять плетей! Дью едва не подпрыгнул от радости, как сопливый мальчишка. Всего-навсего десять плетей! И рука его, теплая родная рука останется с ним! И племя не вышвырнет его из своих пределов! Сын Огдая изо всех сил втянул щеки и сдвинул брови, чтобы на лице не проступило лившееся через край ликование. Десять плетей!.. О Рург! О Пресветлый Яйо!..
Почувствовав настроение хозяина, лохматый Чарр воспрянул, встряхнулся всем телом и безудержно замахал хвостом. Дью легонько пнул его пяткой и шепнул:
– Живем, Чарр! Еще побегаем с тобой! Еще поохотимся!..
В руке у Грунн оказалась услужливо поданная ей плеть, которой обычно оглаживали непокладистых жеребцов. Охранники подвели Дью вплотную к стволу Черной Ели, грубым толчком заставили наклониться, стянули со спины одежду и привязали за руки. Повернув голову, мальчик исподлобья посмотрел на притихшую толпу. Его интересовало, впрочем, лишь одно лицо – сморщенное слащавое личико колдуна. Дью ожидал, что старик со злорадством вопьется в него белесыми глазками и будет сладко причмокивать от каждого удара. Но он ошибся. Вьюхо и не думал смотреть на поверженного и униженного врага. Прикинув направление взгляда, мальчик понял, что знахарь не сводит глаз с его матери.
Вж-ж-жик!.. Первый удар рассек спину. Дью не позволил себе не то что вскрикнуть, но даже поморщиться. Лишь мелькнула короткая, но горькая мыслишка, что уж родного и единственного сына можно было бы хлестать не с полной оттяжкой.
Мальчик не издал ни звука, но зато громко взвизгнул Чарр, словно удар достался его спине со вздыбленной на загривке шерстью. Один из охранников, жирный Хлеш, пинком отшвырнул собаку. Жалобный визг, перешедший в поскуливание, смешался в ушах мальчика со свистом следующего удара.
Второй был сильнее первого. Дью, едва не вывернув шею, оглянулся на мать. Ее побледневшие губы были закушены, а глаза… Глазами она вбирала в себя белесый взгляд старика.
О Рург! Неужели та сила и жестокость, с которой опускается плеть, тянется, как по невидимой ниточке, невидимой трубочке, из острых глазок, похожих на два белых когтя, обмакнутых в смертельный яд?… И это его мать! Не боявшаяся биться в одиночку с тремя нурришами, метким выстрелом попадавшая в глаз разбуженного среди зимы медведя… Его гордая, его строгая, его отважная Грунн!
Грунн подняла руку для третьего удара, но отчего-то медлила. Толпа зашелестела, недоумевая, что с ней случилось. В глазах вдовы Огдая, обращенных к знахарю, сверкнул гневный огонь, и занесенная рука опустилась. Грунн отбросила плеть и, ни слова не говоря, отошла прочь от Ели.
Перекрывая недовольный, осуждающий рокот толпы, заговорил Хиваро.
– Наказывать и карать – дело мужчин. Дело женщин – рожать, кормить и залечивать раны. Наверное, мы поторопились, заставив Грунн творить расправу над собственным сыном. У Дью нет отца, нет старших братьев. Но может быть, у него найдется родственник из мужчин, пусть не близкий, который мог бы вместо Грунн закончить начатое ею?
Родственник нашелся быстро. Толстый Хлеш вспомнил, что доводится презренному вору троюродным дядей. Похлопывая себя по ляжкам и подмигивая дружкам, он передал свой меч Утто и поднял с земли плеть.
– Тебе осталось восемь ударов, – напомнил Хиваро.
Вжик!.. Хлеш был не столько силен, сколько грузен, но хлестал покрепче матери. По силе и злобе ударов Дью чувствовал, что теперь взор Вьюхо направлен на услужливого родственника.
Вжик!.. Мальчик был уже на грани. Вот-вот он заскулит или взвоет, покрыв себя навеки позором. Чтобы этого не случилось, Дью, извернувшись, посмотрел в лицо колдуну и, чувствуя, как ненависть выжигает ему глаза и сдавливает горло, крикнул:
– Эй ты, жалкий и грязный колдун! (Вжик!..) Ты просил меня помиловать? (Вжик!..) Я плюю на твои милости, слышишь?! Клянусь Рургом! (Вжик!..) Я тебя уничтожу!..
Казалось ли то Дью, либо на самом деле с каждым его выкриком удары становились всё яростнее, но только тот, что последовал за «уничтожу!», обрушился с такой силой, что мальчик потерял сознание.
Полуочнувшись, словно сквозь мутную и душную пелену сна, он слышал голоса, витавшие вокруг – сокрушенные, сочувственные, злорадные, – и среди них ненавистный приторный говорок Вьюхо:
– Ну, разве так можно?… Так недолго засечь и до смерти… Ведь это же мальчик, а не рыжий нурриш… Ах, Хлеш, Хлеш… Если б ты был таким в битве!.. Но отойдите-ка все от него! Я попробую его вернуть…
Дью чувствовал, как на горящую спину льют потоки теплой воды, как кто-то из женщин забинтовывает ее мягкой тряпицей. Он ощущал на левой пятке торопливые влажно-шершавые прикосновения: видимо, Чарр таким образом пытался облегчить боль хозяина. Мальчику растирали виски, дышали на веки… Голоса становились всё отчетливее. Сын Огдая готов уже был открыть глаза и крикнуть насмешливо: «А я и не думал отправляться к предкам! Зря радуетесь!» Но не успел. Зубы его разжали острием ножа, и в рот влилась жгучая, горькая жидкость.
– Сейчас-сейчас, попробуем вытащить мальчика с того света… – бормотал ласковый голосок. – Если уж и это питье ему не поможет, тогда я не знаю… Тогда уж ничем не поможешь… Ах, Хлеш, не соизмеривший силы! Неужто твои удары оказались для бедного мальчика роковыми?…
Дью попытался выплюнуть горькое снадобье и крикнуть, что колдун поит его отравой. Но не смог. Яд проник в горло и заструился вниз, к желудку. Странное онемение разлилось по всему телу. Дью перестал чувствовать руки, ноги, пылающая болью спина отдалилась, уплыла куда-то… Только искра сознания шевелилась под лобной костью. «Вот что, должно быть, есть та самая искра Яйо, – вяло подумал мальчик. – То, что живет, когда всё остальное умерло».
* * *
Сын Огдая не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Не мог вздохнуть, не мог приоткрыть веки. Яд колдуна превратил все мускулы в холодный и безжизненный студень. Но он всё слышал и осознавал.
Он слышал, как говорила с ним мать.
Дорийские женщины не плачут. Даже если теряют единственных сыновей. Грунн сидела возле недвижного мальчишечьего тела так же недвижно. Порой она брала его холодную ладонь и держала в своей, словно надеясь отогреть, растопить застылую кровь. (Дью изо всех сил пытался шевельнуть пальцами, дать ей понять, что жив, – но даже пальцы, легкие и чуткие пальцы не слушались.)
– Отчего ты ушел, Дью? – спрашивала Грунн, нарушая черное, как беззвездная ночь, молчание. – На Пепельные Пустоши не уходят от десяти ударов плетью. Ты обиделся на меня за мои два удара и ушел? Но разве моя обида не больше? Мое горе больше. Мой позор не сравнить ни с чем на земле. Я дала жизнь вору.
Дью слышал, как к ней подходили мужчины и говорили, что тело мальчика нужно отнести в место упокоения. Нельзя держать тела умерших в селении слишком долго. Но Грунн не поворачивала к ним головы, и они уходили.
– Что ты будешь делать на Пепельных Пустошах, Дью? – спрашивала она. – Рург сажает с собой за пиршественный стол лишь тех, кто погиб славной смертью. Тебя он не позовет. И друзей у тебя там не будет. Не будет зеленых лесов для охоты, синей воды, в которую можно нырять с разбега. Не будет резвых коней и верной собаки…
– Зачем ты ушел? Ты ведь еще так молод. Позорное клеймо вора ты мог бы смыть кровью врагов, своей собственной кровью, пролитой на поле битвы. Отчего ты так поспешил, Дью? На Пепельных Пустошах не слышно звона мечей и посвиста стрел, там никто и ничто не смоет с тебя позора. Ты встретишь там своего отца, Огдая, но он не узнает тебя, не обнимет тебя: он будет пировать за длинным столом Рурга среди таких же, как он, доблестных воинов…
Мать сидела над ним, то молча, то возобновляя негромкий недоуменный разговор, всю ночь и весь следующий день. Вечером снова пришли мужчины. Они требовали отнести тело в место упокоения, требовали резко и твердо.
– Ты сошла с ума, Грунн, ты стала безумна, – слышал Дью грубые, режущие слух после тихого голоса матери речи. – Посмотри на себя, Грунн! Посмотри в бронзовый щит или в воды озера: ты стала совсем седой, ты стала безумной. Если тело не вынести из селения и не положить на скалы до тех пор, пока на нем не появятся первые признаки тления, дух умершего разгневается. Он оскорбится и будет мстить. Он будет мстить всем нам, Грунн…
Невзирая на молчаливый протест матери, они взяли тело мальчика, завернули в грубую ткань и понесли в место упокоения.
«Не отдавай меня им!» – беззвучно молил Дью, но Грунн, даже если и слышала что-то в глубине души, ничего не могла поделать. Обычаи племени сильнее материнских чувств.
Голоса ее Дью больше не слышал. Как только холодную ладонь сына выдернули из ее руки, Грунн замолчала и хранила молчание во все время недолгих похорон.
Другие голоса кружились над закутанным в холстину телом. Отрывистые, сокрушенные, хмуро-деловые. Громче всех жужжал приторный голос вездесущего колдуна. Он причитал, вздыхал, укорял Хлеша за чрезмерный размах руки, ругал себя, что не был настойчив и не смог убедить мужчин вообще не наказывать мальчика. Он призывал богов в свидетели, как он сокрушен и печален…
О Рург! Дью мутило от бессильной ненависти. Если б у него хватилосил на одно-единственное движение, это был бы плевок в сморщенное, наигранно скорбящее личико с белесыми, как птичий помет, глазами.
И еще один голос – тонкий, отчаянный – плеснулся над ним однажды, когда тело положили на голый камень и готовились отойти.
– Он не был вором! Вы не должны были его наказывать! Он пытался спасти Крея и остальных, а вы… Вы убили его! Теперь Крей не вернется! Зачем, зачем вы поверили колдуну?!..
«Замолчи, глупая! – мысленно кричал ей мальчик. – Замолчи, убегай, прячься! Вьюхо уничтожит тебя. Он расправится с тобой так же, как и со мной…»




