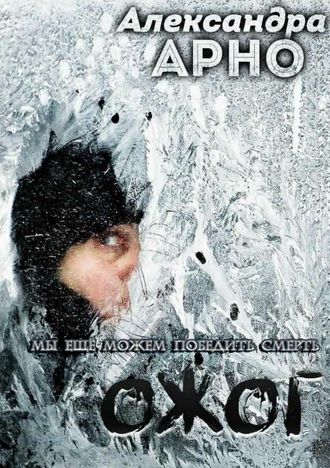
Александра Арно
Ожог
Александра Арно
Ожог
…Что может враг? Разрушить и убить.
И только-то?
А я могу любить,
а мне не счесть души моей богатства,
а я затем хочу и буду жить,
чтоб всю её,
как дань людскому братству,
на жертвенник всемирный положить.
Грозишь?
Грози.
Свисти со всех сторон.
Мы победили.
Ты приговорён.
…По сумрачным утрам
ты за водой ходил на льдистый Невский,
где выл норд-вест,
седой, косматый, резкий,
и запах гари стлался по дворам.
Стоял, пылая, город.
В семь утра
темнел скелет
Гостиного двора.
…И всё осталось там – за белым-белым,
за тем январским ледовитым днём.
О, как я жить решилась, как я смела!
Ведь мы давно условились: вдвоём.
(Поэма «Твой путь», Ольга Берггольц)
________________________________________
БЕССМЕРТНОМУ ПОДВИГУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
________________________________________
1.
Снова заунывно выла сирена, снова стучал тревожно и часто метроном, отдаваясь в ушах тупой вязкой болью. Над истощённым Ленинградом стальными хищными птицами кружили «мессеры», выискивая добычу среди покрытых толстой наледью, безлюдных улиц. И Лиля знала: немцы не успокоятся, пока не перебьют их всех. Кого-то снарядами и бомбами, а кого-то при помощи своего наёмного убийцы – голода, который точно тощий волк рыскал по ленинградским закоулкам и дворам, заглядывая в тёмные квартиры.
Она высунула нос из-под наваленных на кровать одеял и чутко прислушалась к мёрзлой тишине, что наступила между двумя взрывами. Сквозь узкую щель между рамой и фанерой, которой было заколочено окно, нанесло небольшие кучки снега. Белый, как порошок, он уже успел покрыться тонкой корочкой льда, а на одеяле серебрился крохотными искрами иней. Надо бы заткнуть эти щели матрацем. Или на худой конец каким-нибудь тряпьём – какое только сыщется.
Холода Лиля не чувствовала уже давно. Последнее время она не чувствовала совсем ничего, только страшную, давящую, всепоглощающую усталость. Ноги и руки будто перестали слушаться её, зажили своей, отдельной жизнью и частенько не желали двигаться. Лиле приходилось заставлять их идти – на колонку за водой, в булочную на углу за скудным хлебным пайком, на крышу, чтобы ловить «зажигалки». Идти, осторожно ступая по скользкому и такому опасному льду, который вздрагивал под её ногами словно живой, морщился, вертелся и так и норовил уползти куда-то. Когда он уж совсем сильно дыбился, Лиля останавливалась. Нельзя падать. Упадёт – и не встанет. Потому что сил нет.
Сирена замолкла, но где-то далеко всё ещё бабахали зенитки, кашляла надрывно обескровленная артиллерия. Лиля снова забралась под одеяла и закрыла глаза. Голова закружилась, желудок злобно и недовольно заурчал, под рёбрами тоскливо потянуло. Но сон был сильнее голода, и уже через минуту Лиля провалилась в его тревожную, наполненную голосами, запахами и воем сирен пропасть. Что-то толкало её в плечо, тащило вниз с такой силой, что сопротивляться не получалось, тормошило, било наотмашь невидимой рукой.
Она снова распахнула глаза.
Зенитки загромыхали ближе. Лиля не шевелилась. Она лежала в промёрзшей кровати, мысленно молясь, чтобы господь убрал немцев подальше от её дома. Сейчас нельзя умирать, только не сейчас, когда впереди ещё уйма работы. Вчера ей выдали целых четыре килограмма жёстких шерстяных ниток, которые полагалось распутать и смотать в клубки. Натруженные худые пальцы саднили, грубые жёсткие мозоли трескались и горели словно в огне, а нитки становились всё хуже и хуже качеством: зачастую из них приходилось выковыривать много мусора и стекла. Лиля не жаловалась. Зато карточка у неё рабочая, а значит, и паёк самый большой, целых триста граммов драгоценного хлеба. Хлеб… Хлеб – это жизнь. Лиля была ещё жива только благодаря ему.
Она вязала из грубых ниток рукавицы для фронта. Точнее, не совсем рукавицы – скорее, недоперчатки с одним указательным пальцем. Чтобы солдату было удобнее стрелять.
Когда в щель заглянуло измученное ленинградское солнце, Лиля уже проснулась. Кое-как сев на кровати, она сунула распухшие в щиколотках ноги в прохудившиеся обрезанные валенки, вздохнула, посидела ещё немного и медленно поднялась. Пора. Нужно топить «буржуйку» – комната промёрзла насквозь, заледенела. Нужно сходить за водой и сделать к завтраку кипяток – у брата Лёшки не хватит сил поднять даже стакан, не то, что бидон. Раньше она ходила с ведром, но последнее время уже не было сил, чтоб его поднять. И Лиля стала ходить с бидоном. Лучше принести поменьше, чем уронить и разлить всё на полпути. А ведь и на себя может пролить, и тогда уж точно воспаление лёгких, а противостоять болезни она не сможет.
Лиля стащила с головы продранную шапку-ушанку, как могла, расчесала спутанные в жёсткие колтуны волосы, глядя на себя в помутневшее от времени зеркало. Большие глаза, такие весёлые и живые прежде, смотрели с пугающим безразличием, щёки ввалились, губы побледнели и растрескались. На худом лице двумя тёмными дугами выделялись брови, скулы заострились и стали похожи на голые кости. Но какое это имело значение?
На лестнице было темно. Лиля, щупая ногой ступени перед собой и крепко держась за перила, стала осторожно спускаться вниз. За ночь снега намело ещё больше, в высоченных сугробах узкими лентами тянулись несколько новых тропинок. Она заковыляла по одной из них. Бидон тихонько скрипел ручкой, дребезжал, раскачиваясь на хлёстком колком ветру. Заиндевелое небо хмурилось, сутулилось над потерявшим свой привычный облик Ленинградом, и сыпало на крыши крупные хлопья снега. Те белой порошей кружили в тишине и беззвучно садились на верхушки сугробов, протискивались в щели на окнах и превращались в стылый лёд на узких бетонных ступенях.
Лиля прошла под гулкой аркой и свернула на пустынный тротуар. У стены дома лежал лицом вниз человек. Снег уже почти припорошил его, лица не было видно совсем. Лиля прошла мимо, осторожно ступая по льду, только бидон печально и жалобно скрипнул в её руке. Пальцы умершего человека скрючились, вмёрзли в тротуар, синие ногти выделались чёрными лунками. А злой ветер трепал край серого пухового платка, который ещё не успел сковать вездесущий ледок. Мужчина это или женщина? Не разберёшь. С началом блокады все почему-то стали похожи.
На обратном пути Лиля встретила девочку лет десяти. Та, упираясь, тащила за собой санки с привязанным к ним окоченевшим телом. И опять непонятно, мужчины или женщины. Может быть, старика или ребёнка. И снова Лиля прошла мимо, даже глаз не подняла. Сейчас все умирают, так что смотреть?
Лёшка уже проснулся и ждал её, сидя на кровати. Лиля взяла из кучи в углу заранее приготовленные щепки, сложила в «буржуйку», поискала взглядом спички. Лёшка молча глядел на неё. Под глазами его пролегла тёмная синева. Он безразлично следил за ней, пока она кипятила в старом эмалированном чайнике воду, пока варила на завтрак кашу из с таким трудом добытой дуранды. Прожевать её было невозможно, поэтому приходилось глотать целыми кусками, обдирая горло, но всё же это была какая-никакая, а еда.
Хлеба у них не осталось совсем. Ещё вчера они съели сегодняшний паёк, а сегодня Лиля пойдёт выкупать завтрашний. Если на неё хватит. Могут и не дать – такое уже бывало, когда однажды водопровод лопнул от мороза.
Чайник понемногу нагревался. Языки пламени бесновались в квадратной пасти «буржуйки», бились о металлические стены, словно в попытках вырваться на свободу. В комнате стало чуть теплее. Лиля протянула ладони к огню, безотрывно глядя на чайник. Местами эмаль отбилась, местами заметно потускнела или почернела. Когда-то пёстрые лилии на круглом блестящем боку стали совсем блёклыми и унылыми.
– А помнишь, Лёшка… – едва слышно сказала Лиля. – Помнишь, день рождения у Игоря был? Подарки… Перед самой войной ведь…
Она умолкла. Собственный голос казался ненастоящим, будто и не ей он принадлежал вовсе, и звучал в холодной тишине отрывисто и напряжённо. Когда они перестали разговаривать? Лиля не помнила. Казалось, они всю жизнь провели в тишине, нарушали которую только обстрелы и бомбёжки.
Она повернулась к брату. Нет, нужно говорить. Нужно. Нельзя молчать.
– Лёша…
Его глаза лихорадочно блестели, на впалых щеках ярко горел болезненный румянец. Он сидел, обеими руками вцепившись в край кровати, брови тяжело нависали над вспухшими веками.
Закипел чайник. Лиля торопливо плеснула в алюминиевую кружку кипятку. За ночь та успела заледенеть, по краю и на ручке осел синеватый иней. Она стряхнула его пальцем и дала кружку брату. Лёшка протянул было худую руку, но она бессильно повисла плетью.
Лиля напоила его сама. Он пил, казалось, через силу, заставляя себя глотать, а потом улёгся обратно и уставился прямо перед собой пустым взглядом. Белые губы раскрылись.
– Лиля, у нас есть хлеб?
Она зажмурилась, проглотила твёрдый ком в горле.
– Пока нет. Но попозже я схожу в булочную, сегодня, наверное, получится выкупить…
– Лиля… – надломленно прошептал Лёша. – Лиля, дай мне немного хлеба…
Она не ответила. Желудок скрутило жгутом, во рту появился горький привкус, перед глазами всё плыло. А надо ведь ещё вязать – пока день, пока светло. Надо обязательно выполнить норму, иначе у неё заберут рабочую карточку, а тогда неминуемо – смерть.
– Лиля, можно мне немного хлеба?..
– Потерпи чуть-чуть, Лёш, – как могла бодро ответила Лиля. – Я через два часа схожу и выкуплю наши пайки. Хорошо?
Она вынула из шкафа приготовленные нитки, взяла спицы. Крохотные петельки мельтешили, путались между собой, и ей приходилось напрягать всё своё внимание, чтобы поймать их, продеть через них толстую жёсткую нитку. Петельки уворачивались. Они играли в чехарду и прыгали друг через друга, а Лиля упорно, сантиметр за сантиметром, укладывала их спицами в ровное полотно – будущую варежку без одного пальца.
Может быть, тот солдат, что наденет её, спасёт их, прогонит из-под Ленинграда немцев? А может быть, эти рукавички попадут к Игорю. Конечно же, он сразу поймёт, почувствует, кто связал их – они ведь всегда, с самой юности чувствовали друг друга.
– Лиля… у нас есть немного хлеба?
Она вздрогнула. Лёшка лежал ничком, уткнувшись лицом в подушку, и голос его звучал глухо и надломленно. «Буржуйка» перегорела, и теперь в её прожорливом нутре тлели остатки угольков, а настырный холод вновь пробирался в комнату. Но затопить опять Лиля не могла – дров осталось только на завтра. Она отложила в сторону вязанье и поднялась, разминая затёкшие ноги, накинула поверх пальто ещё одно – старое, бабушкино. Его изъела моль, лисий мех на воротнике был порядком истрёпан, кое-где разошлись швы. Сколько лет этому пальто? Лиля уже не помнила. Кажется, даже больше, чем ей.
Метель на улице усилилась. Лиля подняла воротник и втянула голову в плечи, чтобы ветер не бил наотмашь по щекам, не швырял в глаза пригоршни колючего снега. Город обессиленно молчал, окутанный бесконечным и неистребимым запахом гари и холода. Ленинград был голоден и истощён почти до предела. Но он стоял. Стоял, непохожий на самого себя.
Выбитые взрывами окна безмолвно смотрели чёрными провалами глазниц на одиноко бредущую сквозь злую метель фигурку внизу, топорщили острые зубы-осколки, тёмный провал арки зиял гулкой пустотой. Лиля остановилась под ней, чтобы перевести дух. До булочной оставалось ещё около двух сотен метров, а она уже совсем выбилась из сил. Сможет ли дотащиться? Распухшие колени ныли, требуя отдыха, кости ломило.
В полутёмном помещении булочной, как обычно, вилась длинная очередь. Лиля пристроилась в самом конце. По ободранным, облезлым стенам тянулись длинные ржавые потёки и тихонько сползали в небольшие лужицы на кафельном полу. Лужицы тут же замерзали, и капли растекались по грязному льду да так и замирали.
Стоящий перед Лилей человек внезапно рухнул на пол. Обернулись две женщины, безразлично посмотрели на него. Лиля, кряхтя, присела на корточки и перевернула упавшего на спину. Это был мужчина с глубокими морщинами на лице.
– Плохо человеку… – прошамкала какая-то старуха, кутаясь в рваное ватное одеяло. – Позвать кого-нибудь надоть, пусть в больницу забирають…
– Он, кажется, умер, – пробормотала Лиля, глядя в открытые глаза. Взгляд остекленел, замер на одной точке, дряблые веки застыли. Черты лица заострились, делая его похожим на страшную маску.
Из очереди вышли двое замотанных в женские платки мужчин, молча подхватили умершего за ноги и за руки и вынесли на улицу. Через скованное морозом стекло Лиля видела, как они положили его на обледенелый тротуар.
Очередь понемногу продвигалась. Люди стояли в абсолютной тишине, только стучала гирями на весах продавщица да хлопала деревянная дверь. Маленькая девочка приподнялась на носочки перед прилавком и протянула две хлебные карточки.
– Тётенька, мне ещё за маму, пожалуйста.
Продавщица без слов отвесила две порции по сто двадцать пять грамм, вырезала из карточек по квадратику, и девочка отошла к стене, прижимая к груди драгоценную еду одной рукой. Другой она спрятала за пазуху карточки и жадно впилась зубами в хлеб, потом присела и аккуратно подобрала с пола крошки. На исхудалом лице чернели разводы сажи, в уголке губ запеклась кровь.
Лиля думала о брате. Последнее время он совсем обессилел, не мог даже самостоятельно подняться с кровати. Она постоянно отдавала ему половину своей хлебной нормы, но этого было катастрофически мало. Каждый день к ним приходила Светлана Васильевна – пожилая докторша из районной поликлиники, колола ему какие-то лекарства, даже два раза оставила таблетки, которые в Ленинграде были на вес золота. Диагноз она поставила сразу: алиментарная дистрофия, или «голодная болезнь». Болезнь, которая ежедневно забирала десятки, если не сотни жизней, уже стала привычной для ленинградцев и не вызывала ни удивления, ни каких-то других эмоций.
Но надежды Лиля не теряла. Потому что сдаваться нельзя. Потому что нужно бороться, нужно жить. Она делала всё, чтобы поддерживать эту жизнь. Неделю назад даже умудрилась помыться и постирать одежду. Сперва как следует простучала молотком швы, чтобы убить платяных вшей, а потом нагрела целых два ведра воды и выстирала бельё с крохотным кусочком хозяйственного мыла, что осталось ещё с «до войны». Ну и что, что мыла нынче не сыщешь, а долго топить печку – неслыханная роскошь. Ведь скоро праздник – Новый Год.
Продавщица отрубила большим ножом её пайку хлеба, выстригла из карточки квадратик. Лиля завернула хлеб в тряпицу и сунула за отворот пальтишка. Надо бы уговорить Лёшку сходить на Новый Год в его школу, говорили, там собираются организовать праздник и даже будет обед. А ещё обещали подарки: ходили слухи, что по Ладоге привезут мандарины для детей.
Керосин дома закончился. Лиля сокрушённо вздохнула, вытрясла со дна жестяной банки последние капельки и задумалась. Дни в Ленинграде зимой короткие, света едва ли будет хватать на вязание. Хорошо ещё, что одно окно в квартире уцелело – его почему-то не выбило взрывной волной, как соседнее. Правда, через щели в рассохшихся рамах задувал ветер, и сколько бы она ни затыкала их тряпками и ватой, ничего не помогало. Лиля уже подумывала заколотить и его тоже – у неё ещё остался кусок фанеры, но теперь отказалась от этой идеи, иначе не сможет работать.
Она выложила хлеб на стол, накрыла его тарелкой. Лёшка спал. Лиля взяла нитки со спицами, опустилась на табуретку и снова принялась плести полотно – как маленький трудолюбивый паучок свою паутину, петельку за петелькой она цепляла нитку, продевала её, изгибала и снова заворачивала. Пальцы мёрзли, руки до боли сводила судорога, но она упорно продолжала вязать. Мерно стучал метроном по радио, билась остервенело о стены дома вьюга.
Когда варежки будут готовы, Лиля отнесёт их в милицейский пункт, а оттуда их отправят на фронт.
В глазах мутилось, пальцы отказывались слушаться. В маленькой комнатёнке потихоньку темнело, стылый ветер разгуливал из угла в угол. Лиля отложила недовязанную рукавицу, вгляделась, напрягая зрения, а небольшую кучку щепок в углу. Можно, конечно, затопить «буржуйку», чтобы хоть немного согреться, но тогда завтра у них совсем не будет дров. Впрочем, завтра ещё не наступило… и может быть, не наступит.
Она тяжело поднялась с табуретки, прошаркала по комнате и взяла несколько тоненьких щепок. Огонёк слабо затрещал, облизывая ржавые стенки печки, и принялся пожирать дерево. Лиля безотрывно следила за его оранжево-прозрачными остроконечными язычками. Неплохо было бы найти топор, чтобы разрубить на дрова платяной шкаф из квартиры Коротаевых.
До войны Лиля дружила с Аллой Коротаевой, болтливой добродушной девчонкой девятнадцати лет, что жила напротив. Она умерла в начале сентября, когда голод ещё не ощущался так сильно: тогда и паёк был побольше, и кое-какие продукты достать можно было, но Алле не повезло попасть под бомбёжку. Осколок снаряда угодил прямо в голову.
Следом за ней преставился её брат, четырёхлетний Даня. Мария Петровна, их мама, после этого сошла с ума – бродила целыми днями по занесённой снегом лестничной клетке и не своим голосом звала детей, заглядывала во все углы, даже спускалась в подвал. А потом выбросилась из окна квартиры, оставив Пелагею Васильевну, свою престарелую маму, в одиночестве. Тело с вывернутыми конечностями два дня лежало у отсыревшей стены дома, пока не приехала похоронная бригада и не увезла его вместе с другими в грязной полуторке. На рыхлом снегу остался его размазанный рваный силуэт и следы шин.
Пелагея Васильевна слабела с каждым днём. Лиля ходила к ней помогать по хозяйству – принести воды, натопить печку, вымести пол. Старушка смущалась, просила её не приходить, не тратить зазря время и силы. Лиля не уходила, и тогда она начинала рассказывать ей о свой молодости, о революции, о гражданской войне, на которой погиб её муж, вспоминала и финскую, что унесла жизнь старшего брата Марии Петровны, Саши.
– Он когда родился, в девятьсот восемнадцатом-то году… супруг мой на фронте был тогда. Приехал! Ах, ох, сынок родился! Радости столько было… Потом и Маша на свет появилась…
Еды в доме становилось всё меньше и меньше. Сперва они съели последние запасы, потом в ход пошли плитки столярного клея и обойный клей, потом и вовсе добрались до кожаных портупей, оставшихся от погибшего сына. Лиля мелко-мелко рубила их ножом и долго вываривала в кипящей воде. Варево получалось отвратительное: мутно-жёлтого цвета, с кусочками водянистого горьковатого жира. Кожа оказалась жёсткой и дробилась на зубах, как мелкое каменное крошево, а вонял супчик так, что приходилось зажимать нос.
На следующий день Лиля нашла Пелагею Васильевну мёртвой. Она лежала на кровати, застеленной давно не менянным, влажным бельём, сложив на животе руки, жидкие волосёнки примёрзли к подушке. Лиля зашила несчастную старушку в простыню и отвезла в морг – похоронные бригады по квартирам не ходили, и оставить её было нельзя. Неразговорчивый худой солдат велел положить труп у забора, а сам ушёл в сторону неказистого одноэтажного домика из опалённого огнём красного кирпича. Лиля растерянно потопталась у калитки, сжимая рукой в варежке верёвку санок. Оставить? Но как? Её же похоронить нужно…
Мороз крепчал, кусал за нос и губы ледяными клыками. В конце концов Лиля сделала так, как сказал солдат, и ушла. Изо рта вместе с дыханием вырывались клубочки густого пара, тротуары сковала наледь, которую припорашивал сверху мягкий снежок, и старенькие прохудившиеся валенки нещадно скользили. Ленинград уже окутывала морозная декабрьская ночь. В небе висели безликие, похожие на серый дым облака, а по ним ползали круглые пятна прожекторов, высвечивая бугристые края.
И тут заговорили зенитки у Исаакиевского собора. Засвистел снаряд, и дом на другой стороне улицы шарахнуло огнём. Лилю отбросило взрывной волной. Она свалилась в неглубокий окоп. Снова оглушительно засвистело, и снова полыхнуло что-то, уже ближе, сверху посыпались влажные комья земли. Воздух гудел утробным металлическим гулом.
Прожектор выловил в небе чёрную тень немецкого самолёта и повёл её по небу. Ба-бах! – и он качнул крыльями, ловко вывернул направо и скрылся со света. Мимо, цокая копытами по льду, бежала напряженная в сани худая лошадь, а на козлах сидел седой старичок с длинной белой бородой. Лиля выбралась из окопа, загребая ладонями чёрную мёрзлую землю, и замахала ему:
– Стойте! Подождите!
Старичок оглянулся и натянул поводья. Лиля с облегчением свалилась в сани на подгнившую мокрую солому.
– Но! Пошла!
Лошадь отозвалась громким ржанием, вскинула голову и со страхом покосилась на пылающий дом. Цок-цок-цок, – мелко застучали копыта. Длинная грива свалялась клоками, а в них блестели мелкие снежинки, металлически позвякивала упряжь, шуршали широкие полозья.
– Пошла, пошла! – подгонял старичок и, мельком оглянувшись на Лилю, спросил: – Чего одна по темнотище бегаешь, сдурела? А кабы не я?
Лиля отплёвывалась от набившейся в рот земли.
– Бабушку на кладбище свезла.
– Но-о-о! – недовольно крикнул старик. – Бабушка-то прибралась, а самой ещё небось пожить охотца.
– Все там будем, – коротко ответила Лиля.
– По центру много не бегай. Бьют тут сильней всего. Давеча пятерых солдатиков одним снарядом уложило.
– Я живу недалеко. – Лиля пыталась сесть, но сани то и дело подпрыгивали на кочках, и ладони скользили по соломе. – Я…
Снова бабахнул взрыв, на этот раз прямо перед ними. Лошадь истошно заржала, встала на дыбы и повалилась на землю, старичок мешком рухнул в телегу. В нос ударил запах гари, кожу резко опалило чем-то горячим. Лиля не заметила, как скатилась с саней на толстую наледь тротуара.
Щёку нестерпимо жгло льдом. Что-то с треском горело совсем рядом, сильно пахло дымом, холодом и кровью. Лиля с трудом приподняла веки и обнаружила себя лежащей ничком на земле. Кое-как, с кряхтением, она встала на ноги, цепляясь окоченевшими пальцами за край саней, и увидела извозчика. Белая борода стала красной, шапка-ушанка перевернулась, обнажая пробитый осколком лоб. Всё лицо залило кровью.
Лиля отпрянула и, перебирая руками по краю саней, пошла к передку. Лошадь тоже была мёртвой – из-под опавшего крупа с выпирающими, как на стиральной доске, рёбрами растекались густые ручейки тёмно-бордовой крови и впитывались в толстый синий лёд.
Из темноты вынырнула неясная тень и бросилась на мёртвое лошадиное тело. Лиля испугалась. Дыхание перехватило, и оно замерло в горле царапающим ледяным комком. Это была женщина, закутанная так, что торчал один нос, над краем платка сверкали два хищных, по-вороньему чёрных глаза. Она занесла над лошадиным трупом нож, и Лиля, попятившись, упала.
Из темноты донеслись отвратительные звуки разрезаемой плоти – женщина жадно кромсала лошадь.
– Шельма, шельма. – Лиля отползала на четвереньках. – Боже, спаси и сохрани!..
Острые края разбитого местами льда ранили руки, и она оставляла за собой на льду кровавые следы. На месте взрыва дымилась чёрная воронка, и Лиля чуть было не угодила в неё. У лошади собрались уже несколько человек, и она отчётливо слышала их перепалку: кто-то сцепился между собой, спорил, дрался. Старика тоже стащили с саней и поволокли за ноги в подворотню. Людоеды, не иначе. Нужно поскорее уносить подальше ноги.
О том, что в Ленинграде появился каннибализм, Лиля уже слышала, но верить не хотела, хотя пару-тройку раз ей попадались на улице обмороженные трупы с вырезанными ягодицами. Она предпочитала просто не смотреть на них и спешила мимо. Однажды она видела, как стайка подростков насильно заталкивали в парадную полуразрушенного дома ребёнка лет трёх, но не придала этому значения. А теперь воочию увидела то, что пугало даже в рассказах.
Отчего-то Лиля была уверена, что напоролась именно на людоедов.
Она долго блуждала в чернильно-чёрной темноте, плутала в незнакомых дворах и никак не могла сообразить, в какой же стороне её дом. Странно – она, выросшая в Ленинграде, знавшая его, как свои пять пальцев, заблудилась! Даже смешно…
Силы таяли, дом всё не находился, и Лиля заплакала в отчаянии. Слезинки выкатывались из-под век и тут же застывали на впалых щеках крохотными льдинками. Девушка через силу тащилась сквозь ночь, а со всех сторон на неё смотрели незнакомые молчащие дома с тёмными, кое-где выбитыми окнами, из которых торчали уродливые кривые трубы «буржуек». По снегу стелился рваный чёрный дым и оседал на его белом полотне пятнами сажи, карабкался по отвесным бетонным стенам с потёками. Поскрипывали в одном из дворов одинокие детские качели.
Она не знала, как вышла на окраину города. За спиной стоял мрачный тёмный Ленинград, его крыши и острые шпили смотрели в небо, наблюдая за прожекторами. Проглянула тусклая луна, и её ровный бледный свет осветил раскинувшееся перед Лилей заснеженное поле. Она в испуге развернулась и побежала назад – тут могут быть немцы, и лучше им не попадаться. А вдруг боковым зрением она увидела мотоцикл. В люльке, сильно откинувшись назад, неподвижно сидел человек в каске. На руле лежал, свесив плетьми руки, ещё один. Вторая каска валялась на снегу.
Они оба явно были мертвы. Лиля притормозила. С расстояния она не могла определить, немцы это или нет, но в голове мелькнула шальная мысль: а если обшарить их карманы? Вдруг найдётся что-нибудь съестное?
Она несмело пошла к мотоциклу, по щиколотку проваливаясь в мокрый липкий снег. У сидящего в люльке на лбу под каской темнело маленькое пулевое отверстие. Немецкой каской. И форма у них немецкая, значит, фашисты. Лиля остановилась. Страх схватил её за горло: а если рядом есть ещё кто-то? Она огляделась. Тишина. Преодолевая холодный мертвенный ужас, девушка снова двинулась вперёд, потом побежала, поскользнулась и полетела лицом в снег, которые тут же набился в рот.
До мотоцикла она добралась практически ползком.
У первого немца не было ничего, кроме початой пачки сигарет «Mokri Superb», отсыревшего, заляпанного кровью коробка спичек и фотографии белокурой женщины за пазухой. А вот у второго в рюкзаке обнаружилось целое богатство: неоткрытая упаковка галет, две шоколадки, банка тушёнки, четыре печёные картофелины и немного завёрнутого в папиросную бумагу кофе. В кармане тонких шерстяных брюк нашёлся надкусанный кусок коричневого жжёного сахара, в чёрном тубусе на боку – малюсенький обмылок, зубной порошок, ручное зеркальце в витиеватой оправе и пара толстых вязаных носков.
Лиля забрала всё, и сигареты со спичками тоже – а вдруг удастся выменять их на продукты?
Домой она пришла в два часа ночи. Лёшка не спал – ждал её, сидя на кровати напротив двери. В мёрзлой, стылой темноте квартиры стучал метроном. Лиля распахнула дверь, ступила в прихожую и увидела брата в дальней комнате. Он топорщил нижнюю губу и чуть не плакал.
– Лиля, Лиля, где ты была?.. Я испугался.
Она молча выложила перед ним сворованную у мертвецов еду. Он выпучил глаза, по щекам пополз румянец, бледные губы дрогнули в улыбке.
– Теперь мы точно не умрём.
***
Лиля не отвечала на письма, и Игорь буквально сходил с ума. Кто говорил, что неизвестность лучше плохих вестей? Он врал! Игорь предпочёл бы узнать даже самое худшее – лишь бы не это изводящее, выедающее нутро серной кислотой молчание. Жива ли ещё вообще его жена?..
Ленинград, прекрасный город на Неве, стоял притихшей, занесённой снегом каменной громадой там, за Ладогой, которую уже сковывал полупрозрачный мутный лёд. Он был в нескольких десятках километров – а вестей оттуда не поступало совсем. Игорь частенько, щурясь, смотрел вдаль, словно пытаясь разглядеть на горизонте очертания города. Пурга свирепо завывала, до боли била наотмашь по лицу колкой рукой, морозила губы и веки. Кожу нестерпимо щипало, а пальцы отказывались двигаться, и тогда Игорь дышал на них, и синеватый пар дыхания возвращал конечности к жизни.
Чёрт, как же холодно! Кажется, такой суровой зимы даже в этих северных широтах давненько не было. Во всяком случае, Игорь не помнил. Мёрзлое стылое небо рассыпáлось на льдистые, сияющие синим серебром осколки, и застывало намертво, вмораживая в себя тонюсенький серп жёлтого месяца. Тот мелко подрагивал, ёжился, а потом замирал в сине-чёрном небесном монолите. И только ветер продолжал свистать над заснеженным полем, мёл мелкую белую позёмку, нагонял лохмотья липкого водянистого тумана, чтобы тот поглотил в себе стоящие на берегу озера два полка, закутал своим рваным пухом блиндажи и окопы – эти распоротые вены в промёрзшей насквозь земле.
В небо с громким хлопком взлетали осветительные ракеты. Их мигающий красный свет на несколько коротких мгновений выхватывал из темноты крышу землянки в три наката, брезентовый, просевший от снега навес со столом под ним, противотанковые ежи и замершие на изготовке пулемёты с тонкой наледью на стволах. Иногда Игорь соскребал её куском фанеры, хотя знал, что занятие это пустое – через десять минут лёд нарастёт заново. Просто тревога не давала ему сидеть спокойно. Она свернулась внутри точно моток медной проволоки, царапала сердце, не давая дышать, и Игорь нервно вышагивал по окопу. Туда-обратно, туда-обратно…
С немецкой стороны послышалась музыка, и следом тут же заговорил рупор. Кто-то с сильным акцентом убеждал красноармейцев переходить на сторону Рейха, обещал вдоволь вкусной сытной еды, красивых женщин и уважительное отношение. В общем, все блага мира. Игорь горько усмехнулся. Вот уж от еды бы он точно не отказался! Они всем полком второй месяц сидели на отрубном хлебе и водянистой каше. Но переходить на сторону фашистов он не собирался. Лучше голодным, да со своими, чем с набитым животом среди чужих.
– Опять падлюки свою верещалку включили? – сонно сказали сзади.
– Да уж… – Игорь скривил губы. – А тебе чего не спится?
Славик Мурашин, давний знакомый и нынче однополчанин, зябко поёжился, поднял воротник шинели и втянул голову в плечи.
– Да эти… – недовольно мотнул он головой в немецкую сторону, снял зубами варежку без указательного пальца и выудил мятую пачку папирос из кармана. – Когда у них уже матюгальник этот паскудный поломается?! Я скоро его кому-нибудь из них в жопу воткну, ей-богу.
Игорь вытащил из вежливо протянутой Славиком пачки папироску, дунул в неё и зажал зубами. Вспыхнула в ледяной темноте небес очередная красная ракета, а в сомкнутых ладонях Игоря заплясал тоненький огонёк спички.
Они молча курили, вдыхая горький дым. Пальцы на ногах немели от холода, с губ отслаивалась кожа. Пурга затихла, и теперь только беззвучно сыпался мелкий сверкающий снежок, понемногу припорошивая чёрное, развороченное подошвами солдатских сапог окопное дно. Игорь ковырял носком сапога его хрупкую белую бязь.



