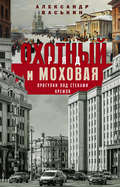Александр Васькин
Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой
Вождь многое понимал и в музыке. Дирижеру Самуилу Самосуду указал на необходимость «дать побольше бемолей», режиссеру Леониду Баратову велел вставить в оперу «Борис Годунов» последнюю сцену под Кромами, исправил текст гимна, сочиненный Сергеем Михалковым и Гарольдом Эль-Регистаном. В общем, вникал во все, и не только в творческие, но и хозяйственные вопросы. Например, после войны подписал постановление о выделении одному из литературных журналов машины-легковушки и необходимого количества бензина. В другой раз распорядился повысить зарплату (в разы!) музыкантам и певцам Большого театра, разрешил построить кооперативные дома для писателей и артистов в Москве. Приказал вывезти из блокадного Ленинграда Шостаковича и Ахматову, правда, потом сильно укоротил им жизнь своими зловредными постановлениями. А он ведь не только постановления писал, но и статьи в газеты – о балете, о поэзии, о языкознании. Часто не подписывался своим именем – мол, «от редакции». Скромный был человек! И откуда только время на всё находил…
Кстати, о постановлениях и статьях – при Сталине им был придан статус непререкаемых постулатов, направляющих развитие советского искусства. Само искусство как бы развивалось обратным ходом, то есть указывалось не то, что надо делать, а то, что не надо. Вот лишь несколько названий статей в газете «Правда» за 1936 год, определивших красные флажки, за которые не дозволялось выходить: «Сумбур вместо музыки», «Балетная фальшь», «О художниках-пачкунах», «Какофония в архитектуре». Слово «формализм» превратилось в главное оскорбление. Имея в руках эти статьи, любой чиновник мог руководить искусством, независимо от уровня культуры и образования, ибо от него требовалось не развивать, а не пущать. Весьма распространенный в СССР тип такого руководителя – товарища Огурцова – воплощен Эльдаром Рязановым в фильме 1956 года «Карнавальная ночь» («Ноги изолировать», «Большой, массовый квартет», «Нужно, чтоб музыка тебя брала» и т. д.). В этой кинокартине действие происходит в Доме культуры, а на самом деле – в гораздо большем масштабе.
Но если говорить серьезно, то начиная с 1932 года 20 лет сталинского правления не только заморозили творческую атмосферу до таежной температуры, вселили страх в деятелей культуры и привели к ощутимым людским потерям в каждом виде искусства, но и развратили богему. Вождь без устали раздавал ордена, квартиры и дачи, порой за абсолютно пустые произведения. Бездари возводились в таланты, в чести стала травля неугодных на государственном уровне. Любой творческий плюрализм приравнивался чуть ли не к преступлению. Подавление инакомыслия, пусть даже на уровне сомнений в правильности принимаемых властью решений, послевоенная ждановщина стали неотъемлемой частью государственной политики.
Смерть «отца народов» повлекла за собой ослабление государственного контроля за творческой интеллигенцией, что было обозначено самими деятелями искусства как «Оттепель». Так называлась повесть Ильи Эренбурга, увидевшая свет в мае 1954 года в журнале «Знамя». Была и еще одна «Оттепель» – стихотворение Николая Заболоцкого в «Новом мире» за 1953 год, поэта, сидевшего до 1944 года в лагере и пока еще не реабилитированного. Для писателей понемногу стали открываться новые возможности выражения своей точки зрения на происходящее в стране. Так, появились новые журналы. В 1955 году родился журнал «Юность» с его знаменитым логотипом работы художника Стасиса Красаускаса, сразу завоевавший популярность. Главным редактором его стал маститый Валентин Катаев. Тогда же возродили и «Иностранную литературу», выпуск которой был прекращен еще в 1930-е годы (вообще же переводы зарубежной классики стали отдушиной для многих талантливых поэтов). Плотно закрытая Сталиным форточка на Запад понемногу приоткрывалась. В 1956 году стал выходить журнал «Наш современник».
Важнейшим событием, характеризующим изменение отношения к писателям, стала публикация в августе 1956 года романа «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева. Это было совершенно новое явление в литературе. Ведь что тогда считалось современной классикой? Ходульные романы многократных сталинских лауреатов Семена Бабаевского («Кавалер Золотой Звезды») и Михаила Бубеннова («Белая береза» и «Свет над Россией»). Толстенные тома этих авторов, лично патронируемых Сталиным, загромождали московские библиотеки, а сами «классики» занимали ведущие позиции в советской литературе, уютно расположившись в комфортабельных квартирах, на дачах и в кабинетах. Читать их было скучно и неинтересно, все было скроено по одному лекалу – вот хорошие герои, вот отличные (это назовут бесконфликтностью), а партия всегда указывала в этих романах верный путь к светлому будущему.
И вдруг Дудинцев со своим отнюдь не лакировочным романом о повседневной жизни послевоенной сталинской России. Роман раздирали на куски – те, кому не терпелось прочитать номер журнала, и те, кто надеялся отправить автора вслед за его героем в лагерь, на лесоповал. Напечатанное произведение стало первой ласточкой антисталинской литературы («Теркина на том свете», напомним, еще не напечатали). А что творилось на обсуждении романа в ЦДЛ! Здание было взято в осаду москвичами, пытавшимися прорваться на обсуждение. Но куда там: даже редакция «Нового мира» пробиралась через черный ход. Конная милиция с трудом сдерживала толпу. Самого Дудинцева тоже не хотели пускать – хорошо, что в кармане нашелся его писательский билет. Автора внесли в зал чуть ли не на руках.
Публикация Дудинцева вызвала у одних его коллег надежду на обновление, у других, более консервативных, – рефлекс скомандовать «фас!». Не только партийные критики, но и писатели-сталинисты обвинили его в «очернительстве» и «подрывных действиях против Советской власти». Сталинистов, вскормленных вождем, хватало. Многие из них впитали в себя его заботу сильнее молока матери, до конца жизни защищая светлый образ дорогого Иосифа Виссарионовича. Однако самого отца-основателя системы государственных творческих союзов уже не было, осталась лишь его инерция, пока еще сильная.
Едва хозяин усоп, писатели распоясались. То тут, то там стали прорастать ростки правды, затеплилась творческая свобода. С произведениями Ахматовой, Цветаевой, Пришвина, Тендрякова вышли два сборника «Литературная Москва» (второй оказался последним). Отдел культуры ЦК сигнализировал: «В ряде произведений, включенных в выпущенный в начале 1957 года второй сборник “Литературной Москвы” (члены редколлегии Эммануил Казакевич, Маргарита Алигер, Вениамин Каверин и другие), отражено стремление к одностороннеобличительному изображению жизни. В рассказе Александра Яшина “Рычаги” все коммунисты сельской партийной организации – люди бесчестные и лицемерные. Сюда же следует отнести рассказы Юрия Нагибина “Свет в окне” и Николая Жданова “Поездка на родину”, критиканско-фрондерскую статью драматурга Александра Крона, пьесу Александра Штейна “Гостиница ‘Астория’ ”, а в романе Галины Николаевой “Битва в пути” крикливо и истерично описывается история несправедливых арестов честных людей в 1949 году». Однако процесс, как говорится, уже пошел, и чтобы его остановить, был предпринят ряд шагов.
Порка Дудинцева перешла в показательную травлю Бориса Пастернака и его «Доктора Живаго». Для партии опубликованный в Италии роман стал настоящим несчастьем, и решила она, эта партия, устроить публичное аутодафе всем советским писателям. Самого Пастернака – размазать по стенке, а его коллег заставить в этом участвовать. Как это было похоже на сталинский обычай давать на подпись своим соратникам расстрельные списки. В октябре 1958 года на позорном собрании правления Союза писателей СССР Пастернака исключили из его рядов. Собирались будто ведьмы на шабаш на Лысой горе. Вроде бы нормальные люди (инженеры человеческих душ!) лезли, распихивая друг друга, на трибуну, спеша продемонстрировать свою зависть и ненависть к новоиспеченному нобелевскому лауреату. Твардовский тогда сказал: «Мы не против самой Нобелевской премии. Если бы ее получил Самуил Яковлевич Маршак, мы бы не возражали». Но ведь Маршак вряд ли мог ее получить – разве что после Роберта Бёрнса, которого он переводил! Нашлись и такие, кто мог бы не участвовать в расправе, но специально приехал, например Вера Панова из Ленинграда, а ведь ей и самой когда-то досталось.
Почти каждое выступление начиналось с одной и той же фразы: «Я роман Пастернака не читал, но…» Эти слова в скором времени превратятся в своеобразную формулу, по которой будут судить Солженицына, Бродского и др. Неудивительно, что после такой атаки коллег, не выдержав нажима «общественности», Пастернак посчитал спасительным для себя вообще отказаться от премии. «Ввиду того значения, которое приобрела присужденная мне награда в обществе, я вынужден от нее отказаться. Не примите в обиду мой добровольный отказ», – говорилось в телеграмме, отправленной в Стокгольм 29 октября 1958 года.
Страх в людях был еще так силен, что многие его коллеги подумали – мрачные времена возвращаются. И решили Пастернака добить окончательно, истереть его в пыль, быть может, даже лагерную. 31 октября 1958 года московские писатели опять собрались, теперь уже в Доме кино. Как свидетельствовал критик Лазарь Лазарев, тон собранию задал его председатель Сергей Смирнов, то и дело повторявший слово «предательство» и даже вроде бы позабытое «враг народа»: «Самым омерзительным, самым гнусным, самым политически опасным было выступление Корнелия Зелинского. Он требовал расправы уже не только с Пастернаком, но и с теми, кто высоко оценивал его талант, кто хвалил его, он доносил на филолога Вячеслава Иванова, призывал: “Этот лжеакадемик должен быть развеян”… Но страшнее выступающих был зал – улюлюкающий, истерически-агрессивный».
После была еще публикация 11 февраля 1959 года стихотворения поэта под заголовком «Нобелевская премия» в лондонской газете «Дейли мейл». После чего Пастернака вызвал к себе на «беседу» генеральный прокурор СССР Роман Руденко, тот самый, что выступал официальным обвинителем на Нюрнбергском процессе. Дальше, как говорится, некуда. А вот и финал – 30 мая 1960 года Пастернак скончался от неизлечимой болезни. Его смерть напугала власть, о ней решили не упоминать в печати. А люди все равно узнали – на кассах Киевского вокзала кто-то повесил рукописное объявление о предстоящих похоронах поэта. На Переделкинском кладбище Пастернак обрел последнее пристанище.
А ведь, казалось бы, – напечатай роман «Новый мир», с которым Пастернак заключил договор еще в 1946 году, успев получить аванс, и не было бы, возможно, такого масштабного международного скандала, спровоцировавшего во многом присуждение автору Нобелевской премии, а затем и его преждевременную кончину.
История с «Доктором Живаго» послужила своеобразной лакмусовой бумажкой, на которой проявились многие недуги не только тяжелобольного советского общества, но и творческой интеллигенции, которая была его частью. Зависть («Ишь ты, премию он в Швеции получил!»), цинизм (говорим одно, думаем другое, пишем третье), наушничество и доносительство (вынужденное и инициативное), потеря чести и достоинства (следствие всего этого) – вот далеко не все аспекты повседневной жизни советской богемы той поры.
Как повлияли годы сталинизма и их отрыжка, которой можно назвать травлю Пастернака, на сознание подросшего молодого поколения богемы? Это привело к формированию андеграунда – мощного, основательного подполья, ставшего альтернативой официальному соцреализму. Советский андеграунд – это не утлый подвал, где доживает свой век недобитый художник-формалист, боящийся любого стука в дверь, а многоуровневое подземное пространство, живущее по своим законам, со своими течениями и, что самое главное, давно отпочковавшееся от того здания, что было создано в 1932 году. А здание это тем временем понемногу начало осыпаться, давать трещинки. Андеграунд и официальное искусство в СССР существовали отдельно друг от друга, но первое очень сильно мешало второму, обесценивая все его попытки развивать соцреализм.
Желание писателей и художников выйти из идеологического контроля творческих союзов и цензуры привело к довольно быстрому распространению самиздата и организации неформальных объединений. Катализатором этих взаимосвязанных процессов послужило не только естественное желание вернуть атмосферу относительно свободных 1920-х годов, но и восстановить утраченные связи с Западом, вернувшись в мировое культурное пространство. В 1959–1960 годах Александр Гинзбург собрал в поэтический альманах «Синтаксис» неопубликованные стихи Генриха Сапгира, Игоря Холина, Сергея Чудакова, Булата Окуджавы, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского и других поэтов. Это были далеко не все желающие. Альманах соединил под своей обложкой всего десять авторов, успело выйти три номера. Участники «Синтаксиса» представляли молодое и дерзкое поколение, в отличие, например, от авторов «Литературной Москвы», изрядно битых властью и цензурой и потому исповедующих политику компромиссов. Молодые же, не нюхавшие сталинского пороха, получив оплеуху, не успокаивались, а искали новый выход на поверхность, как та лягушка из сказки.
В 1965 году сформировалась литературная группа СМОГ («Смелость, мысль, образ, глубина») в составе Леонида Губанова, Юрия Кублановского и др. Молодые поэты не ограничились самиздатом, но провели ряд общественных акций на улицах Москвы. Просуществовал СМОГ недолго, всего год, но встряску дал хорошую, повлияв на развитие современной молодой поэзии и становление ее независимого мировоззрения. В начале 1970-х годов в столице возникла новая поэтическая группа – «Московское время» из студентов МГУ Александра Сопровского, Сергея Гандлевского, Бахыта Кенжеева. Они также выпускали свой «самиздатовский» литературный альманах. К концу 1970-х страх богемы почти развеялся, а самиздат постепенно обрел престижность. Если публикуется в самиздате – значит хороший писатель. Так вышло с альманахом «Метрополь», изданным тиражом 12 экземпляров в Москве в 1979 году.
Чем больше писателей лишалось возможности публиковаться по цензурным соображениям, тем больше их впоследствии покидало страну, тем больше было подпольного чтения. Без самиздата и тамиздата уже невозможно было представить современную литературу. Доставали и читали запрещенные книги Александра Солженицына, Василия Аксенова, Льва Копелева, Жореса Медведева, Виктора Некрасова, Георгия Владимова, Андрея Синявского, Владимира Максимова и многих других, ставших эмигрантами. Третья волна эмиграции, пришедшаяся на 1965–1985 годы, оказалась наиболее плодотворной по сравнению с первыми двумя (после 1917 года и в период войны 1941–1945 годов). Десятки тысяч представителей творческой и научной интеллигенции без сомнений покидали страну, находя возможность влиять на происходящие в ней процессы из-за рубежа. Уезжали не только писатели, но и художники, композиторы, артисты.
После 1953 года оттаяла и художественная жизнь Москвы, то тут, то там стали проводиться полуофициальные выставки выживших мастеров старшего поколения – «формалистов» и их молодых последователей. Молодые студенты-суриковцы впервые увидели их картины, это было что-то новое, так не похожее ни на Бориса Иогансона, ни на Александра Герасимова. Вся Москва ходила на эти выставки – в Дом художника на Кузнецком Мосту и в парк Горького, где, например, в 1957 году выставляли работы Роберта Фалька. Он, слава богу, дожил до своей персональной выставки, открывшей многим большого и самобытного художника. На следующий год Фальк скончался.
В декабре 1959 года на Кузнецком Мосту состоялась посмертная выставка еще одного «формалиста» – Давида Штернберга, также вызвавшая большой ажиотаж. Здесь же впервые широкая аудитория познакомилась с творчеством Эрнста Неизвестного и Николая Андронова. Последний художник относился к поколению так называемого «сурового стиля», ярко представленному также в работах Дмитрия Жилинского, Гелия Коржева, Павла Никонова, Петра Оссовского, Виталия Попкова и др. В попытке преодолеть стереотипы сталинского искусства художники-новаторы группировались вокруг «левого Мосха», то есть Московского отделения Союза художников СССР. Культурная жизнь Москвы бурлила, ее кипение уже невозможно было закрыть крышкой, словно убегающее молоко. Сенсацией стала «Выставка девяти» в марте 1961 года, представившая работы опять же «левого МОСХа» – художников Бориса Биргера, Владимира Вейсберга, Наталии Егоршиной.
В конце 1950-х годов смело заявила о себе студия «Новая реальность» – творческое объединение художников-абстракционистов, игравшее роль генератора неформального искусства на протяжении нескольких десятилетий. Вдохновителем объединения стал фронтовик, художник Элий Белютин. Своим кредо студийцы провозгласили отход от автоматического и стандартного отражения окружающей реальности и обращение к внутреннему мира человека. В Абрамцеве они создали свою мастерскую. Власть оказалась не готова к бурной деятельности билютинцев и даже растерялась. Министр культуры СССР Михайлов пытался было приструнить «Новую реальность», но куда там: выставки шли одна за другой, народ устал от сталинского академизма и все более разворачивался к искусству живому, неподдельному – в 1958 году прошла выставка в парке им. Горького, в 1961-м в кафе «Молодежное», в 1962-м в Литературном музее, в ЦДЛ, Доме кино, Доме ученых. И везде толпы народа.
Во время фестиваля 1957 года в парке культуры устроили показ работ молодых художников из тридцати шести стран мира, посланцы которых приехали в Москву. Чего там только не было – сюрреализм, абстракционизм, экспрессионизм, формализм. В одном из трех павильонов устроили что-то вроде мастерской, где каждый желающий мог наблюдать за процессом творчества художников. Один такой, из американцев, разостлал прямо на полу большой холст, принес ведра с краской и стал «рисовать» – разбрызгивать ее кистью. Увидевшие это москвичи обомлели. Они-то привыкли к иной оценке подобного процесса, трактуемого как банальное хулиганство. Не подкачали и были отмечены на фестивале молодые Анатолий Зверев, Анатолий Брусиловский, Оскар Рабин, Дмитрий Плавинский, для которых фестиваль позволил впервые «вживую» столкнуться с западным современным искусством.
Чувства, охватившие Брусиловского, он сохранил на всю жизнь: «Появилась возможность поработать бок о бок с этими загадочными созданиями – иностранцами! В парке, в Нескучном, соорудили огромный полотняный закут. Его заполнили художники из разных стран – молодые и разные, бородатые и бритые, черные, белые, красные, с красками, холстами, кистями… Я испытывал то же, что и все: радость, восторг, вдохновение. Это был мир Творчества, свобода! Было безумно интересно, был даже шок, когда американцы стали “под Поллока” поливать, плескать и брызгать краской на свои холсты. Это было удивительное раскрепощение, катарсис. И как это контрастировало с обычным “низзя!”. Школа Свободы. Практикум. Вот бы всему советскому народу пройти такой курс реабилитации! Написав большой портрет какой-то жгучей мексиканки, я как-то экспрессивно обвел его черным контуром, что-то выразительно деформировал, акцентировал цветом – и получил приз!»
Фурор произвела Американская промышленная выставка в Сокольниках, которую открыли 25 июля 1959 года Хрущев и вице-президент США Никсон. Реакцию большинства посетителей на раздел выставки, представляющий современное искусство, выразил лично товарищ Хрущев: «Я осмотрел раздел художников. На меня он не только не произвел доброго впечатления, а скорее оттолкнул. В разделе скульптуры то, что я увидел, меня просто потрясло. Скульптура женщины… Я не обладаю должной красочностью языка, чтобы обрисовать, что там было выставлено: какая-то женщина-урод, без всех верных пропорций – просто невозможное зрелище. Как посмотрела бы мать на сына-скульптора, который изобразил женщину в таком виде? Думаю, что он, видимо, ненормальный, потому что человек, нормально видящий природу, никак не может изобразить женщину в таком виде».
Но нашлись и такие, кто не мог видеть природу «нормально», это молодые художники-авангардисты, которым очень хотелось посмотреть работы своих заокеанских коллег, полистать книги, каталоги по искусству. Но где взять пропуск, если ты не член парткома? Странный вопрос для художника – ведь чему-то их все-таки научили в советских творческих вузах – надо взять и нарисовать! Так и сделали Лев Кропивницкий и Оскар Рабин. «Изготовили пять пропусков и могли целые дни проводить на выставке. Там, в Сокольниках, мне удалось рассмотреть не спеша картины Раушенберга, Поллака, Ротко… Но все рекорды побил Кропивницкий: он за раз выпил 50 стаканов бесплатно раздававшейся пепсиколы! Сделал это из принципа, чтобы доказать: этим американским напитком невозможно отравиться, как утверждала советская пропаганда», – вспоминал Рабин, которому удалось еще и вырезать тайком наиболее интересные страницы из толстого фолианта по авангарду.
Для Хрущева знакомство с современным искусством было еще впереди, его ждал Манеж в 1962 году. И всё же на понимание современного американского искусства организаторы выставки в Сокольниках и не рассчитывали. Но им удалось добиться главного: пробить еще одну брешь в «железном занавесе». Многие своими глазами увидели то, что в своих карикатурах рисовал им журнал «Крокодил», – американский образ жизни. Молодые, незашоренные художники тогда крепко призадумались.
«Появились редкие книжки по современному искусству. Но уже было ясно – мы тоже можем, мы вкусили этого духа! И мир распахивался, как занавес, обнаруживая ярко освещенную сцену, полную действующих лиц. И главное – многоликость. Разнообразие, невиданное доселе. На выставках ловкие, дружелюбные гиды, говорящие по-русски с таким замечательным американским акцентом, легко заговаривали, знакомились, были очень свойскими. Они демонстративно отворачивались, когда видели, как хищно горят глаза у посетителей, глядевших на горы ярких, заманчивых книг, они как бы поощряли: давай бери, мы не обеднеем, для того и везли! Тут же пресса стала обличать: мол, шпионы! Идеологические диверсанты! Но было поздно! Уже мы увидели, подсмотрели, прочли все, что успели. И не потому, что сразу поверили, но просто оказалось, что мир очень разнообразен!» – вспоминает Анатолий Брусиловский.
Наконец, знаменитая Таганская выставка в Доме учителя на Большой Коммунистической улице в ноябре 1962 года, которую не заметили только советские средства массовой информации, зато осветили своим вниманием зарубежные журналисты. На Западе репортажи с этой выставки произвели эффект разорвавшейся бомбы: в Москве выставляются авангардисты и никто их не разгоняет.
Однако истинное признание к молодым художникам пришло после выставки в Манеже в 1962 году. Манеж стал еще одним центром художественной жизни Москвы с 1957 года, когда в нем был открыт Центральный выставочный зал. Уже в 1958 году здесь прошла выставка современного польского искусства, где порочность абстрактного искусства активно доказывали предварительно подготовленные экскурсоводы (их называли «искусствоведами в штатском»). Благодаря Манежу показать свои работы получили возможность живописцы и скульпторы, творчество которых не укладывалось в рамки соцреализма. 1 декабря 1962 года на выставке, приуроченной к тридцатилетию Московского союза художников (МОСХ), произошел скандал. Познакомиться с творчеством пришел Хрущев, «пожилой человек с отечным лицом, явно переживавший внутренние колебания», – как запомнили его очевидцы. Его первый вопрос был: «Где у вас тут праведники, где грешники?» – что означало явное замешательство дорогого гостя. На выставке были представлены и картины Древина, Фалька, Кузнецова, Тышлера, Татлина. Рядом висели и ценники на них, причем суммы были указаны дореформенные, то есть с тремя нулями. «За такую-то мазню? Деньги наших трудящихся!» – немедленно отреагировал Хрущев и предложил художникам сразу же приобрести «билет до границы». Кто-то из соратников, видимо, хотел поставить его в явно неудобное положение, так как художники, которых предложил выслать из страны Никита Сергеевич, уже скончались к тому времени, а некоторые и вовсе были расстреляны еще в 1937 году… Что же касается молодых художников, то благодаря скандалу они получили широкую известность на Западе. Советская пропаганда, сама того не желая, дала им отличную характеристику.
Художественная жизнь в Москве была как бы с двойным дном: вот официальные художники, на них ходят организованно, толпами с предприятий, а вот неофициальные, которые выставляются в заштатных выставочных залах спальных районов, о них не объявляют по радио и в газетах, но каждый раз на них собираются гурьбой. Главное, было прийти к открытию, ибо уже через час-другой приезжала милиция и прикрывала лавочку, поскольку проводить такие мероприятия можно было только «с санкции соответствующих органов», – как говаривали домоуправ Бунша и его обожаемая супруга. Разрешения на проведение выставок выдавал исключительно Московский союз художников (или не выдавал, как в этом случае) и только своим членам.
И потому неофициальные художники шли на все, лишь бы показать свои работы. В 1967 году состоялась первая персональная выставка яркого представителя Лианозовской группы Оскара Рабина в клубе «Дружба» на шоссе Энтузиастов. Народ валом валил. Не обошлось и без поэтической общественности, пришли Евгений Евтушенко и Борис Слуцкий, а также заморские дипломаты и корреспонденты. Но даже их присутствие не помешало закрытию экспозиции уже через два часа. Потом была выставка в Московском институте мировой экономики и международных отношений, также просуществовавшая недолго, всего 45 минут. Выставка Олега Целкова в Доме архитектора продлилась 15 минут, Эдуарда Зюзина в кафе «Аэлита» даже три часа, что побило рекорды.
В 1968 году в кафе «Синяя птица» состоялась выставка нонконформистов, в том числе Эрика Булатова и Ильи Кабакова, который неплохо устроился в мастерской художника Юло Соостера на чердаке бывшего доходного дома «Россия» на Сретенском бульваре. Здесь было самое что ни на есть богемное место Москвы – прямо как на парижском Монмартре. Большое пространство чердака было отгорожено для кухни, диванов, раскладушек. Илья Кабаков, в отличие от многих коллег по современному искусству, был членом Союза художников, много работал в книжной иллюстрации. Его принято относить к так называемой группе «Сретенского бульвара».
А Юло Соостер, легендарный эстонский художник, оттрубивший семь лет в ГУЛАГе и ставший культовой фигурой советского андеграунда, жил со своей женой Лидией в подвале на улице Красина, рядом с площадью Маяковского. С 1960 года на «вторники на Красина» в этом импровизированном художественном салоне собиралась вся интеллектуальная Москва – артисты, ученые, прочая богема. Соостер так и не увидел при жизни ни одной своей персональной выставки, скончавшись в 1970 году.
В 1969 году печально закончилась персональная выставка художников Люциана Грибкова и Владислава Зубарева в подвале так называемого дома Берии во Вспольном переулке. Это была попытка представить творчество «Новой реальности» после семилетнего перерыва, прошедшего со дня выставки в Манеже. Однако вскоре после открытия выставка была разогнана милиционерами.
Апофеозом стала несанкционированная «Бульдозерная выставка», состоявшаяся 15 сентября 1974 года в Беляеве. К ней предварительно подготовились и художники, и московские власти. Первые напечатали на машинке приглашения с текстом:
«Приглашаем Вас на первый осенний просмотр картин на открытом воздухе.
Выставка состоится с 12 до 14 часов по адресу:
конец Профсоюзной улицы до пересечения с ул. Островитянова».
Приглашения художники направили в многочисленные посольства, что было неудивительно: в это время в США решался вопрос о предоставлении СССР статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Московские власти, со своей стороны, решили провести на этом месте субботник по высадке саженцев (вообще-то было воскресенье, но, как мы знаем, в той Москве субботник мог пройти в любой день недели), отправив в Беляево бульдозеры, самосвалы и поливальные машины (весь день шел дождь), а еще большее число – милиционеров.
Утром художники стали прибывать на место небольшими группками, с картинами и треножниками в руках. Милиция их уже ждала. Оскара Рабина задержали под предлогом того, что он похож на некоего давно разыскиваемого преступника, у кого-то укравшего часы в метро, однако после проверки документов отпустили. «Когда мы наконец добрались до места, – пишет Рабин, – перед нами открылась панорама, которую я никогда не забуду. Под мелким дождем в жалкую кучку сбились художники, не решающиеся распаковать картины. Всюду виднелись милицейские машины, но милиционеров в форме было немного. Зато было много здоровенных молодцев в штатском с лопатами в руках. Иностранные корреспонденты и дипломаты ждали, какие будут наши дальнейшие действия. Я распаковал свои картины и, не имея возможности водрузить их на треножник, стал держать полотна на вытянутых руках. Большинство художников последовали моему примеру».
Началась свалка: прибывшие «трудящиеся» в штатском с плакатами «Все на субботник!» и «Превратим Москву в образцовый коммунистический город!» схлестнулись с художниками, пытавшимися защитить свои картины от уничтожения. В дело вступил бульдозер, благодаря чему этот вид строительной техники вошел в историю современного искусства. Картины топтали, рвали, поджигали. Всё это фотографировали и снимали многочисленные западные журналисты, одному из которых, попавшемуся под горячую руку, даже выбили зубы его же фотоаппаратом.
Все художники встретились уже в КПЗ, общим числом более пятидесяти человек, наиболее отъявленных из них приговорили к штрафу в 25 рублей. А вечером того же Рабина пригласили на прием в мексиканское посольство. Необычайный успех! Это и было истинной целью выставки – не привлечь народ, как обычно, а вызвать горячий интерес зарубежной прессы и общественности. В этот день уже многие москвичи узнали о произошедшем по «вражеским голосам». Пиар-акция удалась на славу. Что было изображено на картинах – не важно, главное – разогнали, да еще и бульдозерами! А ведь бульдозер – почти танк, получается, что в спальном Беляеве случилась если не Пражская весна, то уж осень точно.
В Кремле тоже слушали «вражеские голоса» и читали газеты, оттуда и поступило указание московскому партийному вождю товарищу Гришину: вопрос решить по-новому, в духе, так сказать, разрядки международной напряженности и все такое… Случилось совсем неожиданное – новую выставку разрешили провести через две недели в Измайлове, 29 сентября 1974 года. И это после разгрома в Беляеве!