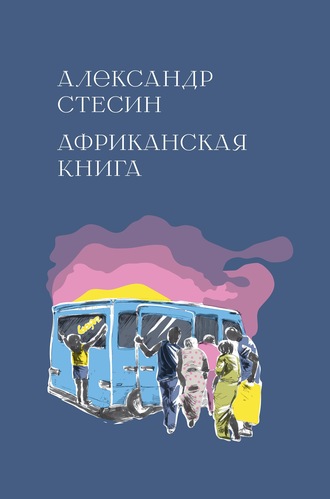
Александр Стесин
Африканская книга
Отец Наны владел крупной компанией, импортирующей лекарства, а также сетью аптек, разбросанных по всему Центральному региону. Он был ганцем только наполовину: бабка, в честь которой назвали Нану, была уроженкой Канарских островов. В свое время брат отца, полковник Нкетсия, был влиятельным политиком и лидирующим кандидатом на пост президента. После военного переворота Джерри Ролингса в 1979 году Нкетсия бежал в Англию, где ему удалось получить политическое убежище. В Англии он занялся фотографией и несколько раз выставлялся в одной из лондонских галерей.
Я все время ловлю себя на том, что «притягиваю за уши» общность детских воспоминаний. Сталкиваясь в Америке с людьми из самых отдаленных точек мира, я старательно высматриваю в их рассказах некий исходный опыт, который роднил бы китайца или индуса с выходцем из России. Наверное, это и есть менталитет эмигранта, сколько бы я ни убеждал себя, что я – не эмигрант. В школьных рассказах Наны искомых узнаваний было сколько угодно. Тут не приходилось ничего додумывать. Все было знакомо и в то же время утрировано до пародийности. После того как Ролингс провел государственную реформу образования, из школьной программы в Гане полностью исключили все пережитки колониального периода – в первую очередь европейскую историю и литературу. Химию, физику и биологию сократили до одного предмета под названием «точные науки». Зато ввели историю африканского освобождения, а также основы сельского хозяйства и скотоводства. Школьники учились отличать по цвету и запаху десять видов почвы; узнавали о выведении новых пород домашнего скота, об усовершенствованных технологиях дойки. Проводились соревнования классов по выращиванию помидоров. Следующим шел предмет «жизненные науки», на котором учили класть кирпичи и работать с мачете. В шестом классе девочки шили фартуки, а в седьмом – готовили в этих фартуках традиционные похлебки, которые уписывал весь преподавательский состав. Летом учащихся посылали на практику – выкапывать ямс. И т. д. и т. п. Все знакомо, от линеек и доски почета до байки о том, как на рождественских каникулах учитель истории повел старшеклассников в поход, где напился пальмового вина, после чего его искали всю ночь и нашли к утру мирно спящим в чьем-то огороде. Чем больше я слушал, тем труднее мне было представить себе это африканское детство, где королевские церемонии и украшенный золотом паланкин сочетались с уборкой картошки и пионерскими песнями у костра. Правда, песен под гитару как таковых в рассказах Наны все-таки не было. Вместо них фигурировали пионерские пляски под барабан.
Когда дочери исполнилось четырнадцать лет, родители, слабо верившие в преимущества новой системы образования, решили последовать примеру самого Ролингса: перед тем как учредить реформу, глава правительства предусмотрительно отправил собственных детей учиться за рубеж. Ближайшим родственником Нкетсии за границей был осевший в Лондоне брат отца, но обращаться к нему представлялось опасным. Бывший полковник, хоть и переквалифицировался в фотографы, продолжал оставаться политической persona non grata. Словом, Нану отправили в штат Вирджиния, где жила тетушка Майя, она же – афроамериканская писательница Майя Анджелу, вторая жена покойного деда Кобина IV. В Вирджинии Нану отдали в дорогую частную школу, где она оказалась единственной чернокожей. «Можешь себе представить, как мне там было уютно». Впрочем, в среде афроамериканцев, с которой она столкнулась позже, African princess встретила не больше понимания, чем среди белых южан.
После окончания школы Нана поступила в Пенсильванский университет, где без энтузиазма училась то на психолога, то на экономиста. И вот в один прекрасный день на нее снизошло озарение, вызванное газетным объявлением. Агентство такое-то предлагает медсестринские курсы и нанимает на работу в должности «странствующей медсестры». Есть, оказывается, и такая профессия. От обычной медсестры это отличается условиями контракта и тем, что в роли первичного работодателя выступает не больница, а частное агентство по трудоустройству. Агентство занимается поиском временных вакансий. Подписывая долгосрочный контракт, ты соглашаешься ежегодно менять место работы и жительства. Конкретные условия зависят от места, но в основном это работа в реанимации в ночную смену. «Я не очень люблю общаться с людьми, – говорила Нана, – а ночью в реанимации никого нет, только пациенты, да и те, как правило, заинтубированы. И в то же время я делаю доброе дело, приношу пользу». «Вот-вот, я же говорил тебе, что она – мизантроп», – невпопад вставлял Энтони.
Узнав о столь нетрадиционном выборе профессии, отец Наны приехал в Америку наставить дочь на путь истинный («В мире белых людей наши дети должны становиться врачами либо адвокатами»). Но не тут-то было. Две недели семейной драмы не сломили дух новоиспеченной traveling nurse. Вернувшись в Гану, отец объявил, что лишает Нану наследства. С тех пор они не общались.
Мне хочется раз за разом погружаться в незнакомую среду, пребывать в растерянности, испытывать дискомфорт, связанный с невозможностью объясниться на чужом языке. Попадая в новое пространство, я не хочу ощущать себя ни туристом-лириком, ни путешественником-первопроходцем. Я хочу повторить мучительный опыт двадцатилетней давности – заново пройти через эмиграцию, начать с пустоты. Диагнозы, которые я готов сам себе поставить, лежат на поверхности: изживание детской памяти, необходимость мнимого контроля над прошлым. Но ведь дело не только в этом.
Одно из последних предотъездных воспоминаний: Юра Дворкин с первого этажа, усердно косящий под советского рокера, отращивающий патлы, обзаводящийся телагой и вареными джинсами. На плече – кассетник с Наутилусами и «Группой крови». Через два месяца он переедет в Хайфу (фотографии с шаурмой и кальяном, первая работа на бензоколонке, израильская армия и т. д.).
Это была зима девяностого года; Юре было тогда тринадцать или четырнадцать. Я – на два года младше, смотрел снизу вверх. Запомнилось как нечто необъяснимое: его предстоящий отъезд и пубертатное желание наспех совпасть с последней модой московского двора, подготовиться к новой фазе жизни, которая начнется и закончится здесь без него.
4
Когда Осейи и Амма Овусу, у которых недавно родился сын, объявили о том, что собираются устроить Эдин тоа, весь разноцветный коллектив от румына до китаянки подрядился участвовать в проведении этой пышной церемонии, хотя никто понятия не имел, в чем она заключается.
– Насколько я понимаю, это Праздник имени, – догадался Энтони, – у йоруба тоже есть что-то подобное. Когда человек рождается, он приводит в мир своего личного бога, иначе говоря, свое предназначение. На седьмой, что ли, день после рождения ребенка приносят к старейшине. Тот наблюдает за младенцем, пытаясь угадать его бога, и выбирает подходящее имя.
– Интересно, Энтони Пол, кто был тот мудрый старейшина, который назвал тебя в честь русского писателя?
– Опять ты со своим русским писателем. Мои родители к прорицателю не бегали, у меня вообще-то отец – профессор лингвистики, а мама была биохимиком. Просто им понравилось имя Энтони, вот и всё. А Пол – это европеизированное Абаола, так звали моего деда.
В назначенный день мы явились минута в минуту, хотя Нана и выражала определенные сомнения относительно того, что традиционная ганская церемония может начаться вовремя. Хозяин дома, встретивший нас на пороге в нижнем белье, подтвердил ее опасения и, немало удивившись («Вы что, на дежурство пришли? Когда зовут на три, имеется в виду: приходить не раньше половины шестого!»), отправил в близлежащую кофейню «Старбакс». Таким образом, в течение следующих двух часов у меня была возможность узнать во всех подробностях о значении Эдин тоа в культуре ашанти, заодно наблюдая, как Энтони сверлит взглядом белокурых красоток за окном кофейни и все больше раздражается дотошностью Наниного экскурса.
Согласно аканской традиции, первые семь дней жизни ребенок проводит с матерью в специально отведенном помещении, откуда им не полагается выходить. Это – испытательный срок: если дитя умрет, не прожив и недели, значит, его душа посетила мир живых, чтобы только взглянуть и, удовлетворив любопытство, возвратиться в мир духов. Поэтому ребенка, умершего в течение первой недели, не оплакивают. Если же на восьмой день младенец жив, значит, он полюбил лицо и голос женщины, которая его родила, и решил остаться, чтобы сделать ее счастливой.
Утром восьмого дня ребенка приносят к старейшинам и дают ему имя, точнее – имена. Первое имя знаменует день недели, в который он родился. Мальчика, чей Эдин тоа пришелся на пятницу (фиада), назовут Кофи («пришедший в пятницу») и т. д. Каждому дню недели покровительствует то или иное божество[10], так что старейшинам аканских племен – в отличие от йоруба – не приходится угадывать личного бога, достаточно свериться с «гороскопом». «Вот ты в какой день недели родился?» – спросила у меня Нана. Гугл выдал ответ: вторник. «Во вторник? Значит, ты – Квабена. А что, по-моему, звучит: Квабена Стесин!» «Квабена, Квабена!» – подхватил Энтони. Вскоре мое новое имя станет известно всем африканцам Сент-Винсента и закрепится за мной на годы вперед. Я – мальчик, родившийся во вторник.
Второе и третье имя – в честь кого-нибудь из предков; дальше – имя, выражающее пожелания родителей своему чаду; и наконец – имя рода. В колониальный период ашанти часто давали детям ничего не значащие имена, чтобы отвадить богов-покровителей: дескать, это не настоящее, не на всю жизнь. Имя, данное в рабстве, не может быть настоящим, так как рабство не может быть истинным предназначением человека.
Складные стулья были расставлены по периметру комнаты, и, по очереди здороваясь с сидящими, каждый новоприбывший совершал круг почета – обязательно против часовой стрелки. К шести вечера все были в сборе. Вопреки моим ожиданиям, ни румына, ни китаянки в комнате не оказалось; помимо нас с Энтони, на церемонии присутствовали только ганцы. Доктор Пэппим, выступавший в роли старейшины, вышел на середину комнаты и, достав из кармана шпаргалку, развел руками: это вам не лекция по реаниматологии.
Каждое имя есть уникальное сочетание звуков. Если имя выбрано правильно, это сочетание звуков резонирует с душой человека и придает ему силы. Наше предназначение заложено в нас Творцом, и мы исполняем Его замысел, откликаясь на зов, пробуждаясь для жизни всякий раз, когда нас называют по имени. Какой сегодня день? Сегодня воскресенье – квезиэда. Бабушка Воскресенье, дедушка Воскресенье, сегодня перед вами младенец, который встретил с нами утреннюю звезду. Его мы называем Квези.
С этими словами Пэппим взял спящего сына из рук Аммы и, трижды подняв на вытянутых руках, поднес к столику, на котором стояли бокалы с водой и вином и лежали несколько ракушек. Положив ракушки на лоб младенца, Пэппим окропил его губы водой: «Если скажешь нсуо[11], пусть это будет вода». Затем окропил вином: «Если скажешь нса[12], пусть это будет нса… Аквааба![13] Братья и сестры, я поздравляю вас всех!»
Завершив церемонию, Пэппим ретировался в облюбованное кожаное кресло и продремал в нем оставшуюся часть вечера. Между тем гости переместились к столу. Старший ординатор Йау Аманкона предварил трапезу еще одной торжественной речью, но на этот раз ораторство не сопровождалось возгласами «Ампа!»[14] – каждое слово витии камнем падало в колодец всеобщего голода.
Одно за другим потянулись праздничные блюда: арахисовая похлебка с индюшкой и копченой рыбой, пальмовый суп с козлятиной и листьями ямса, блюдо из перемолотых семечек африканской дыни, красный рис джолоф, кускус из сброженного маниока в банановых листьях, жареные плантаны с имбирем и фасолью в пальмовом масле. И – какой же праздник без фуфу! Фуфу – это патриотическая гордость, «щи да каша» западноафриканской кухни. Густое пюре из кокоямса, плантанов или маниока, похожее на белый пластилин – как по виду, так и по вкусу. Пластилин скатывают в шарики. Шарики полагается макать в мясную похлебку и разом проглатывать. «Ел без фуфу – вообще не ел», – утверждают знатоки этого дела.
Расходиться начали за полночь; в третьем часу утра в комнате еще вовсю продолжались оголтелые пляски под бой твенебоа, оплетенного ракушечными ожерельями. Казалось, во всем многоэтажном доме есть только два человека, способные спать под этот грохот как ни в чем не бывало, – Квези и доктор Пэппим.
На следующий день остатки угощения, расфасованные в пластиковые емкости, очутились на прилавке магазинчика «Африкана эдуому»[15], находившегося через дорогу от больницы.
Кэрен Б., 36 лет. Алкогольный цирроз печени. Симптомы болезни – желтуха, асциты – проявились еще месяц назад. Первые три недели было «терпимо»; за день до поступления началась кровавая рвота. В больнице ей сделали неотложную склеротерапию варикозных вен, но через несколько часов кровотечения возобновились, отказали почки. Гематокрит не поднимается выше критического уровня, несмотря на многочисленные переливания крови. Время оповестить родных. Около полуночи я делаю междугородний звонок в Массачуссетс, где живут ее родители.
Сколько раз я видел в онкологической клинике, как родные восьмидесятилетнего старика или старухи умоляли врачей сделать все возможное, до последнего момента отказываясь верить фактам. Но я ни разу не видел, чтобы родственники просили сделать все возможное для сравнительно молодого человека, умирающего от цирроза.
– Понимаете, я просто не хочу, чтобы она продолжала мучиться, – говорит мать Кэрен.
– Я понимаю. Мы остановим инфузии препаратов, которые поддерживают ее давление, отключим искусственную вентиляцию легких и поставим капельницу с морфием. Она не будет чувствовать боли.
– Как вы думаете, сколько она может прожить… после того, как вы все отключите?
– Пару часов, может быть, меньше. Но ведь это не к спеху – все отключать. Мы можем подождать и до завтра, и до послезавтра. Я имею в виду, мы можем дать вам возможность с ней попрощаться.
– Спасибо вам, доктор, но… лучше не надо. Мы – люди пожилые, нам тяжело… Кроме того, завтра у ее отца день рождения. Просто позвоните нам, когда все закончится.
В четвертом часу утра поступил ожидаемый вызов. Медсестра встретила меня в дверях палаты: «Извините, доктор, я вызывала вас подтвердить наступление смерти, но, кажется, поторопилась. Теперь уже недолго: среднее артериальное давление – ниже пятидесяти. Минут десять – пятнадцать, не больше… Подождем вместе, ладно?»
Я стою между изголовьем кровати и монитором, слежу за редеющими бугорками кардиограммы. У меня кружится голова. На подоконнике лежит принесенная кем-то из близких фотография пятилетней давности: розовощекая красавица Кэрен, лучась навсегда запечатленным счастьем, обнимает улыбающихся родителей на курортном фоне. Десять – пятнадцать минут превращаются в сорок пять.
Медленнее, медленнее – как будто умирает не она, а монитор, через силу выдавливающий гудки. Я слышу, как медсестра, стоящая за моей спиной, лопочет что попало, лишь бы заглушить нарастающий хрип агонального дыхания. Медленнее, медленнее. Асистолия. Всё… Нет, не всё: еще один-два припадочных вздоха – пузырящееся дыхание мертвеца. Теперь всё. Я проверяю зрачки, прикладываю стетоскоп к груди. «Смерть наступила в четыре часа двадцать семь минут», – говорит моим голосом посторонний.
5
Продовольственный магазин и чоп-бар «Африкана эдуому», которым владели радушные Бенад и Маоли Онипа, выполнял функцию социального клуба: по вечерам сюда стекалась вся западноафриканская община Бриджпорта. Старики занимали позиции за приземистым столиком для овари[16] и, засеяв лунки игральными ракушками, начинали неспешный обмен новостями. Молодежь толпилась возле установленного в дальнем углу караоке, пританцовывая и горланя неизменное «Эйе ву дэ анаа, эйе ме дэ паа».
– Ий! Эхефа на уасвиа чви каса?[17] – удивился Бенад Онипа, когда, впервые заглянув в «Эдуому», я обратился к нему на ломаном аканском наречии.
– Меуо ннамфоо асантени на уономчьерэ мэ какраа-какра[18].
– Юу-у, матэ. Эсвиани, энье аквааба![19]
Довольно скоро «Эдуому», находившийся в двух шагах от Сент-Винсента и кирпичной трехэтажки, где я снимал квартиру, стал для меня вторым домом или третьей вершиной равностороннего треугольника, внутри которого я проводил все свое время, поскольку больше в Бриджпорте податься было некуда. «Католическая миссия, хижина, чоп-бар – всё как надо. Еще добавить революцию да малярию, и будет полный африканский набор», – отметил язвительный Оникепе.
Каждую пятницу Маоли стряпала африканскую пищу и угощала постоянных клиентов. Несколько раз, во время тридцатичасовых дежурств, я получал СМС: «Доктор Алекс! Брат Бенад и сестра Маоли знают, что ты сегодня дежуришь и наверняка голодаешь. Спустись, пожалуйста, в вестибюль». В вестибюле меня ждал Бенад с улыбкой до ушей и кастрюлей дымящегося риса джолоф. Денег он не брал и, раздраженно отмахиваясь от купюр, которые я пытался ему всучить, повторял девиз племенного сожительства: «Если птицы рядом гнездятся, значит, птицы друг другу еще пригодятся». Стало быть, белая ворона – тоже ворона, часть стаи. Я растроганно примерял к себе эту птичью истину, тем более что и в моем «оперении» уже имелось кое-что ганское: под Рождество Нана и Маоли подарили мне по вышивной рубахе кенте.
– Доктор Алекс, когда заканчивается твое дежурство? – спросил Бенад, в очередной раз вручая мне кастрюлю с вкуснятиной.
– Завтра утром.
– Тогда завтра вечером приходи к нам в «Эдуому». Познакомишься со знаменитостью!
– Какая такая знаменитость?
– Ганский поэт. Тридцать лет, а уже целую книгу стихов написал. В газете его сравнивали с Воле Шойинкой[20].
Поэта звали Принц Нсонваа. Он и выглядел классическим поэтом или киноактером, играющим большого поэта на большом экране. Водолазка, задумчиво-выразительное лицо, обрамленное наждачной небритостью. Если бы Принц Нсонваа был белым, у него обязательно была бы челка. Прослышав от хозяев, что я – Russian poet, изучающий чви, Принц торжественно объявил, что обязуется – если я, конечно, не против – регулярно присылать русскому коллеге свои творения, а также преподавать ему (то есть мне) основы языка чви по переписке.
В тот же день я получил первый образец его творчества. Стихотворение называлось «Senea w’awofo ahwe wo ama wo se afifiri no, ese se wohwe won ma woonom dee tutu»[21]. Сам текст был не намного длиннее названия и, по существу, лишь перефразировал нравственное предписание в форме императива. Помимо стихотворения, к имейлу прилагались: аудиофайл с авторским чтением и причудливо-иероглифический рисунок, значение которого, видимо, обыгрывалось в данном сочинении.
– Тебя трогают эти стихи? – спросил я у Наны, показав ей шедевр моего нового знакомца.
– А тебя? Если тебя интересует ганская литература, почитай лучше Айи Квеи Арма и не морочь мне голову.
На протяжении следующих полутора недель поэт исправно присылал мне ежеутренние стихи с аудиофайлами и рисунками, а по вечерам – короткие письма на чви с заботливым переводом в скобках после каждого предложения. Наконец, очевидно устав от этой обременительной переписки, Нсонваа деловито спросил, не согласится ли «менвиа Алекс»[22] помочь ему с переводами стихов на английский для публикации в антологии. Получив утвердительный ответ, поблагодарил и пообещал прислать весь корпус через денек-другой, после чего исчез.
Позже я узнал, что подобные назидательные тексты, сопровождаемые иероглифическими узорами, – вполне традиционный «смешанный жанр». Узоры называются адинкра; с каждым узором связан определенный обряд, а также какая-нибудь пословица или идиома. Говорят, коллекция некоего этнографа, собиравшего адинкра по всему Аканскому региону, насчитывала больше тысячи пиктограмм. Одна из главных функций поэзии – развивать и интерпретировать символику адинкра. А поскольку вся словесность у ашанти до недавнего времени была устной, без аудиозаписей тут не обойтись. Не читать надо, а слышать. Недаром глагол тэ имеет не одно, а как минимум четыре значения: говорить, слышать, чувствовать, обитать.
Что касается пословиц, то для западноафриканских племен они больше чем просто народная мудрость. Это и свод законов, и магические заклинания, и своеобразная форма ораторского искусства. «Слова – пища для души, а пословицы – пальмовое масло, с которым едят эту пищу». «С мудрецом говорят поговорками». «Иногда пословица – это твой меч, иногда – твой щит». Африканский талмуд пословиц и поговорок. Так, два престарелых ашанти, завсегдатаи «Эдуому», могут часами вести беседу, целиком состоящую из иносказательных афоризмов.
– Что скажешь, Коджо, какие новости?
– Что сказать, Кофи… Когда крыса находит фуфу, она ест фуфу, но пестик и ступку в крысиной норе не упрячешь. Если пальма гнется, значит, земля шепнула ей дурную весть. На каждой ветке по птице – дерева не видать. Слишком много нарядов, точно на похоронах.
– Не всякое облако приносит дождь, – парирует Кофи. – И потом, даже самый острый нож не разрежет собственной рукояти.
– Так-то оно так, но, если бревно кладут в реку, оно не превращается от этого в рыбу. Тот, у кого нет одежды, всегда участвует в танце Асафо. На базаре бороду не продашь. Как сказал пес, если я упаду, а ты встанешь, будем считать, что это игра.
– Эй, Коджо, что Господь пожелал, человек не отменит. Закрой мертвецу глаза – и увидишь духа. Обращаясь к Богу, начни с обращения к воздуху.
Неискушенному слушателю вроде меня может показаться, что они просто состязаются в словоблудии. Однако информационный повод всегда присутствует. В данном случае речь идет о неудачной поездке: Коджо только что вернулся из Нью-Йорка, где гостил у детей. Дети, говорит он, живут теперь своими заботами и принимали старика не так, как требует обычай. Кроме того, в Нью-Йорке им, похоже, живется плохо, хотя они всячески стараются это скрыть. Коджо злится, Кофи пытается его вразумить. Впрочем, главное здесь все-таки форма, а не содержание. Ритуал диалога, пища для души, завезенная в Бриджпорт из африканской деревни. Непроглатываемый, словно шарик фуфу, комок ностальгии.
Родные и близкие, соседи и родственники соседей, облаченные в черные и красные платья, напоминающие римскую тогу, выгружаются из микроавтобусов, рассаживаются по кругу, раскрывают большие зонты с оборками. Многочасовое действо, разворачивающееся в центре круга при активном участии зрителей, называется овуо ачведье[23] – по названию одного из узоров адинкра.
Атмосфера – при всей серьезности повода – скорее праздничная. По аканской традиции так и должно быть: если «виновнику торжества» посчастливилось дотянуть до почтенной старости, его похороны – это прежде всего праздник жизни. Песни, пляски, даже своеобразный капустник, в котором обыгрываются эпизоды из жизни усопшего… Но самое невероятное – гроб в форме рыбы, привезенный из Ганы и наверняка стоивший заказчикам большей части семейных сбережений. Как нетрудно догадаться, покойный был хозяином рыбной лавки.
К микрофону подходит харизматичный священник в темных очках, как у агента спецслужбы. Проповедническое крещендо, пестрящее словами исцеление и спасение, нарастает вровень с дождем, точь-в-точь как в романе Чинуа Ачебе («одежда, словно в страхе, липла к телу…»). Время от времени дождь ненадолго утихает, как бы прислушиваясь, и через несколько минут припускает с новой силой. Наконец проповедник уступает стихии и, все еще на взводе, нараспев приглашает собравшихся перейти под навес. Паства снимается с мест, поправляет намокшие складки драпировки, передвигает стулья.
6
Гамбиец Джеймс Кларк выучил русский только за то, что на нем говорила первая любовь, в свое время учившаяся во ВГИКе. Кроме того, он свободно владел как минимум пятью африканскими языками: малинке, фульбе, волоф, чви и неправильным английским. Знание русского ограничивалось у него отдельными фразами, но фразы эти – из уст африканца – были поистине замечательны. Когда нас представили, Кларк протянул мне руку со словами: «Zhiteli vol’nyh pastbisch privetstvujut vas!» В другой раз, возмущаясь только что прочитанной болтовней какого-то политического обозревателя, подытожил: «V „Izvestijah“ net pravdy, v „Pravde“ net izvestij». Между тем на одной шестой он никогда не бывал, да и русскоговорящая кинематографистка осталась в далеком тропическом прошлом.
Когда-то, давным-давно, он учился в Гане – на одном курсе с Пэппимом и Апалоо. Был свидетелем на их свадьбе. После мединститута эмигрировал в Америку, поступил в ординатуру в Нью-Йорке. Поступил, да не закончил – повздорил с одним из старших коллег. После этого он перебрался в Англию, где мотался из больницы в больницу, подвизаясь в качестве locum tenens[24]; затем ненадолго вернулся в Гамбию и вот к пятидесяти годам, женившись на американке, снова приехал в Штаты и – по протекции друзей юности – получил место в ординатуре Сент-Винсента.
К бывшему однокашнику и нынешнему начальнику, неизменно величавшему его «дядя Джимми», Кларк обращался с почтительным «доктор Пэппим», с помощью мимики стараясь обозначить в этом обращении уместную долю шутки. По утрам, рапортуя Пэппиму о проделанной за ночь работе, Кларк покрывался бисером пота, и его речь становилась похожей на бормотание гоголевского персонажа. При виде этой сцены – отчаянно потеющий Кларк, упитанная невозмутимость Пэппима – я вспоминал рассказ Наны о том, как в начальной школе она могла запросто приказать однокласснице из малоимущей семьи, чтобы та донесла до дому Нанин портфель или сбегала посреди урока в кафетерий за плюшкой… Словом, голова у меня была занята не тем, чем надо, так что, когда приходила моя очередь рапортовать, я начинал мямлить и путаться еще больше, чем мой напарник.
Он был дотошен во всем, что касалось заполнения бланков, выписок, рецептов и проч. В первый же вечер он показал мне, как и что следует заполнять:
– Я люблю, чтобы все записи велись определенным образом. Документация всегда должна быть в порядке. Иначе хлопот не оберешься.
– Хорошо, Джеймс.
– Называй меня лучше дядя Джимми или просто Джимми. Никаких формальностей. И вообще, ты – босс, а я – твой помощник, – сказал он в точности, как Оникепе. – Мне бы, главное, закончить чертову ординатуру, а там – трава не расти.
– Ну так ведь ты и заканчиваешь через полгода. Недолго осталось.
– Для меня шесть месяцев здесь – это слишком долго. За три года я успел возненавидеть этот госпиталь и все, что с ним связано. Я мечтаю только об одном: о непыльной работе в Мэриленде, где живет моя жена… Если б я мог прокрутить жизнь на несколько лет назад, ни за что не уехал бы из Гамбии. А если бы мог вообще начать сначала, не стал бы заниматься медициной.
– А чем бы ты тогда занимался?
– Чем-нибудь полезным. Стал бы ремесленником.
Среди заправлявших в стационаре немолодых «сестричек» дядюшка Джимми имел надежную репутацию старого добряка. Каждый вечер, совершая дежурный моцион по этажу, он приветствовал их непритворно-приторными «дорогая моя!» и «добрый вечер, прекрасная леди!».
Когда выдавались свободные полчаса, Кларк уединялся в каком-нибудь закутке и моментально задремывал, сидя на стуле и прислонившись к стенке. На вопрос, почему бы ему не улечься в дежурке, где стояли две относительно удобные койки, отвечал, что предпочитает «быть начеку».
Разносторонне начитанный, всегда и обо всем имевший подробное мнение, он мог быть интересным собеседником, но, как все уставшие и живущие через силу люди, часто повторялся. Его любимыми присказками были: «В Европе этого никогда бы не позволили» (когда речь шла о восьмидесятичасовой рабочей неделе и прочих мытарствах американского ординатора) и «Африка – прóклятый континент» (речь могла идти о чем угодно).
– Почему же прóклятый? Ты ведь сам говорил, что жалеешь о том, что уехал из Гамбии.
– Durnoe, da rodnoe, – произнес Кларк, в очередной раз демонстрируя недюжинные познания в области русской словесности. – Наши политики любят напоминать, что Африка – наша общая мать. У вас, наверное, это тоже в ходу? Я имею в виду всю эту «материнскую» риторику.
– «У нас» – это где?
– Да где угодно. В Америке, в России… Когда я слышу про это «материнство», у меня срабатывает профессиональный рефлекс: я сразу начинаю думать о болезнях, передающихся по наследству. А болезней в Африке больше, чем где бы то ни было. Приедешь, увидишь… Прóклятый континент. Я бы мог там жить, если бы не уехал, потому что знаю правила игры. Первое правило: когда дерутся слоны, больше всех страдает трава у них под ногами.
– Этэ сэйн! – Вихрем ворвавшийся в комнату Йау Аманкона от души рыгнул и шлепнул на стол медкарту. – Можете меня поздравить. Мне опять подсунули Флору Кабезас.
– Кто это ее к нам пустил? Мы же сто раз уже объясняли в пункте первой помощи, что ее надо гнать взашей.
– А она новый способ изобрела. Надышалась пыли в каком-то подвале, чтобы спровоцировать астматический приступ. Никуда не денешься, надо класть. Пока лежала в приемнике, все уши медсестрам прожужжала: и это у нее болит, и то болит. Те не выдержали и дали ей морфий. Теперь ее не выгонишь.
– Да, хорош у нас список пациентов, – отозвался Кларк, – наркоман на наркомане. Вот на что уходят деньги налогоплательщиков.
– Пока я не попал в Америку, даже представить себе не мог, что такое бывает, – неистовствовал Аманкона. – В Гане люди толпами подыхают от инфекций, так ни разу и не побывав у врача. А тут – болей не хочу. Всё есть – и лекарства, и оборудование. Приходишь в травмпункт, говоришь, мол, живот болит, и тебя сразу кладут в стационар. Кормят, поят… И что? Вместо того чтобы жить как следует, они торчат на морфии, выклянчивают его, валяются всю жизнь в больнице, лишь бы кайф поймать. Мерзость.
– Ну, медики, положим, тоже не без вины, – рассудил мудрый Кларк. – Как ты правильно сказал, дядя Йау, если больной в Америке жалуется на боль, его первым делом сажают на морфий. Это, кстати, к нашему предыдущему разговору. – Кларк повернулся ко мне. – В Европе такого никогда бы не допустили…
– А я и не говорю, что виноваты только пациенты. Виноваты врачи, которые с ними миндальничают. А еще больше виновато судопроизводство, которым нас все время запугивают. Дело в системе. И в тех, кто ею управляет. Заговор он и есть заговор.
– Какой заговор? Еврейский? – Я уже слышал от кого-то из ординаторов, что Аманкона одержим теорией еврейского заговора, но для собственного удобства решил, что это шутка.
– Я ничего не говорил. Но ведь все всё понимают…







