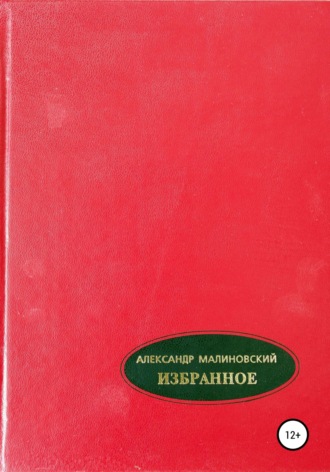
Александр Станиславович Малиновский
Избранное. Том 2
Пожар в школе
Спалось Шурке плохо. Снились какие-то люди в тулупах, лошади.
Под утро случился большой переполох. Часто захлопали калиткой, дверью в задней избе. Шурка, продирая заспанные глаза, встал и пошел на бабкин голос на кухне. Пол был холодный, и он старался наступать одними пятками.
– Шурка, почему чулки не надел, иди скорее назад или коты вон возьми.
– А что случилось, баб?
– Школа горит, мужики помчались тушить.
Бабка уже растапливала печку. На шестке лежали сухие полешки, а на полу несколько котяков. В глубине печи горел маленький, как игрушечный, костерок. Пахло морозом, который прорывался временами через дверь, керосином и котяками.
Баба Груня взяла увесистую полешку, покапала на нее из бутылки керосином и ловко швырнула в затухающий костерок – печка обрадованно враз засветилась, загудела одобрительно.
– Кому сказала, что стоишь? Иди досыпай!
– Значит, в школу сегодня не идти! – обрадовано выскочило у Шурки, и он сам удивился этому.
Бабка Груня выпрямилась, взглянула в упор своими черными большущими глазами:
– Разве так можно? Это ж беда какая! А? – И укоризненно покачала головой.
Ему стало стыдно, и уже не на пятках, а быстро шлепая всеми ступнями, он засеменил в свой укромный уголок.
…Утром при входе на школьный двор Шурка ужаснулся: левого крыла деревянной школы, где находился его класс и мастерская по труду, не было. Была куча хлама, гора каких-то неузнаваемых предметов и горелый запах на весь двор, от которого щекотало в ноздрях.
Учитель по труду Николай Кузьмич строгим голосом, по-военному, отдавал команды старшеклассникам, которые толпились кто с вилами, кто с лопатой на пепелище.
Все было и свое, и какое-то чужое, как в каком-то кино или во сне.
«Хорошо, что только одна бабка знает, как я обрадовался пожару со сна». Шурка не мог представить, что стало бы, если б все узнали.
…Подошла умная красивая физичка Мария Ильинична и сказала спокойно:
– Ничего, Саша, осилим.
– А где же будем учиться?
– Пока в нашей библиотеке, а с лета директор в Борск хочет ехать с десятиклассниками готовить сосновые бревна. Будем ставить новый сруб. Всем работы хватит. Вашему классу тоже.
– Да, – торопливо согласился Шурка.
Он словно боялся дальнейшего разговора. И, как бы оправдываясь, сказал то, что составляло только часть правды, но было все-таки правдой:
– Ведь там была моя парта, которую мы с Николаем Кузьмичом отремонтировали, и я ее сам красил в этом году. Жалко как!
Новая Шуркина жизнь
С приездом отца жизнь в доме Любаевых потекла по-иному. Ничего, казалось, не ускользало от глаз отца. Как он все быстро замечал и успевал! Дня через три после приезда утром спросил Шурку:
– У нас во дворе есть глина?
– Не знаю, пап, – растерялся Шурка.
– Вот те раз, голова, кто же знает?
– Есть, Василий, за нужником, летось привозили, теперь под снегом, – вмешалась мать.
– Надо наковырять в тазик и навозу из мазанки принести.
– Хорошо, Вася, – мать догадалась, для чего. – Наверно, тряпки какие нужны?
– Нужны.
После завтрака Шурка раскопал снег, ломом наковырял и принес два ведра мерзлой глины. Мать залила ее горячей водой, и пока глина отходила, отец, не дожидаясь, начал забивать тряпками трещину в стене у печки, через которую дул морозный ветер. Он делал все стоя, садиться или наклоняться ему было нельзя, поэтому тряпки Шурка положил на приступок у печи, откуда их отец и брал. Руками он работал очень ловко. Но каждый раз, когда отец выпускал оба костыля из рук и стоял на одной ноге, прислонившись плечом к стене, Шурка боялся, что он упадет. Так и случилось. Отец опрокинулся на рукомойник, висевший в углу, и вместе с ним с грохотом повалился на пол.
– Боже мой, Василий!
Катерина бросилась к мужу. Он тяжело, опираясь на костыли, встал. Мать с Шуркой отвели его и уложили на кровать. Ложился он медленно, осторожно устраивал негнувшуюся в корсете спину.
Мать подняла левую ногу отца и, как чужую, не его, положила рядом с правой.
– Ну вот, отдыхай, мы с Шуркой доделаем.
– Да вот и беда, что вы, а не я, – досадовал отец.
…Через две недели гипс сняли, а еще через месяц Шуркин отец освободился и от корсета. Пугающе красивый из толстой темно-коричневой кожи, схваченный вдоль и поперек светлыми металлическими полосками, лежал он в сенях без надобности.
– Кать, убери его к чертям подальше, – сказал Василий. – За цельный год он мне опротивел.
– Уберу, – с готовностью и радостно сказала мать. – Сейчас, Васенька, поедим, и я выкину его.
После завтрака отец взялся ремонтировать костыли. Он снял резиновые наконечники и в каждый костыль для верной опоры вбил по толстому гвоздю без шляпки.
– Так надежней, мне ведь не прогулки совершать с костылями, работать надо, значит держава, крепость нужна особенная, – пояснил он.
Теперь, когда он встал и пошел по комнате, от гвоздей оставались отметины в полу.
…А вечером приехал старый друг детства отца, Степка Сонюшкин.
«Синегубый» – так его звали оттого, что все лицо и губы у него от контузии на фронте были в синих точках. Он привез две седелки, уздечки и просил за недельку подремонтировать, обещая ставить за это трудодни.
– Знаю я твои трудодни, Степан, еще до войны. Ты мне лошадь, когда надо, дашь?
– Дам, конечно, дам, – говорил Степан, глядя невидящими от ожогов глазами, тускло и покорно. – А ты сделай, у меня еще хомутишко один есть потрепанный, возьмешь?
– А потник-то есть?
– А как же! – с готовностью ответил дядька Степан. – Есть, неважнецкий, правда, но есть.
Когда ушел Синегубый, отец сказал:
– Шурка, а знаешь, я ведь ловко так валенки до войны подшивал. Если взяться за это дело, не пропадем, точно говорю.
Мать радостно слушала эти разговоры и украдкой вздыхала.
Художественный руководитель
Сегодня перед уроком истории классная руководительница Лидия Петровна объявила:
– Александр Ковальский, я тебя освобождаю по просьбе Валентины Яковлевны от уроков, ты ей нужен в постановке.
Шурка встал и под завистливые взгляды одноклассников вышел.
Ничего не поделаешь, Шурка – артист.
По дороге в клуб он вспомнил, как впервые Валентина Яковлевна появилась в школе два года назад.
…В тот день вначале ему не везло. На перемене у туалетов к нему привязался Толик Юнгов, и они подрались. Так, не зло. Как бы проверяя друг друга, обменялись тумаками. Но Шурка поскользнулся и припал на одно колено, прямо в грязную лужу. Зазвенел звонок, и Толик убежал, а он остался очищать грязную штанину. Когда вошел в класс, хмурый учитель географии Норкин Василий Иванович уставил в него не мигая свои карие, под навесом черных больших бровей глаза:
– Опять дрался? Оттого и опоздал?
– Нет, – ответил Шурка, свято веря, что они с Юнговым и не дрались. Так себе… И опоздал он не из-за драки, просто случайность – поскользнулся и попал в лужу.
– Лгать нельзя, – обидно, как маленькому, сказал учитель географии, – я все видел в окно. В наказание будешь стоять, пока не скажешь правду.
– Где? – с горечью выскочило у Шурки. «Неужели меня поставят в угол?» – подумал он.
– А где вот находишься сейчас, там и стой.
«Если видел все в окно, то что ему от меня надо? Ведь он должен понять, что все получилось случайно».
Шурка остался у двери. Незаметно продвигаясь, он оказался у подоконника. Стал смотреть на улицу. Правая рука, вернее, указательный ее палец ковырял потихоньку известку в оконном проеме.
Было обидно и неинтересно. Из окна сквозило, и Шурка два раза шмыгнул носом.
– Ты что, герой, плачешь? Так знай, коммунисты не плачут!
В классе хихикнули.
– Не сметь! – грозно выкрикнул Норкин. – Не сметь смеяться.
«Если я что-нибудь скажу сейчас такого, то все рассмеются и нас потащат в учительскую, надо молчать», – подумал Шурка и повернулся к стене лицом.
Разрядило ситуацию удивительное событие. Открылась дверь за спиной Шурки, и в класс вошли Лидия Петровна и с ней незнакомая женщина. Классная руководительница извинилась перед Норкиным и представила классу незнакомку:
– Ребята, сегодня у нас в гостях Валентина Яковлевна Плотникова – художественный руководитель районного Дома культуры. Пожалуйста, мы вас просим, – она как конферансье развела руками.
Шурка смотрел с удивлением на гостью. Он ее узнал, он видел ее несколько раз, но так близко – никогда. У доски стояла осанистая, крепкая женщина в светлом костюме, ярко-красной кофте с большим отложным воротником.
Шурке эта необычная женщина давно запомнилась, хотя она даже, наверно, и не знала о его существовании.
– Ребята, кто из вас хочет стать настоящим артистом, а? – с ходу спросила она.
В классе воцарилась гробовая тишина. Всех, очевидно, сразила внешность этой женщины. Тряхнув крупной головой с короткими черными кудрявыми волосами, она сказала совсем непривычное в устах взрослых в этом классе:
– Слабо? Да?
– А что нужно уметь? – спросила находчивая Ниночка Иванова.
– Желательно все, – опять энергично ответила гостья. – Но для начала надо просто записаться и в пятницу после занятий прийти для просмотра. Мне нужны артисты в драмколлектив, танцоры в ансамбль, хористы. Наш хор – народный. Мы уже записались на пластинку в Москве, приходите слушать.
Она пристально посмотрела на притихших ребят.
– Талант рождается в детстве, а может, конечно, и раньше, понятно?
Она свободно и заразительно засмеялась. Так в школе никто не смеялся.
– А я, как бабка-повитуха, помогу, как могу, если будете слушаться. Не теряйте момента!
– Вот у нас готовый артист есть, Валентина Яковлевна, – вдруг сказал учитель Норкин, присевший на первом ряду за парту, и показал жирным коротким пальцем на Шурку.
– А ты чего стоишь в углу? – удивилась Плотникова.
– У стенки, – поправил Шурка. Он берег свою независимость.
– Петь любишь?
– Не знаю. Не очень.
– А что любишь?
– Кино!
Все засмеялись.
– Приходи, попробуем в постановках. На роль Ваньки Жукова тебя попробую. Как твоя фамилия?
– Ковальский.
– А имя?
– Александр.
– Александр Ковальский! – воскликнула она, подняв левую руку над головой. – Неплохо звучит для сцены.
…Шурка пришел в ту пятницу в клуб и с тех пор уже не представлял себя без завораживающего общения с этой удивительной женщиной, без того волнения, которое он теперь всегда испытывал входя в клуб.
«Придет времечко-то…»
Я смотрю на тебя, Шурка, и думаю: какое же это перемещение народов всяких должно было быть, вторая мировая война случиться, чтобы твой отец – песчинка в море – оказался здесь, в Утевке, и встретился с твоей матерью. И чтобы ты родился. Чудеса да и только. Как будто кому-то это надо?
Бабушка Груня сидит перед открытым полупустым сундуком, крышка которого изнутри оклеена кусками картины И.Репина «Бурлаки на Волге». Третий слева в толпе бурлак, высокий и в шляпе, очень похож на Большака, который приходит часто к Лобачевым в гости. Только у Большака нет трубки.
Шурка, продолжая разглядывать картину, просит:
– Баб, расскажи что-нибудь еще об отце.
– О каком, Василии?
– Нет, – глуховато отзывается Шурка.
Бабушка вынимает наконец-то нужный ей клубок пряжи и, не поднимая головы, не торопясь отвечает:
– Мать пусть расскажет.
Шуркина мать сидит с пряжей у окна, там посветлее. Сучит пряжу, принесенную бабушкой.
– Что тебе рассказать?
Она ловко поправляет веретено, струны вытягиваются, прялка оживает.
– Я вот расскажу тебе, чтобы ты наперед знал, больше тебе никто не скажет, окромя меня. Когда отец твой Станислав пропал, перестал писать, я взяла тебя, совсем еще крошечного, и пошла погадать в Смоляновку к одному старичку.
– Он колдун был? – Шурка сомневается, что мать верит в колдовство.
– Колдун не колдун, а людям много кой-чего угадывал. Забыла звать как его, эвакуированный. Он появился одновременно как летная школа у нас стала в селе. Издалека откуда-то.
– У нас летная школа? – Шурка удивлен.
– Да, в ней учили летать молодых ребят, ее тоже откуда-то эвакуировали, где бои были. Некоторые при учебе-то и погибли, лежат у нас на кладбище.
– А нам в школе не говорили… – Шурка озадачен.
– Мало ли чего вам не говорят!
– Ладно, мам, а что дальше?
– А что дальше? Заходим в избенку. Ты у меня на руках. На кровати сидит весь белый, как лунь, старик, слепой, в руках бобы. Так перебирает их без останова и говорит с ходу: «Гадать пришла?» – «Да, – говорю, – погадать про его вот отца, пропал, писем нет». – «А ведь ты, дочка, не на того собираешься гадать». – «Как так, – говорю, – не на того?» Помолчал он, помолчал, руками поиграл в бобы и продолжил: «Придет, вернется к тебе твой первый муж, которого не ждешь. Жив он, но далеко». «Василий? – ахнула я. – Как же так от него ведь четыре года с фронта не было писем. Я вышла за другого – поляка». – «Не было, а вот придет. И родишь от него много детей. Жить будете долго вместе и согласно. Судьбе не противься». – «А как же его отец?» – спрашиваю я про тебя, Шурка. «И второй твой муж вернется, но только когда тебе это будет не надо, в старости. Придет времечко-то, да».
Шурка стоит у голландки, прислонившись к горячему железу, ощущая жгучий рубец у себя на спине и чуть не плачет. Хочется расспросить подробности, но боится не справится с голосом. Наконец решается:
– Мам, а первый сын от Василия, что с ним получилось?
– Умер, – односложно ответила мать. – Грудного мы его еще не уберегли, простудили. Он был Шурка, и тебя я потом назвала Шуркой – ты брат ему.
– А дальше что?
– А что дальше? – переспросила бабушка. И сама же ответила: – Пришел в сорок шестом Василий весь израненный, был в плену долго. Заходит в калитку, а ему уже кто-то сказал, пока он шел дорогой, что твоя мать от другого родила, а его-то сына нет в живых. Остановился в калитке-то, когда Катерина с тобой на руках вышла и встала на крыльце. Метнулась я на зады со двора, чтобы не видеть всего этого. Хорошо, что и деда не было. А вернулась когда, они сидят за столом и потихоньку так разговаривают, и ты при них. Она Василия-то молоком поит.
– Ни в какую я не хотела сызнова все, сначала. Но он упрямый всегда был, сладу нет. Все вещи заставил собрать и повел меня за руку к себе домой, к свекрови, где мы до войны жили. – Мать Шурки, остановив рукой колесо прялки, стала смотреть в окно.
Шурка заметил на глазах у нее слезы.
– Все сошлось, что говорил слепой старик, теперь вот чует мое сердце: и отец твой Станислав может вернуться когда-нибудь. Придет времечко-то… так он ведь сказал, старик-то. – Бабка посмотрела своими огромными черными глазами на притихшую Катерину и совсем спокойно добавила: – А ты не хлюпай носом. Живи покуда солнышко светит. – И продолжила: – В последнем письме твой польский отец просил прислать фотокарточку новорожденного. Очень хотел, чтобы ты был на ней голеньким, чтобы всего было видно. Катерина так и сделала. Письмо он получил перед освобождением своего родного города Варшавы. Сообщал, что бои идут страшные и его двое товарищей, которые с ним вместе прибыли из России, погибли. Писал, что когда получил фотографию, несколько раз останавливался на дороге и смотрел на тебя, не мог поверить, привыкнуть, что он – отец. «Где мой сын – там и моя родина», – так заканчивалось его последнее письмо. Верил он, что вернется к тебе, поэтому мы фамилию не стали тебе менять, хотя Василий несколько раз об этом заговаривал.
Осечка
У Мазилина, который живет около чайной на Центральной улице, есть страсть, о которой все знают и которая дала ему его вторую, уличную, фамилию. Он любит ружья и охоту, а вернее, любит быть, присутствовать там, где охота и где пахнет паленым пыжом. Стрелять он не умеет, но врет о своей меткости отменно. Сегодня охотники на задах стреляли в калитку огорода: пробовали одностволку Веньки Сухова. Мазилин так «раздухарился», что заявил будто на лету сбил сразу трех витютней.
– Они ж стаями и не летают, – сказал веско Венька. – Уймись.
– Что уймись, что уймись, я настоящую правду говорю, их ветром в стаю сбило над жнивьем в Ревунах.
– Ага, – продолжал Веня, – иду я полем – ни одного деревца и вдруг волки. Я – раз, не мешкая на огромный дуб, да?
Это Веня вспомнил кусочек рассказа Мазилина о его подвигах.
Эту историю все уже знают, поэтому и засмеялись.
– Ты зря, Веня, надсмехаешься, я натренировался на той неделе с ружьецом-то, могу аккурат пальнуть как надо!
– Можешь? – переспросил Веня и озорно посмотрел на всех.
– Могу, – подтвердил Саня. И для надежности добавил: – Я это, Веня, гагарок влет бил, когда у брата на Севере был, а летось в Одеяле дудака завалил.
– Говоришь, гагарок стрелял, а на лемуров в тропиках не охотился? – поинтересовался Веня.
– Чегой-то? – переспросил Мазилин.
– Давай так, – весело сказал Сухов, – на тебе мое ружье. На, на!
Мазилин неуверенно взял одностволку.
Веня окинул взглядом ровную заснеженную порошей дорогу вдоль ограды и начал отмеривать своими крупными шагами расстояние. Единственная его правая рука четко работала под строевой шаг.
– Вот, ровно тридцать метров. Так?
– Ты что задумал, Веня? – спросил Шуркин дед.
– Так, Саня? – вновь спросил Сухов.
– Ну так, так, – беспокойно ответил Мазилин.
– Слушай условия дуэли. Стреляешь мне в задницу. Если хотя бы одной дробиной попадешь – ружье твое!
– А если не? – крикнул подошедший Степка Синегубый. И его испещренное мелкими темно-синими точками лицо, освещенное обычно тусклым светом потерявших остроту после контузии глаз, неожиданно преобразилось, и он вдруг оказался таким же веселым, как Венька. Это удивило Шурку. Таким он его никогда не видел.
– А если не попадет, тогда посмотрим, что с ним делать.
Венька, широко и плавно разводя руками, театрально изобразил реверанс, повернулся спиной к толпе и, задрав фуфайку, наклонился, почти доставая рукой снег:
– Давай, Лександр! Не боись! Пали!
«Может, ружье не заряжено», – почему-то обрадованно подумал Шурка, глядя на крепкие Венькины галифе.
– Венька, убери казенную часть, не дури, – сказал, похохатывая, дед Шурки.
– А если я попаду? – подал голос сам Мазилин. – Глазунья ведь получится, а? Аховый ты мужик, Веня!
– Да не тяни, там бекасинник в патроне, я устал буквой «Г» стоять. Ты знаешь, где курок?
Шурка смотрел на Мазилина и лихорадочно искал выход из казавшейся ему тупиковой ситуации. «Венька, ясно, не струсит, будет ждать выстрела, а Мазилин в тупике – ему надо стрелять, на него все смотрят и ждут. А вдруг сдуру да попадет?»
Но уже в следующий момент он заметил, что неуверенные движения Мазилина обретают какую-то твердость. Тот перебросил одностволку с правой руки на левую, как какой-то краснокожий индеец взметнул ее над головой и издал не очень громкий, но дикий и непонятный воинственный клич:
– И-и-и-ха-ха-у-у!
Все оторопели. Никто такой выходки не ждал. В следующий миг лицо и вся фигура Мазилина приобрели такое уверенное спокойствие и деловитость, что вновь всех изумило.
Он потоптался на месте, делая себе площадку в снегу, и затем медленно стал поднимать ружье. Теперь уже он не обращал никакого внимания на присутствующих. Видно было, что он действовал осознанно и по плану.
Мазилин начал основательно целиться. Но враз опустил ружье:
– Венька, постой еще чуток, я передохну. Знаешь, руки дрожат после вчерашнего: солому возили, ну и немножко того, для сугреву, теперь вот вместо опохмелки ты попался.
– Эх ты, колбаса! – совсем как пацан обозвал Синегубый Мазилина.
– Трусишь?
Но Мазилина голыми руками не возьмешь. Он быстро отозвался:
– Коли б колбасе приставить крылья, лучшей бы птицы не было.
Шурка потихоньку начал понимать, что хозяином положения становится Мазилин, а не Венька. «Неужели Мазилин опять всех перехитрил?
– думал Шурка, глядя грустно на Сухова. – Так уж не раз бывало, ведь он известный пройдоха».
У соседки Пупчихи закричала коза, чуть погодя у самого плетня под навесом смешно начал кашлять баран.
– Вот ведь чертова скотина… правда, Вень? Я ее терпеть не могу, потому и не держу. А ты, Вень?
– Стрельнешь или нет? – подталкивал удивительно настойчиво Сухов.
– Стрельну, конечно, стрельну, погодь чуток-то.
Мазилин поднял ружье и с каким-то чуть ли не радостным лицом, почти не целясь, нажал курок. Прозвучал сухой щелчок, выстрела не последовало.
– Осечка, – сказал бодро Мазилин. – Не судьба, значитца!
– Чего городишь, дай мне. – Венька принял ружье и ловко пальцами одной руки, скользнув по цевью и ложе, переломил одностволку. Лицо его вытянулось в изумлении:
– Ну ты даешь, ловкач! – Он внимательно посмотрел на стрелявшего.
– Ловкость рук и никакого мошенства.
Сухов как-то одобрительно, что было совсем непонятно Шурке, хмыкнул и, шутя, боднул Мазилина головой. Тот громко хохотнул и объявил:
– Господа хорошие, спектакля сегодня больше не будет.
Потихоньку все разошлись.
Шурка вынул перочинный ножичек с двумя лезвиями и начал выковыривать дробь из деревянной калитки. Некоторые дробины засели глубоко, старые трухлявые доски внутри оказались крепкими, а дробь, расплющившись, трудно поддавалась тонкому лезвию, мерзли руки, хотя и было солнечно. Снег искрился, как будто тысячи серебряных мелких дробинок кто-то рассыпал по чьей-то непонятной прихоти.
– Зачем тебе это? – спросил Сухов.
– Да на грузило к удочкам, на лето.
– Приходи, я тебе дам свинца, я раздобыл недавно.
– Ладно, приду.
Веня Сухов, ловкий, стройный и добрый, уже уходил, и Шурка поинтересовался:
– Веня, а как Мазилин придумал фокус с осечкой?
– Да не было осечки, – ответил тот, – пока он нас потешал, успел потихоньку патрон из ствола вытряхнуть и валенком в снег втоптать. Находчивый черт!
– Эх, вот это да! – только и сказал Шурка.
На душе было празднично. Стояла еще только первая половина зимнего солнечного дня. Почти целый день впереди. Рядом были дед, бабушка, все свои. Веня… Такие все разные. И даже пройдошистый Мазилин воспринимался как что-то чудное, но такое, без чего вроде бы и жизнь не совсем такая, какая она может быть.







