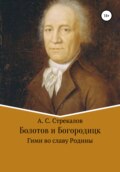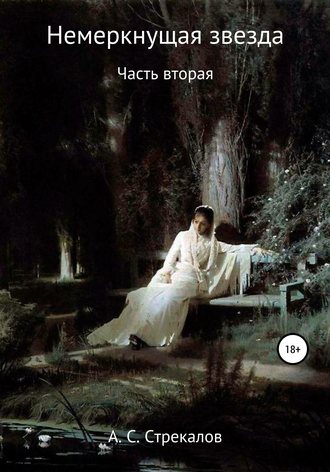
Александр Сергеевич Стрекалов
Немеркнущая звезда. Часть вторая
4
Были в четвёртой школе и другие преподавательницы, которые относились к Стеблову с большим уважением, с некоторым почтением даже, и старались по возможности не тревожить его частыми вызовами к доске, опросами и проверками еженедельными, даже и видя его полное равнодушие к их предметам.
«Паренёк горит изнутри, живёт своей математикой, – так зачем же мы станем ему мешать, палки вставлять в колёса», – встретившись в коридоре или учительской, между собою согласно переговаривались они – точь-в-точь как воспитатели интернатовские – и создавали Стеблову самые выгодные условия, самые что ни на есть щадящие. Подмечая, что во время уроков истории, биологии или той же химии, например, он сидит и решает тайком математические задачи из книг, на которых профиль Главного здания МГУ красовался, они не останавливали его никогда, не ругали. Они только подходили к нему потом, когда их уроки заканчивались, и спрашивали подчёркнуто уважительно:
«Ну что, Вадик, готовишься? Скоро опять в Москву, в Университет поедешь, да?»
Стеблов утвердительно кивал головой как о вопросе давно решённом, и они, желая успеха, отпускали его. Чтобы он, отдохнув пять минут, на следующем по расписанию уроке продолжал готовится дальше.
Он никогда не скрывал своих намерений из суеверной трусости или из лицемерия, хотя и не трезвонил о них, не благовестил на каждом углу для самовосхваления и саморекламы. Но если подходил кто и спрашивал его о планах, – отвечал твёрдо, что хочет поступать на мехмат, профессиональным математиком в будущем становиться.
Ему, впрочем, и не нужно было бы всего этого говорить – потому как Университет светился в его глазах так же ярко и убедительно, как светится университетский золотистый шпиль в солнечную погоду. Этот свет исходил от Вадика за версту, заставляя добрых людей почтительно жмуриться и улыбаться при встрече…
Не все педагоги, однако ж, понимали его, ценили его устремления, своевольничать ему позволяли, любимыми заниматься делами чуть ли ни целый день, не все на подобную роль соглашались – второстепенную и унизительную для себя и своих предметов. Были и такие, которые отчаянно сопротивлялись этому и всё пытались у себя на уроках к порядку его призвать, к дисциплине, заставить уважать себя и свою работу, свой труд.
И первой, самой настырной и яркой в этом коротком ряду стояла Старыкина Елена Александровна, уже третий год кряду учившая их класс русскому языку и литературе. Она особенно в этом дисциплинарном деле упорствовала и лютовала, с обособленностью и своеволием Стеблова смириться и не хотела, и не могла: завучем школы работала, всё ж таки, к порядку не только учеников, но и учителей призывала. Да и по натуре своей дамой была предельно гордой, обидчивой и самолюбивой.
Елену Александровну Вадик очень уважал до Москвы: ему импонировали её железная воля, фанатизм и профессионализм, как и её решительный, взрывной и предельно-импульсивный характер. Стеблов и сам был фанат по натуре, был одержим любым делом, за которое брался; сам был взрывным и легковозбудимым до крайности, подвижным, озорным, заводным. И литературу русскую он очень любил: хорошие книжки “глотал” как конфеты вкусные.
И Старыкина ценила его (хотя и скрывала это), частенько как с равным спорила с ним по литературным вопросам, когда они расходились в оценках того или иного героя. Статьи критические ему приносила не раз, чтобы свою позицию подтвердить и авторитет не уронить учительский. Более в классе с ней не спорил никто на профессиональные темы, даже и Чаплыгина Ольга; и она свою правоту так жарко более ни перед кем не доказывала. Делай Стеблов поменьше ошибок, грамотнее и аккуратней пиши, – и он бы ходил у неё в любимчиках, в фаворитах…
Но после Москвы Вадику стало не до неё; точнее – не до её уроков.
«Сочинение – это всё ерунда, – не единожды говорили ему в Москве приезжавшие к ним в интернат выпускники, мехматовские студенты, когда разговор про вступительные экзамены заходил, про суровое экзаменационное сито. – Из трёх ежегодно предлагаемых на экзамене по русскому языку и литературе тем одна обязательно будет свободной. Бери её, – усмехались они делово, – и пиши себе преспокойно. Простыми предложениями пиши, где одни подлежащие и сказуемые, используя только те слова, которые хорошо знаешь… Две-три странички напишешь – и хватит: этого будет достаточно. Двойку тебе, во всяком случае, за это никогда не поставят. За сочинение на мехмате двойку редко ставят кому: на мехмате главное – математика».
Памятуя о таком наказе бывалых, знающих людей, Вадик и сосредоточился дома исключительно на математике, штудированием которой без сожаления заменял по интернатовскому испытанному образцу уроки родной словесности; или пытался по возможности заменять, пускаясь на всякие ухищрения…
Вот проходили они, к примеру, программную «Поднятую целину», рассказывала им Старыкина у доски образ Давыдова или Нагульнова: как десятиклассники обязаны-де их себе представлять, как понимать должны бессмертных шолоховских героев, в каком, так сказать, политическом плане и ракурсе. И – штамп на штампе лез из её пламенных учительских уст, лозунги и казёнщина бюрократическая, спущенная из министерских недр через обязательные хрестоматии, пособия и учебники. Что на деле оборачивалось скрытой дискредитацией и профанацией Шолохова, пусть с её, Елены Александровны, стороны неосознанной и невольной, искренним стремлением продиктованной получше данное произведение преподать, сделать его как можно более ярким и привлекательным.
А на деле, на деле выходили сплошная ерунда и скука, этакая литературная “таблица умножения” или тот же “бином Ньютона”, если совсем откровенно и грубо про те уроки сказать, от которых идеологической мертвечиной пахло, кисли и тупели мозги, а скулы на сторону сводило. Скучно становилось от всего этого и неинтересно, и за светлого русского гения очень обидно. Ясно же, что М.А.Шолохов был слишком велик и необъятен, и слишком мудр, чтобы пытаться впихнуть его, даже и из благих побуждений, в какие-то шаблонно-трафаретные рамки. И потом в таком вот урезанном и уменьшенном виде как-то пытаться его понять, суть его повестей и романов с горем пополам выудить. Которые, как теперь уже ясно его почитателям, кровью писались, именно так. За которые писатель всю жизнь собственной здоровьем расплачивался.
Повзрослевший и возмужавший к десятому классу Стеблов подобную тупую казёнщину и суррогаты школьные уже плохо переносил: ошалевал от шаблонов и штампов – литературных, исторических, идеологических, любых. И, спасаясь от них, он тайком доставал из-под парты задачник заветный и начинал что-нибудь оттуда решать, коротать с пользой время, пока одноклассники его сидели и переливали из пустого в порожнее в классе; учили, что надо, а чего не надо на будущих выпускных экзаменах говорить…
Но и Елена Александровна была человеком упорным и волевым, и не собиралась так просто сдаваться: позволять ученику, пусть даже и через чур увлечённому, оскорблять и унижать себя. Тут уж, как говорится, находила коса на камень: характер сталкивался с характером, энтузиазм и задор молодой – с фанатизмом, достоинством, властью.
Увидав однажды во время своего объяснения на столе у Стеблова постороннюю книгу, большую такую, красивую, с университетским профилем наверху, она, позеленев и рассвирепев от злости и от обиды страшной, не раздумывая, схватила её и запустила с размаху в стенку. Да сильно так, от души, что обложка книжная оторвалась и отлетела в сторону и сильно помялись страницы учебника, порвались даже в некоторых местах.
– Я понимаю, Стеблов, что ты увлечён и что тебе не интересно в школе, – сказала она после этого тихо, но так, что за обманчивой той тишиной отчётливо чувствовалось притаившаяся рядом буря. – Но ежели ты всё-таки ходишь на мои уроки, вынужден из-под палки ходить, – то уж будь добр хотя бы послушать их краем уха… Ты же русский человек, как-никак, по крови, по месту рождения русский. И русский язык просто обязан знать, великую русскую литературу нашу, которой Россия перед целым миром гордится, посредством которой цивилизованный мир обошла.
Вадик не обижался на пылкую, искреннюю в своих порывах учительницу: некогда было ему на неё обижаться. Образовательная программа, что он для себя наметил, была столь объёмна и глубока, требовала столько сил физических и душевных, что не допускала даже и самых малых и незначительных с кем-либо склок и обид, которые подрывают здоровье.
Поэтому он мобилизовался и забронировался ото всех предельно: он запер душу свою с эмоциями под пудовый замок… А после этого случая, жалея ценные книги, он на переменах стал аккуратно выписывать оттуда задачи на крохотные клочки бумаги, и всё равно тайком решал их на уроках Старыкиной – к поступлению на мехмат готовился, к серьёзнейшему экзамену по математике, что его ожидает там…
Подметив однажды и эту хитрость, Елена Александровна багровела как помидор, взрывалась, метала громы и молнии на непокорного ученика, к доске его немедленно вызывала – домашнее задание у доски отвечать. Встревоженный ученик хмурился, недовольный, что его от любимого дела словно телёнка от сиськи оттягивают, натужно прошлый урок вспоминал: что проходилось там, что задавалось на дом. Если удавалось вспомнить, – он отвечал; если нет, – говорил честно, что урока не знает.
– Ты потому не знаешь, что не хочешь знать! что тебе наплевать на меня и на мои старания! – блажила тогда на весь класс разъярённая завуч. – Но имей в виду, дружок, что плевать на русский язык и на литературу я тебе не позволю! Завтра я тебя опять спрошу – первого! Так что будь добр – выучи сегодняшнюю тему, если не хочешь неприятностей себе!
Делать было нечего, и дома к стенке припёртый Вадик с большой неохотой брал в руки литературные и языковые пособия, зевая, учил положенный материал – чтобы на другой день доложить его как положено в классе.
Елена Александровна успокаивалась на время, светлела душой и лицом. И тогда он опять принимался за прежнее: за тайное решение на её уроках математических и физических задач. И меж ними опять случался громкий скандал, едва не кончавшийся рукоприкладством.
– Я тебе сейчас двойку влеплю, Стеблов! – взрывалась Старыкина девятибалльным гневом, замечая Вадика за посторонним занятием, поднимая с места его и отчитывая перед всем классом. – Ты до каких пор, скажи, будешь надо мной издеваться?! до каких пор будешь испытывать терпение моё?!… Я на самом деле сейчас пойду – и поставлю тебе двойку в журнал… А потом за год выведу тебе обе тройки по своим предметам. Возьмут тебя с тройками в Университет?
Старыкина яростно подходила вплотную, в упор вопросительно смотрела нарушителю дисциплины в глаза, ждала ответа.
– …Возьмут, – отвечал ей Вадик спокойно, ничуть не сомневаясь в сказанном. – Если вступительные экзамены хорошо сдам.
– Тогда я тебе двойки в аттестат залеплю!!! – ревела багровая Елена Александровна, уже окончательно терявшая контроль над собой, готовая с кулаками на молодого упрямца броситься. – Поедешь у меня в Москву поступать с двойками в аттестате!!!
Спокойствие и неизменное к ней равнодушие со стороны вернувшегося Стеблова убивали её, терпения и сил лишали, здоровья последнего. Они изводили её тем вернее, – что Вадик по-прежнему нравился ей, нравился даже больше, чем было раньше – это было заметно даже и по мелочам. Её как магнитом притягивало, вероятно, железное его упрямство, покоряли воля стальная и несгибаемая, его прямо-таки фанатичный на Москву настрой; и, наконец, его потрясающий жар душевный, что струился из его карих глаз беспрерывным лавинообразным потоком, сметавшим все препятствия на пути.
Ей было обидно только, что всё это лично её не касалось; что ежедневно, из урока в урок, как электричество в проводах или молоко на далёкой ферме, текло себе и текло – и протекало мимо…
Так вот и проучились они весь последний десятый год в непрерывных ссорах, скандалах, размолвках, в примирениях временных, относительных, и новых, ещё более громких, скандалах. Что, однако ж, не помешало им ни сколько остаться друзьями, в конце концов, и сохранить друг о дружке самые тёплые и самые добросердечные воспоминания. Вечера встречи с выпускниками, что регулярно проводились в четвёртой школе, и где Старыкина со Стебловым, однажды встретившись в актовом зале, наговориться и нарадоваться никак не могли, а под конец расстаться – яркое тому подтверждение…
5
Елена Александровна хотя и злилась и ругалась на Вадика, – однако ж руганью той отчаянной и регулярной настроение ему не сильно портила: ругань её он близко к сердцу не принимал. В первые по возвращении дни его куда более огорчало другое: его удручающее физическое состояние, которое дома особенно остро бросалось в глаза – на фоне прежних товарищей.
Свою ужасающую телесную немощь и фатально-остановившийся рост Вадик заметил весной ещё, когда домой из Москвы вернулся и стал встречаться в городе во время прогулок со своими бывшими одноклассниками, то там, то здесь попадавшимися ему на улице, в кинотеатре, парке и магазинах. Все они, как один, оказались и выше, и здоровее его, лицами бодрей и румяней. И ему приходилось с грустью немалой итожить, провожая завистливым взглядом парней, насколько же всё-таки Москва, хвалёный интернат колмогоровский истощили, ослабили и обескровили его за прошедший год – будто бы компенсировали его здоровьем и статью то, что подарили ему интеллектуально; заставили собой за все образовательные дары расплатиться.
Потом его пришли навестить Макаревич с Лапиным, не видевшие его с зимы, – и опять Стеблову пришлось удивляться, поразительные изменения в них подмечать. Оба почти на целую голову его обогнали в росте, были заметно шире в плечах, румяней, круглей, здоровей – настоящие гренадёры стали, прямо-таки, писаные красавцы! А ведь ещё год назад по всем параметрам ему уступали, богатырю, робели в его присутствии. А теперь он карлой невзрачным смотрелся на фоне друзей, дохляком ущербным, убогим…
Ощущение собственной убогости и ущербности, собственной слабости с полной силой обрушилось на него первого сентября, когда он в полном составе класс свой увидел, всех приятелей бывших, подруг, несказанно расцветших и повзрослевших за год, поздоровевших и вытянувшихся так, что обескураженный Вадик только диву ходил и давался. Юрка Шубин, к примеру, уже под метр девяносто был, весил под сто килограммов. Да и другие не сильно от него отставали.
Только Вадик остался прежним – и в росте, и в массе своей. Как имел до Москвы метр семьдесят, так на отметке этой и замер; как носил костюм сорок восьмого размера, так в нём же в класс и вернулся; как весил шестьдесят килограммов, так те же самые килограммы и сохранил, не прибавив себе ни сколечко. Интернат будто законсервировал, заморозил его, полностью прекратив развитие.
На уроке физкультуры, что 3-го сентября в 10“А” проводился, возвратившегося Стеблова, всегда стоявшего вторым в шеренге до Москвы, пропускавшего вперёд себя по росту только здоровяка Шубина, на этот раз поставили в самый конец. Позади него, словно в насмешку, остался только Славка Котов – известный в школе заморыш и доходяга, который последним с пятого класса стоял, и к этому все привыкли.
Строевое соседство с Котовым потрясло-покоробило Вадика, недовольной досадой отозвалось в нём, граничившей с недоумением, которые увеличились многократно, когда их бессменный физрук, Бойкий Вячеслав Иванович, уже на втором своём уроке повёл 10 “А” в парк: на традиционный осенний кросс, который бежали по очереди мальчики и девочки.
Там, в парке, встав в первый ряд как обычно на одной из его аллей и беговые заслуги прежние со способностями держа в уме, держа в голове в Центральной секции МГУ тренировки, Вадик уже со старта рванулся было вперёд по привычке, намереваясь сразу же от одноклассников далеко оторваться – точь-в-точь как он это делал ранее, в доинтернатовские времена, – и финишировать потом одному под восторженные взгляды девочек и прохожих. Он хорошо это умел делать ещё совсем недавно, он к таким отрывам победным привык.
Но на этот раз его прежняя ломовая тактика не сработала – совсем. И оторваться ему одноклассники уже не позволили, не дали так пошло и дёшево себя обогнать. Мало того, но уже после первых ста метров забега, потраченных на рывок, наш вернувшийся из Москвы чемпион почувствовал себя так скверно в плане дыхания и кровяного давления, что впору было ему останавливаться и с дистанции с позором сходить. И потом ссылаться, гримасничая и кривляясь, подобно некоторым горе-спортсменам, на какую-нибудь мифическую травму в мышцах или ступне, которой и в помине не было.
С ним всё это именно и произошло – такие метаморфозы спортивные, легкоатлетические. Воздуху в его лёгких катастрофически не хватало уже на первых ста метрах дистанции, ноги отяжелели быстро, пудовым свинцом налились, а за грудиной зажгло и заломило так, что даже страшно сделалось. Казалось, что ещё немного, – и лопнет и разорвётся грудь и раздувшееся лицо его от перенапряжения и непосильных нагрузок.
Это поразило Стеблова, напугало даже: ведь ему ещё нужно было бежать и бежать. А он не понимал после первых ста метров, что вдруг такое случилось с ним, быстроногим с рождения парнем: почему не бежится совсем, не дышится и не можется? почему он топает по дистанции как слон, за что у них в секции даже и новичков ругали? И почему одноклассники – вот уж диво так диво! – которые ранее даже и не пытались за ним угнаться, понимая всю бессмысленность и бесполезность этого, теперь уверенно бегут рядом на длинных своих ногах и даже и не думают ни отставать, ни сдаваться – пальму первенства ему за здорово живёшь отдавать. Бегут – и гогочут как жеребцы, толкаются, шалят по дороге. И даже и анекдоты рассказывать умудряются, приколы и хохмы разные: и на это у них, разбойников, хватает сил! Каково!… А он, бывший их победитель и чемпион, надулся как перезрелая тыква и только думает, как ему до конца добежать – не отстать, не упасть по дороге, перед классом не опозориться. Дела-а-а! Чудны дела Твои, Господи!…
Он не отстал от парней, в итоге, – он выдержал! – и на пределе сил, на злости природной и самолюбии он всё же закончил дистанцию вместе со всеми – багровый, раздувшийся и задохнувшийся как никогда, спотыкавшийся от усталости после финиша и совсем не помнивший, главное, памятью школьные годы окинув, чтобы в прошлом когда-нибудь было так плохо ему, чтобы он так уставал от бега.
– Что, тяжеловато стало всех обгонять? – улыбаясь, спросил его всё тогда быстро понявший физрук, когда забеги закончились. – Все соки, смотрю, в Москве из тебя твои столичные педагоги вытянули.
– Тяжело, – утвердительно кивнул головою Вадик, обречённо под ноги себе посмотрев, ответа и бега собственного стесняясь; и потом, чуть погодя, добавил: – Такое ощущение, знаете, что будто бы раньше я и не бегал совсем, будто бы всё внутри атрофировалось и опустело.
Обессиленный и обескураженный, весь взмыленный как скаковая лошадь, долгое время не способный успокоиться и отдышаться, стучавшее сердце унять, он, угрюмо бредя домой в общей массе, тогда твёрдо решил для себя, что не станет более ни на лыжах, ни кроссы бегать – позориться перед классом, бессилие собственное на показ выставлять. Решил, что лучше уж он Бойкому про здоровье что-то соврёт, про температуру, ногу больную и всё такое.
Тот поймёт его состояние – и настаивать и вредничать наверняка не станет: сам был когда-то спортсменом, у самого, небось, были и неудачи, и спады, всё было. Да и мужик он не тупой и не вредный, чтобы дурную линию гнуть или в позу глупую становиться.
Стеблову же про спорт нужно дома забыть, про лидерство в нём и победы прежние, на которые он уже не способен, увы, категорически не способен… Ну и ладно тогда, и пусть. И, слава Богу, как говорится! Значит, на математику нужно переключаться полностью, ей одной себя целиком отдавать: это будет во всех смыслах ему и выгоднее, и полезней. Его настоящее место там – не в спорте. Он должен всех своим интеллектом теперь побеждать, а не выносливостью, как прежде…
6
В целом же, если мелкие неприятности не считать, что со здоровьем его были связаны, спецшколою сильно подорванным, – то во всём остальном возвращение Вадика на родину имело самые положительные и позитивные последствия для него, самые во всех отношениях выгодные. Вернувшийся, он перестал надрываться над неподъёмными книгами и конспектами, ежедневно суетиться и нервничать, истерить. Ему были созданы дома и в прежней школе самые что ни на есть комфортные и оптимальные условия, которых он не имел в Москве, в переполненном детьми интернате.
И родители ежедневной нежной заботой хорошо помогали ему, подпитывали и психологически и физически, родные брат и сестра. И работалось Вадику ввиду этого под их тёплыми домашними крылышками спокойно, уверенно и легко, и очень и очень споро.
Отсидев до обеда в школе и мало от уроков устав, он не спеша возвращался домой, проветриваясь по дороге, обедал дома сытным материнским борщом, наваристым и душистым, после которого иной раз его даже и в сон тянуло. Потом он отдыхал ровно час: спал или просто лежал на диване, – и никто ему не мешал, не хулиганил и не шумел рядом, с глупостями не приставал – избави Бог! Родители категорически запретили брату с сестрой тревожить Вадика в минуты отдыха, и те их запрет соблюдали неукоснительно. Большими оба становились уже, всё понимали прекрасно и старшему братику зла не желали.
Поэтому-то проснувшись в четыре часа пополудни сытым и хорошо отдохнувшим, их брат без раскачек садился к столу – домашние задания делать, – и тратил на них два часа ровно: на химию с биологией, историю с литературой. Более он на эти предметы времени тратить не мог: у него каждая минута дома, каждый миг были на строгом учёте.
И как только заканчивались отмеренные сто двадцать минут, Вадик решительно отодвигал от себя всё ненужное – нематематическое и нефизическое, понимай, – и с жаром приступал к тому уже, что было по-настоящему дорого и желанно ему, что его с нетерпением дожидалось: к геометрии, алгебре, тригонометрии; к механике, оптике, электричеству. Он истово занимался этим уже весь вечер потом, без перерыва на отдых, поочерёдно математику с физикой чередуя, задачи с теорией, – пока родители силой его не клали спать и свет не выключали в квартире.
Он было пробовал сопротивляться родительскому диктату: просил, умолял и отца и мать дать ему время ещё поработать; говорил, что не всё из намеченного прочитать и решить успел, в памяти законсервировать. Но родители, помня врачебный наказ, здесь оба непреклонными и неумолимыми были, и зорко оберегали здоровье не знающего меры сына, не позволяли тому палку перегибать.
Расстроенный, сын ложился в кровать, но перед тем как уснуть, итожил прожитый день и намечал для себя короткий план действий назавтра: сколько задач и каких ему нужно будет решить, что прочитать из теории. Учебный год уже в сентябре стал казаться ему непоправимо коротким – потому что уж слишком обширной была намеченная им программа, и слишком много книг он привёз из Москвы. Силёнок на всё не хватало. Его желания и дома катастрофически не совпадали с возможностями, не поспевало опять за мыслями тщедушное тельце его: картина московская повторялась.
Расслабляться поэтому было нельзя ни на миг, категорически нельзя было транжирить попусту время. Столичный в сердце стихийно рождённый девиз, случайно прочитанный где-то, что “бег за временем, за веком пусть войдёт в твою привычку; поспевай – и ты успеешь, а отстанешь – ты пропал”, – дома ещё отчетливей, ещё звонче зазвучал в его голове. И Вадик следовал этому зову неукоснительно…
Он отвадил от себя всех друзей, всех приятелей прежних по школе, по дому, по улице. Забежав к нему пару раз вечером после уроков с предложением пойти погулять, и получив отказ самый что ни на есть решительный, – обиженные друзья перестали со Стебловым общаться, дружить, чем только обрадовали его несказанно.
Довольно скоро он остался дома один – и ни сколько не сожалел об этом. Университет был его единственным другом по сути в родительском родном дому, что в мечтаниях сладких и острых ежедневно ему являлся, – другом милым и задушевным, другом возвышенным, самым верным и самым любимым к тому же, самым что ни на есть желанным, с которым одним только и было интересно ему всё последнее время, с которым он не испытывал скуки; который настойчиво звал к себе, не спать заставлял по ночам, трудиться и бодрствовать без перерывов; который обещал ему в самом ближайшем будущем максимально-счастливую жизнь и предельно-радушную встречу…