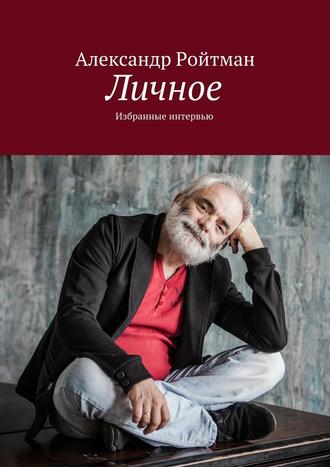
Александр Ройтман
Личное. Избранные интервью
– (А. Лавренова) А в чем суть марафона? Там же есть какой-то специфический формат?
– Это классическая динамическая терапия, в том понимании, в каком она придумана. Это психотерапия, построенная на напряжении и сплочении. Огромную роль имеет именно напряжение, выход на четвертую фазу группы. Это группа, которая работает на напряжении, которая должна выйти на эту четвертую фазу, там где с равной готовностью даешь и принимаешь позитивно-негативную обратную связь. Сегодня так не работают, сегодня это видится слишком тяжеловесным и рискованным. Я разговаривал пару лет назад с Римасом Качуносом. Это ректор института Экзистенциальной терапии и один из создателей этого направления психотерапии. Я считаю его одним из классиков и законодателей современной групповой психотерапии. Я был у него на группе, и он достаточно в поддерживающем стиле ее ведет. Обходя острые углы. Я говорю, Римас, ты 20 лет назад работал же иначе? А он говорит, что сейчас такой тренд, сейчас так работает вся психотерапия мировая. А вот я нет! Мне это не близко, по мне – есть в этом какой-то обман. Я считаю, что это дань толерантной психотерапии, которая не считает, что зрелость имеет большое отношение к боли, к проживанию, что страдание и боль занимают свое законное место в жизни человека. Как раз современная психотерапия исходит из некой идеи обезболивания, идеи наркоза. Ну я так это вижу, по крайней мере. И мне это не близко. Я не очень в это верю. Я работаю с теми клиентами, которые разделяют мое мнение, что зрелость, мудрость – она очень в большой мере имеет отношение в том числе и к боли, в том числе и к страданиям. Вообще, предметом психотерапии является страдание, на мой взгляд. Как категория. Скажем, предметом эндокринологии является гормональная система человека и физическая боль по этому поводу. Ортопед – боль по поводу кривого позвоночника или потерянной руки, физическая боль. Что же касается страдания, то это боль душевная. Я видал девушку, которая совершила попытку самоубийства из-за того, что потеряла ноготь на мизинце. Она вполне убедительно и здраво говорила о том, что «кому нужна женщина с изуродованной рукой»? Кому нужна женщина-урод? И я понимаю, что ее суицидальность в поведении так же естественна, как просьба об эвтаназии старика, который чувствует себя одиноким и никому не нужным, уставшим от боли. И это страдание, то есть не физическая боль, а душевная. Внутренний механизм – одинаковый. Субъективный мир этой женщины устроен так же, как мир этого старика, которому мы готовы пойти на встречу, а к ней нет. А в чем разница? Её и его субъективное переживание одинаковое. И я видел мужика 45 лет, электрика, у которого отняли правую руку под самое плечо. Он был счастливый и довольный, веселился и играл в карты. Я с ним в больнице лежал. Он был ужасно счастлив, потому что наступила пенсия, его жизнь стала простой и предсказуемой. Он страховку получил большую. Все в его жизни вдруг наладилось, стало простым и реальным. Вас это удивляет?
– Нет.
– Это было настолько естественно, что у меня сомнений даже не появилось. И вот когда ты встанешь рядом с этой девочкой, то ты понимаешь, что мы работаем не с болью, а со страданием. То есть страдание у этой девочки, такое же как у этого старика, и оно не отличается. А тому мужику которому отняли руку, мы нахрен не нужны. У него все хорошо. Разве что пойти поучиться. И цена небольшая – за счастье руку отдать правую.
– (И. Окунева) Александр, Вы говорите, что страдание является неотъемлемым инструментом взросления?
– Нет, я говорю о другом. Страдание является сферой деятельности, точкой приложения, предметом психотерапии.
– Я понимаю. Но до этого вы сказали, что без прохождения страданий не возможно какое-то созревание и взросление.
– Думаю, что да. Я хотел сказать боль, но нет. Именно страдание. Для того, чтобы подняться на экзистенциальный уровень страдания, как и счастья, как и радости, необходимо пройти через более низкие уровни – радости и страдания в самореализации.
– Помните «Формулу любви»? «Страданиями душа совершенствуется, так наш папенька говорит».
– Подпишусь, в том числе. И страданиями тоже.
– Какие у вас были вехи? Без чего вас не сложилось бы как у специалиста?
– Без армии.
– А личные профессиональные факторы?
– Без армии, без развода первого. Без отъезда моих родителей в Израиль. Выбрал остаться с женой, она не готова была уезжать в Израиль. Я был привязан очень к родителям, но я остался, и это было очень правильно. Это были точки моей сепарации. Без многошаговой, многоступенчатой сепарации я бы не стал тем, кем я стал. Без моих суицидальных попыток наверное не стал бы.
– С чем были связаны ваши суицидальные попытки?
– С первой любовью, как полагается. С «покореженным ногтем на мизинце». Все как надо. Для чего еще жизнь кончать самоубийством? Моя девочка, в которую я был влюблен, пересела на другую парту. Разве это не повод? Так об этих попытках так никто и не узнал тогда. Один раз проглядели. Второй раз я месяц лежал в больнице, но они были уверены, что у меня менингит. У меня остался след на всю жизнь от этого. Так что это мое «самоубийство», оно на всю жизнь протянуло красную нить, вокруг которой в очень большой мере я развивался. В итоге мою жизнь сделали как раз вот такие трудные точки. А психотерапия, которая этого не учитывает – я считаю она немного ущербная, немножко недоделанная. Хотя я говорю и понимаю, что это как минимум частное мнение, потому что при этом же я смотрю на Баскакова с его танатотерапией. Она довольно мягкая, в ней нет напряжения, скорее расслабление. Вот он нашел же такой путь. В танцедвигательной терапии, скажем, тоже никакого особого напряжения нету, очень бережно, нежно, щадяще и поддерживающе. Я не говорю, что я в это не верю. Как бы сказать? Я не верю в это в моей психотерапии. А вот я смотрю, некоторые могут. Ну круто же. Но я вот из 50—60х, я «олдскул», «тёплый ламповый звук».
– Что для вас работа? Это развлечение? Это работа-работа? Это средство для удовлетворения своего любопытства, или еще что-то?
– Любопытства – нет. Я как раз сторонник того, что надо работать много и как можно раньше, чтобы любопытство из работы ушло своим чередом, как выходит из хорошего коньяка запах спирта. Хотя, многие годы отданы профессиональному любопытству. Куча экспериментов. Я через это прошел. Делал такие эксперименты, за которые надо расстреливать, но благодаря этому я сегодня в большой мере я понимаю как устроен человек.
– Человек как психический аппарат?
– Как сложная совокупность пересекающихся, конфликтующих и взаимодополняющих процессов. Аппаратом человека не назовешь. Человек – это динамика, а не статика. В свое время я много работал с множественной личностью, когда еще занимался гипнозом. Брал том статей Эриксона, и тупо одну за другой повторял. И это мне во многом дало понимание того, как, допустим, устроен невроз. Откуда он взялся, как его вызвать и отпустить?
– Вызывали?
– Я очень испугался, когда вызывал у человека сильный невроз. Мои ученики боятся всегда что-то испортить в личности. Я им говорю, чтобы психологу что-то испортить в личности, нужно иметь высочайшую компетентность, творчество, опыт. Система «человек» – сбалансированная и многоуровнево защищенная, так что нужен огромный профессионализм, чтобы ее взломать, нарушить. А вот чтобы улучшить ее функционирование, скорректировать, помочь ей вернуться в равновесие – вообще ничего не требуется. Просто посиди рядом, помолчи или поговори. Нахами. Вот все, что ты сделаешь с вероятностью 99% поможет человеку, и лишь с вероятностью в 1%, если ты вывернешься наизнанку – то сможешь что-то повредить. Очень трудно человеку повредить. Его деятельность повседневная – это контакт, это противоречие, это конфликт, это стресс. Он это умеет. Попробуй повредить кавказскую овчарку? Можно конечно, но придется применить чудеса творчества и героизма. Психотерапия – это легко, а вот гадости делать – это непросто. Человек очень прочная, защищенная, многократно продублированная система.
– Как вы обходитесь с сопротивлением клиента? Человек хочет меняться, но в то же время сопротивляется этому. Пытается обдурить терапевта.
– Ну во-первых, имеет смысл быть хитрее. Самое главное – не показать клиенту, чего ты хочешь и чего ты не хочешь. Идеально ничего не хотеть и ничего не хотеть. Тогда легче его обмануть, потому что ты сам не знаешь, чего ты хочешь или не хочешь. Ни в коем случае нельзя клиенту показать, что ты хочешь, чтобы он выздоровел. Потому что если он это поймет, то он знает как с тобой бороться. И для того, чтобы легче было его в этом месте его обмануть, нужно самому не очень хотеть. Что значит вранье? Как устроено вранье человеческое? Когда у тебя есть несколько субличностей, одна из которых не просто искреннее верит в то, о чём она врет, а для неё это – абсолютная истина, она ею является. И чем меньше у тебя часть, которая верит в то, что ты говоришь вранье и больше та, которая верит в то, что ты говоришь – правда, тем в итоге в тебе больше правды, и тебе больше поверят. Поэтому большей моей части должно быть по барабану, выздоровеет человек или не выздоровеет. И тогда, когда человек поймет, что тебе все равно на его здоровье, может быть он тогда подумает о том, а кому не все равно в этой комнате? А если он еще и дорого за это заплатит на входе, если он пройдет на этом пути очень болезненные и тяжелые ломки и сомнения в принятии этого решения, если он понимает, что никакие гарантии ему никто не дал.. Вот, допустим, заходит к тебе толстая женщина. Ты ей говоришь – знаете, вот с этим я не работал никогда. Вернее работал, но у меня ни разу не получилось помочь ни одной толстой женщине. В этот момент она сразу понимает, что она шла ко мне, много лет, месяцев и дней будучи уверенной, что я ей помогу. А не сложилось. Ее ожидания обмануты. Он не поможет. «Я заплатила же много денег. Ну кто-то же должен мне помочь? Кто? Неужели я? Но вроде больше некому». И вот тут она ломается. Может взять по ошибке и начать худеть назло мне. Кстати, очень хорошо, когда человек назло терапевту начинает выздоравливать. Это про провокативную терапию, это по-нашему. И вот опять вернемся к моим принципам. Психотерапевт должен быть туп, ленив и аморален.
– (А. Некрасов) Туп, ленив – я согласен. А вот аморален?
– Аморален – это вообще в первую очередь. Как я могу работать с человеком, если я, допустим, знаю, что убивать, насиловать, воровать – это плохо? Если я знаю, что есть добро и что есть зло? Если есть некая мораль, любая, то значит, у меня есть отношение к тому месту, в котором находится клиент, и к тому пути, по которому он идет, а значит, с этого момента я говорю ему «будь как я». «Будь как я» – это педагогика. «Будь собой» – это свобода, это и есть истинная психотерапия. Морали учат, а в свободе – оставляют. В работе я не антиморален, а просто вне морали.
– Тогда у меня сошлось. Я как раз думал, что тупым очень хорошо быть. Здорово.
– Клиент спрашивает, что делать? Я ему – не знаю. А зачем я к вам пришел? – Не знаю.
– Ленив – тоже согласен.
– Если я делаю, то он не делает. А если я не делаю, то клиент, глядишь, может и начать.
– Насчет аморален, я просто воспринял это именно как анти мораль.
– Вне морали. Это прям важная точка.
– (И. Окунева) Как насчет сострадания? Есть ли у вас в работе место этому? Если есть, то где оно?
– Масса. Бывает и такое, хотя сейчас немного реже, что слезы текут по моему лицу. Редко, конечно, настоящую жесть увидишь, но бывает. Я про детей болезненно и нервно реагирую часто. У меня их много. Я последнее время по этому поводу слаб стал на старости лет. А раньше вообще детей не любил.
– Как вам это удалось? Прийти от точки где вы детей не любите, к многодетному папе?
– Это как с помывкой посуды. Начинаешь, и втягиваешься. Когда их становится 5 и они орут хором, то возникают мысли, что это надо или убить, или полюбить. Убить нелегко, просто вспотеешь, и потом зачем браться за такую работу такому ленивому человеку? Намного проще полюбить. Я шучу, конечно, но всегда приходит смирение. Дети тебя подкупают. Вчера сын, которому 6 лет, нашел жестяную банку из-под колы, разрезал ее. Привязал ее на ленточку, внутрь засунул свечку, поджег и сказал, что это фонарь. Мама пришла, увидела уже готовую горящую свечку уже в этом фонарике. Ясно, что это смешно, но сердце рвется от восторга. Или смотришь как твой сын бьется на ринге, и просто вот – круто. Или жена говорит тебе, что твоего сына пригласили на чемпионат Европы по акватлону. Да, сердце рвется от гордости и восторга. Или дочка моя. Вот мне звонят и говорят, что хотят взять интервью у моей дочки. Твоя дочка в кнессете выступала, то есть в парламенте. Это повод для того, чтобы завести ребенка, размножаться, зарабатывать безумные деньги. А на другом полюсе ты один. Никто тебя не может испугать, шантажировать. У меня даже есть такая история. Было время, когда у меня была только одна старшая дочка, и она жила с женой, с которой я в разводе. То есть я был фактически один. Я помню как меня пригласили, все как в книжках, в гостиницу на 2 этаж. Угадайте сами, кто. Там два мужика, оба начальники отделов. Один – такой весь красавец, английский костюм и обувь. А другой, типа, из народа, татарин, невысокого роста, кряжистый, мощный, обаятельный и интересный. Оба харизматичные донельзя. И вот они со мной ведут разговор на протяжении пары часов, рассказывают про гражданскую позицию и сотрудничество. А я им отвечаю, что всё просто. И если пока я тут с вами, вы мне положили в машину килограмм героина, и мне светит 15 лет – то, конечно, мой ответ вам – «да». Если килограмм героина слишком дорого за мою голову, вы положили 10гр, и мне светит полгода условно – то, конечно, «нет». Все зависит от того, сколько я для вас стою. Сколько я готов заплатить за свою свободу, а где я задумаюсь. Был 92—94 год. Они говорят сразу, мол, не те времена, мы уже не оттуда и все не так. А я действительно чувствую вот эту свободу, мне нечего бояться. Я только сам за себя, и у меня никого нет за спиной. Да – да. Нет – нет. Я, говорю, не возражаю, что вам нужно? Информация? Я вам расскажу все что хотите, но имейте ввиду, что сегодня я вам расскажу все, а вечером соберу друзей и расскажу, как вы меня интересно вербовали. У меня нет секретов от народа. Если вас это устраивает – то никаких подписок о неразглашении, и давайте сотрудничать. Они мне говорят, что я много езжу, им нужно узнать как народ относится к тому или иному. Я говорю – все расскажу, без проблем. Они, кстати, после этого каждый год встречались со мной и разговаривали, а я им честно все рассказывал, показывал фотки семейные. И, как обещал, вечером рассказывал об этих встречах друзьям. Потом я им надоел. Лет 5—6 они со мной повстречались и перестали. Моя сила в той ситуации была в том, что я никого не боялся, мне нечего было терять. А потом да, встает перед тобой вопрос, что такое любовь? Это место, где ты можешь оставить свою свободу и независимость – ту, когда у тебя нет ничего, что тебе мешает развернуться и убежать, если тебя на улице прижали. Ту, когда ты выдаешь любую реакцию, которая для тебя сейчас естественна, и тебе не перед кем не стыдно. Никто у тебя не стоит за спиной. Если бы мне тогда в этом гостиничном номере сказали, мол слушай, ты тут такой гордый и смелый, мы таких видели и никто не собирается тебе подкладывать героин, зачем так много денег тратить? У тебя есть 5 детей и жена, ты же помнишь об этом? Вот тут бы я задумался совсем иначе и храбрится бы в этом кабинете не стал бы.





