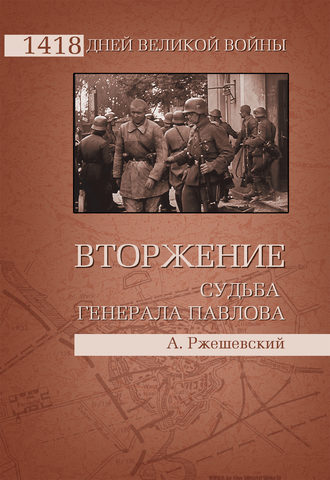
Александр Ржешевский
Вторжение. Судьба генерала Павлова
4
Училище он закончил перед самой войной. И только что не летал на крыльях. Словно только ему судьба подарила лейтенантские кубари. После голодного детства, о котором не хотелось вспоминать, жизнь начала складываться так благополучно, что он удивлялся чуть не каждый день. Матери писать не успевал. Зато первый отпуск провел в Крыму, повидал Москву и получил хорошее назначение в округ – не какой-нибудь, а особый. Клепа, которую он разыскал, чтобы узнать про Надю, так и не поняла, какой он стал человек. Был из последних, а сделался первым. Конечно, в таких простых словах он не выражал своего восторга. Но это видно было по всему – взгляду, походке, выправке.
Сам себе он казался достаточно скрытным человеком и был откровенно уязвлен бесцеремонным вопросом бывшей соседки:
– Ну как? Все сохнешь по Надьке Васильевой? Никак не забудешь?
У него занялся дух от этой бесцеремонности, сил не хватило ответить. Только пожал плечами.
– Ну почему?..
И все же нужные сведения по крупицам собирались. Как и следовало, Надя вышла замуж за Бориса Чалина. В старших классах они дышать друг без друга не могли.
В институт поступили вместе. Теперь куда-то на восток укатили. Практиковаться. Поговаривали, что знаменитый тесть не слишком жалует безвестного зятя. Конечно, ему для доченьки ненаглядной заморского принца подавай. Кыш, все местные! Ну да сама Надежда тоже крепкий характер имеет. И сможет постоять за того, кто ей люб.
С прохладцей и злобой, поигрывая желваками, Костик спускался по ступеням городского парка, где позволял себе выпить ледяного пива. Гибким прутиком нервно бил по голенищу. Он бы, наверное, не мог сказать самому себе, какие сведения его больше разозлили. И тут же странным образом успокоили. Во всяком случае, память о Надежде он решил вычеркнуть из жизни. Но напоследок вновь и вновь возвращался мыслями к единственной женщине, которая его не оценила. Ладно, не он один. Еще и Борису придется хлебнуть с ней лиха. Не исключено.
Придя к такой обнадеживающей мысли, он с легкостью сломал прутик и запустил им в пробегавшего мимо бездомного пса.
5
Поезд мчал среди холмов, поросших лесом, освещенных утренним солнцем. Борис представил, что где-то в мелькающих чащах медведи выходят из берлог, разминают затекшие лапы. Один завораживающий таинственный вид сменялся другим. Но любование это быстро наскучило, потому что не имело отношения к реалиям их жизни и неустройству. Даже Надя притомилась и лежала на верхней полке, несмотря на духоту. Последние несколько часов она спала или делала вид, что спит. Они почти не разговаривали. Борис то и дело выходил в тамбур покурить. И, стоя между двумя раскрытыми дверями, пытался представить конечную цель пути.
Куда они ехали, знала только Надя. По окончании курса им предстояла практика, и Надя захотела провести ее в деревне у тетки. Договорилась обо всем в деканате, умолчав о родственнице. У нее была хватка, как у папаши. И Борису оставалось только подчиниться. Во всяком случае, любое путешествие было лучше, чем житье в роскошной квартире у тестя.
Отец Нади получил наконец генерала, стал вальяжнее и мягче. Но Бориса почему-то невзлюбил. И жизнь в чужом благополучном доме сделалась для него сущей каторгой. Впрочем, не всегда он это ощущал. Чистый, бьющий родник – Надя – охлаждал накаленную обстановку. При дочери генерал становился покладист и тих. Временами примирительно речист. Иногда долдонил молодоженам о необходимости образования. Наде ничего не советовал, потому что сделать ее военной было невозможно. Зато зятя он хотел непременно послать в военное училище и хотя бы на какое-то время избавиться от него.
Борис тайком бегал в аэроклуб, но в разговорах с именитым тестем отмалчивался. Пуще всего не терпел над собой никакой чужой воли. В этом отношении тесть его доконал. И все-таки напускное равнодушие Бориса не спасло: вскоре аэроклуб перевели в другое место, и будущие летчики остались ни с чем. Потом, когда Надежда, по примеру деда, захотела стать агрохимиком и поехала сдавать экзамены в Тимирязевку, Борис последовал за ней. Почудилась ему новая жизнь, воля, степи, кони.
Ошибка обнаружилась быстро. Он любил точные науки, преуспевал в математике, физике. А ему встретился чуждый мир приблизительных знаний, условных ценностей. Многое надо было не понимать, а заучивать. Допотопные машины вызывали, по сравнению с самолетами, чувство неловкости и стыда, а доценты и профессора выдавали их за чудо техники.
Однако по природе своей он не способен был к легким переменам. Инерция прежнего решения и новые друзья помешали ему сразу отступить. Вместе с Надей он сдал экзамены, оба получили место в общежитии, семейную клетушку, разделенную матерчатым пологом.
Теперь и то время осталось позади.
Поезд начал тормозить. Потянулись грязные разводья рельсов на безымянном полустанке. Борис быстро прошел в вагон. Надя уже сидела внизу на скамеечке, причесанная, собранная.
– Наша? – спросил Борис.
Она кивнула.
Вышли в никуда, в мокрель и сырость. Возле будки обходчика понуро стояла лошадь, запряженная в телегу, и дремал возница.
– Куда нам? – спросил Борис, обернувшись к Наде.
– Синево! – беспечно отозвалась она.
Вышло, что возница едет как раз в ту деревню. Брезентовый пакет с полученной от проводника почтой лежал в его ногах. О цене сговорились быстро: возница ничего не взял.
Борис кинул чемодан в солому, они с Надеждой сели на телегу рядом с колесом, которое то крутилось, то притормаживало. Возница, бодрый улыбчивый мужичонка с прокуренными зубами, махнул вожжами, и лошадь тронулась.
По обе стороны дороги тянулось поле. Дальше стоял лес. Яркая солнечная зелень распустившихся берез мешалась с темным цветом вечнозеленых елей. Дорога выглядела пустынной, словно никакого движения в этом медвежьем углу отродясь не бывало. Однако благостная тишина длилась недолго. Перед лесом, где угадывалась река, прогремели взрывы.
– Завод строют! – пояснил, обернувшись, возница и опять весело улыбнулся, словно в строительстве завода была его заслуга.
Потом над ними долго кружил невесть откуда взявшийся самолет. Подняв голову, Борис наблюдал, как он разворачивается, покачивая крыльями. Надежда быстро взглянула на мужа, стараясь, чтобы он не заметил ее понимания и сочувствия.
Впереди на холме показалась деревенька, когда медленную повозку нагнал верховой. Возница сломал шапку и кое-как изобразил поклон. Всадник глянул острым ястребиным взглядом на него, потом на спутников.
– Тебя совесть не мучит, Алексан Палыч?
– А в чем?
– Да вот, лошадь загубишь. Что же такую телегу взял? Колесо тормозит.
Возница развел руками с шутливой покорностью:
– По срочному делу вышло, а другой экипажи не было. Но колесо крутилось сперва, а тут, действительно, хоть с возу слезай, утопнешь, нечего делать!
Всадник сдержал улыбку.
– Откуда ползешь?
Возница сокрушенно махнул рукой:
– Из района. В больницу жену отвозил.
– Это в который же раз?
– Ай, сбился сам! Ноне пересчитаю. Об одном молимся: может, на этот раз будет дочка.
Всадник все же не справился с улыбкой.
– Ну, ну!
Потом тронул поводья и, разбрасывая конем тяжкую слежавшуюся глину, помчался по дороге.
Палыч привстал на коленях, во всю мочь замахал кнутом над головой и потащился вперед, оглядываясь на сломанное колесо.
6
Тетка, Людмила Павловна, поразила Бориса яркой, броской, какой-то восточной красотой – так много было блеска в волосах, загара и сияния больших, словно распахнутых глаз. Надя могла с ней сравниться только потому, что была молода, и это давало ей преимущество.
Приняла тетка молодоженов радушно и в то же время настороженно, будто заранее согласилась тащить непосильную ношу и не торопясь примеривалась, как бы получше взяться. Загар на руках и лице у нее был какой-то не рабочий, темный, а курортный, мягкий, шелковистый. Она и работала врачом в сердечном санатории, который открылся недавно и все еще строился под горушкой, недалеко от Синева. Там тетке полагалась комната. Но она предпочла в Синеве полдома, который оплачивал райздрав. Тетка предложила племяннице жить в санатории. Но Надя осмотрела темные сырые стены с потеками, унылый вид на замусоренный хозяйский двор и предпочла деревню.
Каприз Надежды показался Борису чрезмерным, и он пробовал возразить:
– Переночевали бы в санатории. Почему нет?
Ответ был получен тут же:
– Ты ничего не понимаешь.
Комнату им указали ближе к ночи. Тетка договорилась – последний дом в деревне.
Добрались до нового жилья уже в наступающей темноте. В нескольких шагах от калитки начинался спад, и дальше угадывалась черная пропасть оврага. А может быть, речки. Что-то шумело и бурлило. В одном из окон дома желтился свет.
Дверь оказалась не заперта. За широкой печью на свету возилась хозяйка. В темном углу на кровати слышались голоса двух малышей.
– Папань, а папань… расскажи сказку.
– Ведь я уже рассказывал вчерась.
– Нет, папань, сегодня еще.
– Погодите. Отвяжись, Славка! Кто-то пришел. Валерка, не толкайся, а то прогоню. Будешь в сенцах с матерью спать.
– Это Славка. Это не я…
– Ну, папань, расскажи!
* * *
Практиканты устроились.
Врубились в чужой дом, в чужую жизнь, как будто их только и ждали. И будто они своим присутствием способны осчастливить, а не затруднить людей и не причинить им хлопот. У большинства такое волшебное заблуждение возможно только в молодости. Некоторые сохраняют его на всю жизнь.
Надежде казалось, что она еще никогда так не уставала. Да и Борис чувствовал себя не лучше. Поэтому, не раскрывая чемоданов, улеглись в чужую постель. Обнялись накоротке и отвернулись друг от друга. Хотя Надежда жаловалась на усталость, но сон не шел. Борис тоже не спал, выходил курить. И оба долго передумывали дорожные впечатления, глядя на молочный тревожащий свет луны в черном посеребренном окне. Старались привыкнуть к незнакомому окружающему миру. А на самом деле каждый думал о себе.
Борис был недоволен присутствием тетки в деревне и новой непонятной зависимостью. Вообще не нравилась затея с заранее подготовленным гнездышком, где их опекала Надина родственница. Над этой идеей, несомненно, поработал тесть, который день и ночь печется о своей дочке. Временами Борис понимал эту неусыпную родительскую любовь. Но чаще она его допекала. Присутствие родителей оказывалось причиной непрерывных ссор. И Борис это просек наконец. Наедине с ним Надежда была одна – милая, ласковая. При родителях становилась совершенно другая. Будто внутри появлялся какой-то железный стержень. И словно не она только что смотрела на него сияющими глазами и говорила нежные слова.
Эти «качели» выводили из себя. Самое досадное заключалось в том, что каждый раз она выглядела искренней. И где была настоящая Наденька, он не мог понять. В девичестве она вела себя проще. Конечно, не родители, а прежде всего папаша ее был всему причиной, со своей отцовской ревностью и упрямством. И в нем, Борисе Чалине, заключалось столько же причин для недовольства, сколько нашлось бы в любом другом. Из-за этих «качелей» горячая любовь сменялась неистовой ненавистью, и обещания развода вспыхивали так же часто и страстно, как заверения в любви.
Борис прислушался. Надя ровно дышала. Луна отодвинулась и уже не освещала Наденькино лицо и не мешала ей. Он порадовался и в то же время удивился, что сон так быстро овладел ею. В последнем своем побуждении он обнял ее и осторожно отнял руку, стараясь ничем не потревожить.
Надя едва перевела дыхание. Она не любила засыпать первой. Поэтому лежала не шелохнувшись, как натянутая струна. Еще любовь не увлекла ее со всей силой, и она боялась ненасытного мужского стремления. Зато ревность крутила ее с неистовой силой. Она становилась сама не своя, если замечала случайный взгляд Бориса, устремленный к другой женщине. Так было в поезде. Вошла девчонка, и он не мог оторвать глаз. Поэтому Надя весь день сердилась. Тысячелетний женский опыт ей говорил, что никаких случайностей в любви не бывает.
Когда муж успокоился и уснул, мысли ее вернулись постепенно к оставленному дому, к прощанию с мамой, которое было трогательным и беспокойным. В разлуке легче думалось, и чаще приходила нежность. Размолвки мужа с отцом искренне огорчали ее, но она и вообразить не могла, что эта вражда будет длиться вечно. Она любила обоих настолько, что была уверена в своей власти над их поступками и чувствами. Но почему-то никак не могла выбрать подходящего момента, чтобы все устроить по-своему, помирить самых близких и дорогих людей. Она понимала, что непримиримость отца по отношению к Борису вызвана только заботой и беспокойством за нее.
Наверное, причины для этого были. Она сама не могла сказать, что семейная жизнь принесла ей безоблачное счастье. В первый месяц с опрометчивой легкостью она сказала мужу, что у нее может долго не быть детей. И, похоже, этот вопрос сильно его взволновал. Она это быстро почувствовала. А ей-то казалось, что главное – любовь! Во всяком случае, первый их месяц никак нельзя было назвать медовым.
Мать отругала Надежду и заново пересказала историю своих лечений и мытарств, но теперь уже бодрым тоном, как бы подтверждая укрепившуюся в обществе мысль, что силой духа и воли человек может одолеть любые невзгоды. А Надя точно знала с детства, что появилась случайно. И если бы не долгое мучительное материнское лечение, ее просто могло не быть. И беспокойство матери по поводу дочки в этом отношении было ей тоже известно. Но разве – не будь ее – любовь мамы и отца была бы от этого меньше? С легкостью, которую дарят молодость и беспечность, она обо всем поведала Борису. Но тот повел себя не так, как она предполагала, а напротив – сильно обеспокоился.
Утром она заметила в дороге, как муж следил за самолетом, и еще раз подумала, что крепости в их браке нет. Его вечно тянуло куда-то в путешествия и приключения, спокойная мирная жизнь тяготила его. Конечно, не будет он в белом халате склоняться над микроскопом, как ей хотелось. Не будет и тут, в колхозе. Землепашество не его путь. Ему бы на самолет или в море, так он сам иногда проговаривался. И она чувствовала, что скоро недостанет сил его удержать.
За перегородкой, как птицы после дождя, заторопились, перебивая друг друга, детские голоса:
– Папань, а папань! А кит сладит с акулой?
– Он ее хвостом убьет.
– Он больше акулы?
– Больше.
– Папань, а он толще самовара?
– Толще. Спи!
Воцарилось молчание.
* * *
Утром Надежда проснулась в залитой солнцем избе. От печи тянуло свежим хлебом. Борис вышел на крыльцо. Ослепительное синее небо над головой и туманное по горизонту обнимало землю. Теплом охватило плечи, и только острый холодный ветерок напоминал о ранней весне. Внизу, в овраге, шумел ручей.
Борис вернулся бегом через холодные сени в избу.
– Надя, – позвал он.
– Сейчас. Что тебе? – послышалось из-за перегородки.
– Пора вставать.
– Уже встала, – сказала она, выходя.
Борис настороженно окинул взглядом знакомую фигурку под тонким платьем, свежее заспанное лицо, улыбку, немножко бессмысленную, и остался доволен.
За несколько месяцев он успел понять, что Надежда обладает одним волшебным даром. И он проявился тут же: в незнакомой деревне, в чужом доме она успела в полчаса приготовить отличный завтрак. Пока он разминался в саду между яблонями, стол был накрыт. И уже рыба, пойманная хозяином, жарилась на сковородке, залитая яичницей и присыпанная мелким зеленым лучком. Они успели позавтракать, пока сам хозяин стучал топором во дворе.
Борис намеревался идти в правление, но тетка все устроила по-своему. Договорилась с председателем и забрала на целый день племянницу с мужем к себе в санаторий. Показала парк, новые постройки, записала племянницу на курсы медицинских сестер.
– Пригодится! Занятия два раза в неделю. Меньше в правлении будешь сидеть.
– Но я не хочу в правлении.
– Придется, – бросила тетка, когда они оказались вдвоем. – Председателю ты понравилась. А он старается не пропустить ни одной юбки.
– Хорошо! Я буду носить только платья, – равнодушно отозвалась Надежда, но румянец все же вспыхнул на лице.
Тетка внимательно к ней присмотрелась.
– Неужто он холостой? – наивно спросила Надежда, чтобы как-то отговориться.
– Да где же ты видела, в таком-то возрасте, чтобы мужик одинокий был? Только ненормальные. Нет! У этого все в порядке. И ребятишек двое. И баба на сносях.
* * *
Председателем оказался тот самый всадник на черном коне, которого они встретили в первый день. Это был широченный, еще не старый мужик, Демьян Фокин, по кличке Матрос. Он, и правда, служил на флоте в Гражданскую, на линкоре «Андрей Первозванный». Говорил и ходил неторопливо. Медвежья мягкость движений выдавала необычайную силу. В отличие от теткиных предположений он повел себя с практикантами сурово. Бориса направил в бригаду хмурого, тощего мужика Егора Палыча, который работал сперва на скотном дворе, потом на пилораме. А когда травы подошли, всех кинули на покос.
Время от времени хмурый Егор Палыч подбадривал молодого практиканта.
– Поглядывай! Поглядывай! – говаривал он то и дело. – Вон как Аникин чешет.
Борису поначалу казалось, что он в любой работе не отстанет от местных мужиков. Но выяснилось, что и топор надо держать не так, и косой водить по-другому. Маленький, круглоголовый Аникин в любом деле сто очков ему давал. Это был тот самый возница, который привез их в Синево.
Надежду определили в полевое звено, помогать учетчикам. Но помощник Демьяна и бригадир Ерофей Фомич скоро перевел ее в контору, и она прохлаждалась в правлении, осваивая счеты и разные бухгалтерские бумажки. Надежде он, в отличие от председателя Демьяна, совсем не показался. Приплюснутый нос сапожком, колючие голубые глаза, округлая бороденка, воинственно выдвинутая вперед. Но сам он о себе был, очевидно, другого мнения. И Надежде уделял особое внимание. Давал советы по бухгалтерской части, отпускал подольше на обед. А однажды, будто бы по делу, велел отправиться в район, помочь с отчетом на исполкоме. Демьян, когда дозволялось, посылал на такие дела своего заместителя. Надежда надела легкое светлое платье, шляпу с широкими полями от солнца, городские туфли. И ждала у дома, пока Ерофей Фомич прикатит на председательской двуколке.
Отчет в исполкоме занял не много времени, если не считать, что его вовсе не было. Просто сдали ведомость в сырую темную комнату, где пахло старой бумагой и мышами. Зато потом была ярмарка, где Ерофей Фомич купил себе сапоги, а Надежда заколку для волос. Позже они еще дважды ездили в райцентр, правда, уже без ярмарки.
Про них уже ходили разговоры. На чужой роток не накинешь платок. Конечно, зависть и злость воодушевляли многих деревенских пустозвонов. Еще бы! Муж у этой городской франтихи есть, так она еще и с другим любовь крутит открыто. Они бы, конечно, умерли от смеха, узнай доподлинно, что Ерофей пальцем не дотронулся до своей практикантки. Возможность видеть ее наедине сделалась для Фомича главной, лишила его привычной осторожности. Сдерживаемый взглядом своей молоденькой спутницы, он судорожно искал повод для новых встреч.
Седина у Ерофея еще не попала в бороду, но бес уже крепко зацепил ребро. Мужик перебрался от жены на сеновал, пил и ел в одиночестве и не хотел никого знать, кроме объявившейся городской недотроги.
Домашние ходили по одной половице, чтобы не потревожить хозяина. А тот и на сеновале не мог уснуть, все ворочался. А память и в ночи подбрасывала завораживающие картинки: вот Надежда идет, вот протягивает руку к ведомости. Чего, казалось, ведомость? Обыкновенная. А все дело в руке…
Пробивался студеный рассвет, и стены сарая становились различимы, когда Ерофей Фомич засыпал. Поднимался серый, помятый, злой на весь белый свет. И лишь короткие свидания с молодой практиканткой заряжали его необходимой энергией. Он выдумывал ей работу, не обращая внимания на кривые ухмылки рядом. Однажды забрал с собой обмерять дальние поля.
– Нечего белоручкой в конторе сидеть, – грубовато пояснил он.
Поколебавшись, Надежда подчинилась.
– Гляди, не намеряй лишнего, – пискнул счетовод Кирюшин.
Выходивший Ерофей Фомич мог этого не слышать, но Надежда отлично поняла и уже в коляске сильно пожалела о своем согласии. Ерофей Фомич сидел на двуколке сам не свой, молчаливый и все время косил глазом в сторону.
Ни синего неба, ни пения птиц Надежда не замечала. Фомич остановил двуколку на берегу реки, когда Синево скрылось за холмом. Привязал лошадь к березке. Приблизился. Надежда быстро отошла. Сорвала несколько васильков.
– Вот, глядите!
Хотела отвлечь, но поняла, что это не удается. Фомич закосил глазом еще сильнее.
Светлеющее ржаное поле подходило одним краем к обрыву над рекой. Надежда прошла через рожь, приминая стебли, и глянула вниз. На речном плесе увидела маленькую лодку. Рядом старик, видимо, хозяин, перекладывал сети на берег. Надежда быстро решила, что рыбак поможет ей отвязаться от Ерофея Фомича.
– Дедушка! – крикнула она.
– Ай-я? – отозвался тот, подняв бороденку.
– Можно покататься на твоей лодке?
Старичок еще раз оглянулся.
– Почему нельзя? Авось не развалится.
По узкой, едва различимой тропке Надежда спустилась к реке, держась за ветки ольховника. Ерофей Фомич приплелся следом. Поприветствовал старика, взял у него ключ и весла.
Они выплыли. Надежда устроилась на корме и следила, как пронизывают воду и сходятся в глубине солнечные лучи. Ей казалось, что просмоленное днище висит над призрачной бездной, хотя берег был недалеко.
Заметив, что Ерофей Фомич начинает косить взглядом, сказала торопливо:
– Давайте к берегу!
Поднялась в лодке и едва не упала, соскочив на песчаную отмель. Добежав до березки, отвязала лошадь. Ерофей Фомич догнал ее, повернул к себе, прижался колючей щетиной к твердо сжатым губам. Она оттолкнула, вырвалась, обожгла ненавидящим взглядом.
– Не подходи! Слышишь?
Ерофей Фомич вспомнил, как в коллективизацию колхозный активист Проня Соломатин сильничал девок и склонял их к любви при помощи пистолета, положенного ему по должности при новой власти. И Ерофей Фомич очень пожалел, что нет при нем табельного оружия. Теперь приходилось стонать и каяться – «прости… погоди»…
– Дом отдам! – выдохнул он давнюю мысль, которая зрела в нем душными сеновальными ночами. Округлил глаза до боли так, что брызнули слезы. – Все!.. Отдам!..
Цепко схватил Надежду опять, но та вывернулась непонятно какой силой, взлетела на двуколку и, нахлестывая лошадь, помчалась прочь.
Ерофей Фомич, несуразный и одинокий, остался возле березы. Надежда не знала, о чем он думает, не догадывалась, как ему не хватает Пронькиного пистолета. А Фомич с завистью вспоминал, как нагло прохаживался по деревне удачливый Пронька. Правда, потом утоп в дремучем Рогожинском болоте за пять верст за лесом, куда сроду не ходил.
А Надежда, оставшись в одиночестве, бросила вожжи и пустила лошадь медленным шагом, постепенно успокаиваясь. Впереди началось курлыканье, будто приближавшийся лес оказался полон птиц. Курлыканье раздавалось все сильнее, но небо было пустым. Потом на чистую синь из-за леса легко выбросился журавлиный клин и, набирая высоту, стремительно начал уходить поверх солнца. Это была счастливая минута, и Надежда окончательно пришла в себя. Она попыталась подумать о Борисе с нежностью. Но что-то мешало. И она в конце концов оставила эти попытки. Семейная жизнь складывалась труднее, чем рисовалось в девичестве. Пришло разочарование, какого раньше не было. В ранней юности Борис верховодил, казалось, ему любое дело по плечу. И она не могла предположить, что в нем появится замкнутость, неуверенность, слабость духа.
Она же выросла в доме, где мужчина был властным и категоричным, как отец. Надежда предпочитала именно такие качества у главы семьи, а не туманные мечтания о невозможном и, следовательно, недовольство. Раньше Борис хотел стать летчиком, путешественником, плавать на кораблях, опускаться водолазом в глубины моря. И она всякий раз верила его мечтам. А ничего не вышло. Он попал в сельский вуз по ее совету, теперь маялся. Какая уж тут романтика? Для себя она знала, что хочет – лабораторию, белый халат и таинственный мир живого под микроскопом. А ему – что?
«У него нет цели! – кричал, бывало, отец. И то, чем она гордилась, опять оборачивалось против Бориса. – Поплелся за женой в институт… Потому что нету цели! Разве не видишь?» – обращался он к дочери, и она мысленно соглашалась. Раз ему на факультете тяжко, надобно что-то делать. Ладно, аэроклуб перевели! Ведь есть, наверное, другие возможности. Или причина в другом? Может, отец своим авторитетом долго давил на зятя, и тот не выдержал? Эта мысль показалась Надежде очень правдоподобной. Но не прибавила нежности и любви.
* * *
Разные разговоры о жене доходили, конечно, и до Бориса. И он вдруг увидел в семейной жизни новую, незнакомую сторону. Отношения с Надеждой резко ухудшились.
Тетка не посмела устраивать выговор племяннице, хотя тоже была недовольна.
– Вона! Думала на Демьяна, – сказала она со вздохом. – А косой Фомич оказался шустрее.
В один субботний вечер, явившись неизвестно откуда, Людмила Павловна достала бутылку вина и сказала, подняв бокал:
– Выпьем за несчастную любовь!
Потом добавила, расчувствовавшись:
– Примаком в семье жить не сладко. Да… Но здесь! Ты что? Не можешь оттаскать ее за косы?
Борис неторопливо отпил вино и глянул потемневшими синими глазами:
– Она же обрезала косы в прошлую зиму. У нее кос нету.
Они выпили бутылку до конца. Начало темнеть. Даже июньский вечер не выдержал – то ли от позднего часа, то ли от тяжелых туч, сгустившихся за окном. Капли дождя ударили по стеклу.
– Не знаю! Будь моя воля! – не выдержала тетка.
В конце деревни на бугре, где по субботам собиралась молодежь, запела гармонь.
«…От полудня до заката…»
Петька-гармонист всякий раз начинал одну и ту же песню. Услыхав ее, бабы вздыхали: «Знать, сегодня Петька…» Напарник его появлялся на бугре пореже и всегда начинал с вальсов.
Лицо Бориса обострилось. Тетка посмотрела на него с задумчивостью.
– Да… Конечно! Ты знаешь, что генерал вам жить не даст. И, главное, Надежда это чувствует. Ну, твое дело! Упустишь время, потом будет поздно.
Стукнула дверь. Никто, кроме Нади, уже не мог прийти. И все же мысль о ней не принесла Борису облегчения. Надежда действительно возникла в проеме двери, смеющаяся, счастливая. Словно счастье являлось достаточным свидетельством ее правоты и не нуждалось в объяснениях. Привлекательная той особой мучительной красотой, какой природа наделяет изменщиц.
– А по какому случаю праздник?
Ни слова не говоря, Борис рывком поднялся и вышел.
Едва начавшийся дождь прекратился. Сырой темный ветер донес пиликанье гармошки, и Борис отправился туда, где веселилась молодежь. Отыскал в кружке танцующих девушку, которую раньше приметил, – Настю Аникину. Она сама, бросив кавалера, подошла. Знакомство их началось с первого дня работы в бригаде. Настя приносила отцу обед. Была она красивая, рослая в отличие от маленького Аникина, светлые косы уложены венцом на голове. А когда однажды пришла с распущенными волосами, у Бориса дух занялся от объявившейся красоты.
– Редкий го-сть! – пропела она, подходя. – Ай, завтра не подниматься?
В спустившихся сумерках каждую черточку лица ее было видно, и глаза сияли.
– Хватит времени, – отшутился Борис.
Они покружились несколько танцев. Когда говорить было не о чем, похваливали гармониста. Потом начались частушки, и Настя, разбивая пыль каблуками, пропела про милого парнишечку, которого отбила другая, злая зазноба. И получалось так, будто она смотрит на Бориса, обращается к нему.
Пока играла гармонь, они были вместе. Но расстались легко, Настя ничем не выразила сожаления.
– Завтра принесешь отцу обед? – спросил Борис. – Увидимся?
– А как же! – ответила она с таким радостным видом, словно он назначил ей свидание.
– Скажи отцу, чтобы стукнул в окно, когда пойдет. А то просплю.
– Ладно! – отозвалась она.
С ожиданием, что Настя появится завтра и это будет праздник души, Борис вернулся домой и улегся на край широкой постели, чувствуя, что жена не спит и лежит, вытянувшись в струну.


