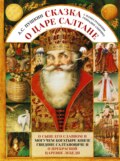Александр Пушкин
История Пугачевского бунта
Глава пятая
Распоряжения Бибикова. – Первые успехи. – Взятие Самары и Заинска. – Державин. – Михельсон. – Продолжение осады Яицкого городка. – Свадьба Пугачева. – Разорение Илецкой Защиты. – Смерть Лысова. – Сражение под Татищевой. – Бегство Пугачева. – Казнь Хлопуши. – Освобождение Оренбурга. – Пугачев разбит вторично. – Сражение при Чесноковке. – Освобождение Уфы и Яицкого городка. – Смерть Бибикова.
Наконец войска, отовсюду посланные противу Пугачева, стали приближаться к месту своего назначения. Бибиков устремил их к Оренбургу. Генерал-майор князь Голицын с своим корпусом должен был заградить Московскую дорогу, действуя от Казани до Оренбурга. Генерал-майору Мансурову вверено было правое крыло для прикрытия Самарской линии, куда со своими отрядами следовали майор Муфель и подполковник Гринев. Генерал-майор Ларионов послан был к Уфе и к Екатеринбургу. Декалонг охранял Сибирь и должен был отрядить майора Гагрина с одною полевою командою для защиты Кунгура. В Малыковку послан был гвардии поручик Державин для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова. Успех оправдал сии распоряжения. Бибиков сначала сомневался в духе своего войска. В одном из полков (во Владимирском) оказались было приверженцы Пугачева. Начальникам городов, через которые полк проходил, велено было разослать по кабакам переодетых чиновников. Таким образом возмутители были открыты и захвачены. Впоследствии Бибиков был доволен своими полками. «Дела мои, богу благодарение! (писал он в феврале) идут час от часу лучше; войски подвигаются к гнезду злодеев. Что мною довольны (в Петербурге), то я изо всех писем вижу, только спросили бы у гуся: не зябнут ли ноги?»
Майор Муфель с одною полевою командою 29 декабря; приближился к Самаре, занятой накануне шайкою бунтовщиков, и, встреченный ими, разбил и гнал их до самого города. Тут они, под прикрытием городских пушек, думали супротивляться. Но драгуны ударили в палаши и въехали в город, рубя и попирая бегущих. В самое сие время в двух верстах от Самары показались ставропольские калмыки,[65] идущие на помощь бунтовщикам. Они побежали, увидя высланную противу их конницу. Город был очищен. Шесть пушек и двести пленных достались победителю. Вслед за Муфелем вступили в Самару подполковник Гринев и генерал-майор Мансуров. Последний немедленно послал отряд к Ставрополю для усмирения калмыков; но они разбежались, и отряд, не видав их, возвратился в Самару.
Полковник Бибиков, отряженный из Казани с четырьмя гренадерскими ротами и одним эскадроном гусар на подкрепление генерал-майора Фреймана, стоявшего в Бугульме безо всякого действия, пошел на Заинск, коего семидесятилетний комендант, капитан Мертвецов, принял с честью шайку разбойников, сдав им начальство над городом. Бунтовщики укрепились как умели, в пяти верстах от города Бибиков услышал уже их пушечную пальбу. Рогатки их были сломаны, батареи взяты, предместия заняты; всё бежало. Двадцать пять бунтовавших деревень пришли в повиновение. К Бибикову являлось в день до четырех тысяч раскаявшихся крестьян; им выдавали билеты и всех распускали по домам.
Державин, начальствуя тремя фузелерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою.[66] Узнав однажды, что множество народу собралось в одной деревне с намерением идти служить у Пугачева, он приехал с двумя казаками прямо к сборному месту и потребовал от народа объяснения. Двое из зачинщиков выступили из толпы, объявили ему свое намерение и начали к нему приступать с укорами и угрозами. Народ уже готов был остервениться. Но Державин строго на них прикрикнул и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен, и сборище разбежалось.
Генерал-майор Ларионов, начальник дворянского легиона, отряженный для освобождения Уфы, не оправдал общей доверенности. «За грехи мои (писал Бибиков) навязался мне братец мой А. Л., который сам вызвался сперва командовать особливым деташментом, а теперь с места сдвинуть не могу». Ларионов оставался в Бакалах без всякого действия. Его неспособность заставила главнокомандующего послать на его место некогда раненного при его глазах и уже отличившегося в войне противу конфедератов офицера, подполковника Михельсона.
Князь Голицын принял начальство над войсками Фреймана. 22 января перешел он через Каму. 6 февраля соединился с ним полковник Бибиков; Мансуров – 10-го. Войско двинулось к Оренбургу.
Пугачев знал о приближении войск и мало о том заботился. Он надеялся на измену рядовых и на оплошность начальников. «Попадутся сами нам в руки», – отвечал он своим сообщникам, когда настойчиво звали они его навстречу приближающихся отрядов. В случае ж поражения намеревался он бежать, оставя свою сволочь на произвол судьбы. Для того держал он на лучшем корму тридцать лошадей, выбранных им на скачке. Башкирцы подозревали его намерение и роптали. «Ты взбунтовал нас, – говорили они, – и хочешь нас оставить, а там нас будут казнить, как казнили отцов наших». (Казни 1740-го году были у них в свежей памяти.[67]) Яицкие же казаки в случае неудачи думали предать Пугачева в руки правительства и тем заслужить себе помилование. Они стерегли его как заложника. Бибиков понимал их и Пугачева, когда писал Фонвизину следующие замечательные строки: «Пугачев не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее негодование».[68]
Пугачев из-под Оренбурга отлучился к Яицкому городку. Его прибытие оживило деятельность мятежников. 20 января он сам предводительствовал достопамятным приступом. Ночью взорвана была часть вала под батареею, устроенною при Старице (прежнем русле Яика). Мятежники, под дымом и пылью, с криком бросились к крепости, заняли ров и, ставя лестницы, силились взойти на вал, но были опрокинуты и отражены. Все жители, даже женщины и дети, подкрепляли их. Пугачев стоял во рву с копьем в руке, сначала стараясь лаской возбудить ревность приступающих, наконец сам коля бегущих. Приступ длился девять часов сряду при неумолкной пальбе и перестрелке. Наконец подпоручик Толстовалов с пятидесятью охотниками сделал вылазку, очистил ров и прогнал бунтовщиков, убив до четырехсот человек и потеряв не более пятнадцати. Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и всё семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов.
Пугачев в Яицком городке увидел молодую казачку Устинью Кузнецову и влюбился в нее. Он стал ее сватать. Отец и мать изумились и отвечали ему: «Помилуй, государь! Дочь наша не княжна, не королевна; как ей быть за тобою? Да и как тебе жениться, когда матушка государыня еще здравствует?» Пугачев, однако, в начале февраля женился на Устинье, наименовал ее императрицей, назначил ей штатс-дам и фрейлин из яицких казачек и хотел, чтоб на ектении поминали после государя Петра Федоровича супругу его государыню Устинью Петровну. Попы его не согласились, сказывая, что не получали на то разрешения от синода. Отказ их огорчил Пугачева; но он не настаивал в своем требовании. Жена его оставалась в Яицком городке, и он ездил к ней каждую неделю. Его присутствие ознаменовано было всегда новыми покушениями на крепость. Осажденные, с своей стороны, не теряли бодрости. Их пальба не умолкала, вылазки не прекращались.
19 февраля ночью прибежал из городу в крепость малолеток[69] и объявил, что с прошедшего дня подведен под колокольню подкоп, куда и положено двадцать пуд пороху, и что Пугачев назначал того же числа напасть на крепость. Извет показался невероятным. Симонов полагал, что малолеток был подослан нарочно для посеяния пустого страха. Осажденные вели контрмину и не слыхали никакой земляной работы: двадцатью пудами пороху мудрено взорвать было шестиярусную, высокую колокольню. Однако же, как под нею в подвале сохранялся весь пороховой запас (что могли знать и мятежники), то и поспешили оный убрать, разобрали кирпичный пол и начали вести контрмину. Гарнизон приготовился; ожидали взрыва и приступа. Не прошло и двух часов, как вдруг подкоп был приведен в действо; колокольня тихо зашаталась. Нижняя палата развалилась, и верхние шесть ярусов осели, подавив нескольких людей, находившихся близ колокольни. Камни, не быв разметаны, свалились в груду. Бывшие же в самом верхнем ярусе шесть часовых при пушке свалились оттоле живы; а один из них, в то время спавший, опустился не только без всякого вреда, но даже не проснувшись.
Еще колокольня валилась, как уже из крепости загремели пушки; гарнизон, стоявший в ружье, тотчас занял развалины колокольни и поставил там батарею. Мятежники, не ожидавшие таковой встречи, остановились в недоумении; чрез несколько минут они подняли свой обычный визг; но никто не шел вперед. Напрасно предводители кричали: на слом, на слом, атаманы молодцы! Приступу не было; визг продолжался до зари, и бунтовщики разошлись, ропща на Пугачева, обещавшего им, что при взрыве колокольни на крепость упадет каменный град и передавит весь гарнизон.
На другой день Пугачев получил из-под Оренбурга известие о приближении князя Голицына и поспешно уехал в Берду, взяв с собою пятьсот человек конницы и до полуторы тысячи подвод. Сия весть дошла и до осажденных. Они предались радости, рассчитывая, что помощь приспеет к ним чрез две недели. Но минута их освобождения была еще далека.
Во время частых отлучек Пугачева, Шигаев, Падуров и Хлопуша управляли осадою Оренбурга. Хлопуша, пользуясь его отсутствием, вздумал овладеть Илецкою Защитой[70] (где добывается каменная соль) и в конце февраля, взяв с собой четыреста человек, напал на оную. Защита была взята при помощи тамошних ссыльных работников, между коими находилось и семейство Хлопуши. Казенное имущество было разграблено; офицеры перебиты, кроме одного, пощаженного по просьбе работников; колодники присоединены к шайке мятежников. Пугачев, возвратясь в Берду, негодовал на своеволие смелого каторжника и укорял его за разорение Защиты, как за ущерб государственной казне. Пугачев выступил против князя Голицына с десятью тысячами отборного войска, оставя под Оренбургом Шигаева с двумя тысячами. Накануне велел он тайно задавить одного из верных своих сообщников, Дмитрия Лысова. Несколько дней пред тем они ехали вместе из Каргале в Берду, будучи оба пьяны, и дорогою поссорились. Лысов наскакал сзади на Пугачева и ударил его копьем. Пугачев упал с лошади; но панцирь, который всегда носил он под платьем, спас его жизнь. Их помирили товарищи, и Пугачев пил еще с Лысовым за несколько часов до его смерти.
Пугачев занял крепости Тоцкую и Сорочинскую[71] и с обыкновенною дерзостию ночью, в сильный буран, напал на передовые отряды Голицына, но был отражен майорами Пушкиным и Елагиным. В сем сражении убит храбрый Елагин. В самое сие время Мансуров соединился с князем Голицыным. Пугачев отступил к Новосергиевской,[72] не успев сжечь крепостей, им оставленных. Голицын, оставя в Сорочинской свои запасы под прикрытием четырехсот человек при осьми пушках, через два дня пошел далее. Пугачев сделал движение на Илецкий городок и, вдруг поворотя к Татищевой, в ней засел и стал там укрепляться. Голицын послал было к Илецкому городку подполковника Бедрягу с тремя эскадронами конницы, подкрепляемой пехотою и пушками, а сам пошел прямо на Переволоцкую[73] (куда возвратился и Бедряга); оттуда, оставя обоз под прикрытием одного баталиона при подполковнике Гриневе, 22 марта подступил под Татищеву.
Крепость, в прошедшем году взятая и выжженная Пугачевым, была уже им исправлена. Сгоревшие деревянные укрепления были заменены снеговыми. Распоряжения Пугачева удивили князя Голицына, не ожидавшего от него таких сведений в военном искусстве. Голицын сначала отрядил триста человек для высмотру неприятеля.[74] Мятежники, притаясь, подпустили их к самой крепости и вдруг сделали сильную вылазку, но были удержаны двумя эскадронами, подкреплявшими первых. Полковник Бибиков тот же час послал егерей, которые, бегая на лыжах по глубокому снегу, заняли все выгодные высоты. Голицын разделил войска на две колонны, стал приближаться и открыл огонь, на который из крепости отвечали столь же сильно. Пальба продолжалась три часа. Голицын увидел, что одними пушками одолеть было невозможно, и велел генералу Фрейману с левой колонною идти на приступ. Пугачев выставил противу него семь пушек. Фрейман их отнял и бросился на оледенелый вал. Мятежники защищались отчаянно, но принуждены были уступить силе правильного оружия – и бежали во все стороны. Конница, дотоле не действовавшая, преследовала их по всем дорогам. Кровопролитие было ужасно. В одной крепости пало до тысячи трехсот мятежников. На пространстве двадцати верст кругом, около Татищевой, лежали их тела. Голицын потерял до четырехсот убитыми и ранеными, в том числе более двадцати офицеров.[75] Победа была решительная. Тридцать шесть пушек и более трех тысяч пленных достались победителю. Пугачев с шестьюдесятью казаками пробился сквозь неприятельское войско и прискакал сам-пят в Бердскую слободу с известием о своем поражении. Бунтовщики начали выбираться из Берды, кто верхом, кто на санях. На воза громоздили заграбленное имущество. Женщины и дети шли пешие. Пугачев велел разбить бочки вина, стоявшие у его избы, опасаясь пьянства и смятения. Вино хлынуло по улице. Между тем Шигаев, видя, что всё пропало, думал заслужить себе прощение и, задержав Пугачева и Хлопушу,[76] послал от себя к оренбургскому губернатору с предложением о выдаче ему самозванца и прося дать ему сигнал двумя пушечными выстрелами. Сотник Логинов, сопровождавший бегство Пугачева, явился к Рейнсдорпу с сим известием. Бедный Рейнсдорп не смел поверить своему счастию и целых два часа не мог решиться дать требуемый сигнал! Пугачев и Хлопуша были между тем освобождены ссылочными, находившимися в Берде. Пугачев бежал с десятью пушками, с заграбленною добычею и с двумя тысячами остальной сволочи. Хлопуша прискакал к Каргале с намерением спасти жену и сына. Татары связали его и послали уведомить о том губернатора. Славный каторжник был привезен в Оренбург, где наконец отсекли ему голову в июне 1774 года.
Оренбургские жители, услышав о своем освобождении, толпами бросились из города вслед за шестьюстами человек пехоты, высланных Рейнсдорпом к оставленной слободе, и овладели жизненными запасами. В Берде найдено осьмнадцать пушек, семнадцать бочек медных денег[77] и множество хлеба. В Оренбурге спешили принести богу благодарение за нечаянное избавление. Благословляли Голицына. Рейнсдорп писал ему, поздравляя его с победою и называя спасителем Оренбурга.[78] Отовсюду начали в город навозить запасы. Настало изобилие, и бедственная шестимесячная осада была забыта в одно радостное мгновение. 26 марта Голицын приехал в Оренбург; жители приняли его с восторгом неописанным.
Бибиков с нетерпением ожидал сего перелома. Для ускорения военных действий выехал он из Казани и был встречен в Бугульме известием о совершенном поражении Пугачева. Он обрадовался несказанно. «То-то жернов с сердца свалился (писал он от 26 марта жене своей). Сегодня войдут мои в Оренбург; немедленно и я туда поспешу добраться, чтоб еще ловчее было поворачивать своими; а сколько седых волос прибавилось в бороде, то бог видит; а на голове плешь еще более стала: однако я по морозу хожу без парика».
Между тем Пугачев, миновав разосланные разъезды, прибыл утром 24-го в Сеитовскую[79] слободу, зажег ее я пошел к Сакмарскому городку, забирая дорогою новую сволочь. Он полагал наверное, что из Татищевой Голицын со всеми своими силами должен был обратиться к Яицкому городку, и вдруг пошел занять снова Бердскую слободу, надеясь нечаянно овладеть Оренбургом. Голицын, узнав о таковой дерзости чрез полковника Хорвата, преследовавшего Пугачева от самой Татищевой, усилил свое войско бывшими в Оренбурге пехотными отрядами и казаками; взяв для них последних лошадей у своих офицеров, немедленно пошел навстречу самозванцу и встретил его в Каргале. Пугачев, увидя свою ошибку, стал отступать, искусно пользуясь местоположением. На узкой дороге, против полковников Бибикова и Аршеневского, выставил он семь пушек и под их прикрытием проворно устремился к реке Сакмаре. Но тут к Бибикову подоспели пушки; он, заняв гору, выстроил батарею; Хорват, в последней теснине, бросясь на мятежников, отбил орудия и, обратя в бегство, восемь верст преследовал их толпы и вместе с ними въехал в Сакмарский городок. Пугачев потерял последние пушки, четыреста человек убитыми и три тысячи пятьсот взятыми в плен. В числе последних находились и главные его сообщники: Шигаев, Почиталин, Падуров и другие. Пугачев с четырьмя заводскими мужиками бежал к Пречистенской и оттоле на уральские заводы. Усталая конница не могла его достичь. После сей решительной победы Голицын возвратился в Оренбург, отрядив Фреймана – для усмирения Башкирии, Аршеневского – для очищения Ново-Московской дороги, а Мансурова – к Илецкому городку, дабы, очистя всю ту сторону, шел он на освобождение Симонова.
Михельсон с своей стороны действовал не менее удачно. Приняв 18 марта начальство над своим отрядом, он тотчас двинулся к Уфе. Противу него, для преграждения пути, выслано было Чикою две тысячи человек с четырьмя пушками, которые и ожидали его в деревне Жукове. Михельсон, оставя их у себя в тылу, пошел прямо на Чесноковку, где стоял Чика с десятью тысячами мятежников, и, рассея дорогою несколько мелких отрядов, 25-го на рассвете пришел в деревню Требикову (в пяти верстах от Чесноковки). Тут он был встречен толпою бунтовщиков с двумя пушками. Майор Харин разбил их и рассеял: егеря отняли пушки, и Михельсон двинулся вперед. Обоз его шел под прикрытием ста человек и одной пушки. Они прикрывали и тыл Михельсона в случае нападения, 26-го, на рассвете, у деревни Зубовки, встретил он мятежников. Часть их выбежала на лыжах и верхами и, растянувшись по обеим сторонам дороги, старалась окружить его. Три тысячи, подкрепленные десятью пушками, пошли прямо ему навстречу. Между тем открыли огонь из батареи, поставленной в деревне. Сражение продолжалось четыре часа. Бунтовщики дрались храбро. Наконец Михельсон, увидя конницу, идущую к ним на подкрепление, устремил все свои силы на главную толпу и велел своей коннице, спешившейся в начале сражения, садиться на конь и ударить в палаши. Передовые толпы бежали, брося пушки. Харин, рубя их, вместе с ними вступил в Чесноковку. Между тем конница, шедшая к ним на помощь в Зубовку, была отражена и бежала к Чесноковке же, где Харин встретил ее и всю захватил. Лыжники, успевшие зайти в тыл Михельсону и отрезать от него обоз, в то же время были разбиты двумя ротами гренадер. Они разбежались по лесам. Взято в плен три тысячи бунтовщиков. Заводские и экономические крестьяне распущены были по деревням. Захвачено двадцать пять пушек и множество запасов. Михельсон повесил двух главных бунтовщиков: башкирского старшину и выборного села Чесноковки. Уфа была освобождена: Михельсон, нигде не останавливаясь, пошел на Табинск, куда после Чесноковского дела прискакали Ульянов и Чика. Там они были схвачены[80] казаками и выданы победителю, который отослал их скованных в Уфу. После того Михельсон учредил разъезды во все стороны и успел восстановить спокойствие в большей части бунтовавших деревень.
Илецкий городок и крепости Озерная и Рассыпная, свидетели первых успехов Пугачева, были уже оставлены мятежниками. Начальники их, Чулошников и Кизилбашин, бежали в Яицкий городок. Весть о поражении самозванца под Татищевой в тот же день до них достигла. Беглецы, преследуемые гусарами Хорвата, проскакали через крепости, крича: спасайтесь, детушки! всё пропало! – Они наскоро перевязывали свои раны и спешили к Яицкому городку. Вскоре настала весенняя оттепель; реки вскрылись, и тела убитых под Татищевой поплыли мимо крепостей. Жены и матери стояли у берега, стараясь узнать между ними своих мужьев и сыновей. В Озерной старая казачка[81] каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: «Не ты ли, мое детище? не ты ли, мой Степушка? не твои ли черные кудри свежа вода моет?», и, видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп.
Мансуров 6 и 7 апреля занял оставленные крепости и Илецкий городок, нашед в последнем четырнадцать пушек. 15-го, при опасной переправе чрез разлившуюся речку Быковку, на него напали Овчинников, Перфильев и Дегтерев. Мятежники были разбиты и рассеяны; Бедряга и Бородин их преследовали; но распутица спасла предводителей. Мансуров немедленно пошел к Яицкому городку.
Крепость находилась в осаде с самого начала года.[82] Отсутствие Пугачева не охлаждало мятежников. В кузницах приготовлялись ломы и лопаты; возвышались новые батареи. Мятежники деятельно продолжали свои земляные работы, то обрывая берег Чечоры и тем уничтожая сообщение одной части города с другой, то копая траншеи, дабы препятствовать вылазкам. Они намерены были вести подкопы по яру Старицы, кругом всей крепости, под соборную церковь, под батареи и под комендантские палаты. Осажденные находились в вечной опасности и с своей стороны принуждены были отовсюду вести контрмины, с трудом прорубая землю, промерзшую на целый аршин; перегораживали крепость новою стеною и кулями, наполненными кирпичом взорванной колокольни.
9 марта на рассвете двести пятьдесят рядовых вышли из крепости; целью вылазки было уничтожение новой батареи, сильно беспокоившей осажденных. Солдаты дошли до завалов, но были встречены сильным огнем. Они смешались. Мятежники хватали их в тесных проходах между завалами и избами, которые хотели они зажечь, кололи раненых и падающих и топорами отсекали им головы. Солдаты бежали. Убито их было до тридцати человек, ранено до осьмидесяти. Никогда с таким уроном гарнизон с вылазки не возвращался. Удалось сжечь одну батарею, не главную, да несколько изб. Показание трех захваченных бунтовщиков увеличило уныние осажденных: они объявили о подкопах, веденных под крепость, и о скором прибытии Пугачева. Устрашенный Симонов велел всюду производить новые работы; около его дома беспрестанно пробовали землю буравами; стали копать новый ров. Люди, изнуренные тяжкою работою, почти не спали; ночью половина гарнизона всегда стояла в ружье; другой позволено было только сидя дремать. Лазарет наполнился больными; съестных запасов оставалось не более как дней на десять. Солдатам начали выдавать в сутки только по четверть фунта муки, то есть десятую часть меры обыкновенной. Не было уже ни круп, ни соли. Вскипятив артельный котел воды и забелив ее мукою, каждый выпивал чашку свою, что и составляло их насуточную пищу. Женщины не могли более вытерпливать голода: они стали проситься вон из крепости, что и было им позволено; несколько слабых и больных солдат вышли за ними; но бунтовщики их не приняли, а женщин, продержав одну ночь под караулом, прогнали обратно в крепость, требуя выдачи своих сообщников и обещаясь за то принять и прокормить высланных. Симонов на то не согласился, опасаясь умножить число врагов. Голод час от часу становился ужаснее. Лошадиного мяса, раздававшегося на вес, уже не было. Стали есть кошек и собак. В начале осады, месяца за три до сего, брошены были на лед убитые лошади; о них вспомнили, и люди с жадностию грызли кости, объеденные собаками. Наконец и сей запас истощился. Стали изобретать новые способы к пропитанию. Нашли род глины, отменно мягкой и без примеси песку. Попробовали ее сварить и, составя из нее какой-то кисель, стали употреблять в пищу. Солдаты совсем обессилели. Некоторые не могли ходить. Дети больных матерей чахли и умирали. Женщины несколько раз покушались тронуть мятежников и, валяясь в их ногах, умоляли о позволении остаться в городе. Их отгоняли с прежними требованиями. Одни казачки были приняты. Ожидаемой помощи не приходило. Осажденные отлагали свою надежду со дня на день, с недели на другую. Бунтовщики кричали гарнизону, что войска правительства разбиты, что Оренбург, Уфа и Казань уже преклонились самозванцу, что он скоро придет к Яицкому городку и что тогда уже пощады не будет. В случае ж покорности обещали они от его имени не только помилование, но и награды. То же старались они внушить и бедным женщинам, которые просились из крепости в город. Начальникам невозможно было обнадеживать осажденных скорым прибытием помощи; ибо никто не мог уж и слышать о том без негодования: так ожесточены были сердца долгим напрасным ожиданием! Старались удержать гарнизон в верности и повиновении, повторяя, что позорной изменою никто не спасется от гибели, что бунтовщики, озлобленные долговременным сопротивлением, не пощадят и клятвопреступников. Старались возбудить в душе несчастных надежду на бога всемогущего и всевидящего, и ободренные страдальцы повторяли, что лучше предать себя воле его, нежели служить разбойнику, и во всё время бедственной осады, кроме двух или трех человек, из крепости беглых не было.
Наступила страстная неделя. Осажденные питались одною глиною уже пятнадцатый день. Никто не хотел умереть голодною смертью. Решились все до одного (кроме совершенно изнеможенных) идти на последнюю вылазку. Не надеялись победить (бунтовщики так укрепились, что уже ни с какой стороны к ним из крепости приступу не было), хотели только умереть честною смертию воинов.
Во вторник, в день, назначенный к вылазке, часовые, поставленные на кровле соборной церкви, приметили, что бунтовщики в смятении бегали по городу, прощаясь между собою, соединялись и толпами выезжали в степь. Казачки провожали их. Осажденные догадывались о чем-то необыкновенном и предались опять надежде. «Всё это нас так ободрило, – говорит свидетель осады, претерпевший весь ее ужас, – как будто мы съели по куску хлеба». Мало-помалу смятение утихло; всё, казалось, вошло в обыкновенный порядок. Уныние овладело осажденными пуще прежнего. Они молча глядели в степь, отколе ожидали еще недавно избавителей… Вдруг, в пятом часу пополудни, вдали показалась пыль, и они увидели толпы, без порядка скачущие из-за рощи одна за другою. Бунтовщики въезжали в разные ворота, каждый в те, близ коих находился его дом. Осажденные понимали, что мятежники разбиты и бегут; но еще не смели радоваться; опасались отчаянного приступа. Жители бегали взад и вперед по улицам, как на пожаре. К вечеру ударили в соборный колокол, собрали круг, потом кучею пошли к крепости. Осажденные готовились их отразить; но увидели, что они ведут связанных своих предводителей, атаманов Каргина и Толкачева. Бунтовщики приближались, громко моля о помиловании. Симонов принял их, сам не веря своему избавлению. Гарнизон бросился на ковриги хлеба, нанесенные жителями. До светлого воскресения, пишет очевидец сих происшествий, оставалось еще четыре дня, но для нас уже сей день был светлым праздником. Самые те, которые от слабости и болезни не подымались с постели, мгновенно были исцелены. Всё в крепости было в движении, благодарили бога, поздравляли друг друга; во всю ночь никто не спал. Жители уведомили осажденных об освобождении Оренбурга и об скором прибытии Мансурова. 17 апреля прибыл Мансуров. Ворота крепости, запертые и заваленные с самого 30 декабря, отворились. Мансуров принял начальство над городом. Начальники бунта, Каргин, Толкачев и Горшков, и незаконная жена самозванца, Устинья Кузнецова, были под стражею отправлены в Оренбург.
Таков был успех распоряжений искусного, умного военачальника. Но Бибиков не успел довершить начатого им: измученный трудами, беспокойством и досадами, мало заботясь о своем уже расстроенном здоровье, он занемог в Бугульме горячкою и, чувствуя приближающуюся кончину, сделал еще несколько распоряжений. Он запечатал все свои тайные бумаги, приказав доставить их императрице, и сдал начальство генерал-поручику Щербатову, старшему по нем. Узнав по слухам об освобождении Уфы, он успел еще донести о том императрице и скончался 9 апреля, в 11 часов утра, на сорок четвертом году от рождения. Тело его несколько дней стояло на берегу Камы, через которую в то время не было возможности переправиться. Казань желала погрести его в своем соборе и сооружить памятник своему избавителю; но, по требованию его семейства, тело Бибикова отвезено было в его деревню. Андреевская лента, звание сенатора и чин полковника гвардии не застали его в живых. Умирая говорил он: «Не жалею о детях и жене; государыня призрит их: жалею об отечестве».[83] – Молва приписала смерть его действию яда, будто бы данного ему одним из конфедератов. Державин воспел кончину Бибикова. Екатерина оплакала его и осыпала его семейство своими щедротами.[84] Петербург и Москва поражены были ужасом. Вскоре и вся Россия почувствовала невозвратную потерю.[85]