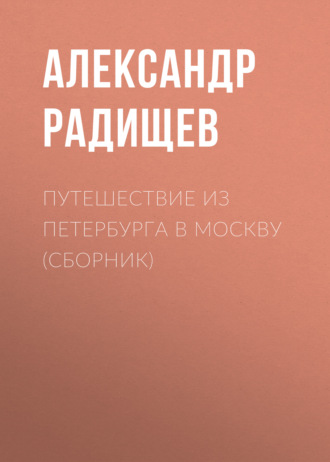
Александр Радищев
Путешествие из Петербурга в Москву (сборник)
Песнь первая
Ветр попутный веет тихо
В белый парус корабельный.
Там на палубе летяща
Корабля, что волны зыбки
Рассекал на влажном поле,
Бова сидя, песнь унылу
Пел и в гусли златострунны
Бряцал легкими перстами.
Пел, стенал, бряцал и плакал,
Лил потоки слез горючих.
«Что возможет, ах, сравниться
С лютой горестью моею,
Кто быть может столько бедствен,
Столько бедствен, как Бова?
Лишь светило дня блестяще
Мои очи озарило,
Грусти, горе и печали
Мне досталися в удел.
Желчь сосал я вместо пищи
Из сосцов змеиных лютых,
Колыбель мою качали
Скорбь угрюмая и злость.
Сирота унылый, горький!
Мой злодей мне мать родная!
Она жизнь мою хотела
Чуть расцветшую прервать.
Я один меж всей природы,
Я во всей вселенной странник
И пустынник между тварей,
Всех родившихся в любви.
Ах, уныло мое сердце,
Не знай лютой сея страсти:
Ей горят сердца преступны,
А ты будь всегда ей враг».
Песнь скончал, поставил гусли;
Пригорюнясь, взор ко брегу,
Что вдали едва синеет,
Обратил и, воздохнувши
Тяжело, вещал он тако:
«Ты прости, страна родная,
Ты прости, прости навеки.
Мать жестока, мать сурова,
О тебе я не жалею».
Слыша речи столь унылы,
Слыша песни столь плачевны,
Подошла к Бове старуха,
Что в артели корабельной
Должность важну отправляла
Метрдотеля, иль – стряпухи.
Хоть всю жизнь на синем море
Провела она с лет юных
В шайке лютых и свирепых,
Ко сребру и злату алчных,
Сих варягов и норманов,
Коим прозвище в дни наши
Не разбойники морские,
Не наездники, не воры,
Сохрани нас бог, помилуй,
Чтоб их н́азвали столь мерзко,
Не арабы марокански,
Не алжирцы, не тунисцы,
Но те люди благородны,
Что без страха разъезжают
В те суровые годины,
Как яр Позвизд с Чернобогом,
Пеня волны, окропляют
Их верхи людскою кровью;
Грабят всех – без наказанья.
Хотя выросла старуха
Среди шума волн и ветров,
При воззрении всегдашнем
На жестокости Арея,
Средь стенаний, вопля, крика
Умирающих злой смертью,
Или злее самой смерти
Во оковах срамных, тяжких
Иль железныя неволи,
Иль рабства́ насилья дерзка, —
Но была старуха наша
Мягка сердцем и душою
И с седым своим затылком
Равнодушно не взирала,
Как молоденький детинка
Проливал горючи слезы.
Была ль то одна в ней жалость,
Иль в старухе кровь играла,
Того повесть, хотя верна,
Не оставила на память.
Наша повесть только пишет,
Что, подшед к Бове поближе,
Она руки распростерла
И к иссохшей своей гр́уди
Прижимала Бову крепко.
«Столь ты юн, но столь ты бедствен! —
Возгласила стара ведьма
(Ведьма добра, мягкосерда,
Не как киевские ведьмы,
Что к чертям с визитом ездят
На ухвате без уздечки). —
Ты открой свое мне сердце,
Забудь горе на минуту.
Моя власть хоть невелика,
Хоть у всех я здесь служанка,
Но мои старанья нежны
Облегчат твою судьбину».
Говоря сие, отводит
Бову в малую каюту,
Где старуха наша нежна
Обед братьям всем готовит.
Тут, согрев и накормивши,
Бову нежно обнимает,
Очи мокры от слез горьких
Отирает поцелуем.
«Скажи мне, – она вещает, —
Скажи мне свою кручину,
Свою участь мне сурову!»
Бова нежно имел сердце,
В первый раз чрез многи годы
Ощущает он отраду,
Сладость ласки, сладость дружбы.
Ах! какое в грусти сердце,
Сердце сиро, одиноко,
Не внушит приязни гласу
И не сдастся на ласканье
Хоть столетния старухи?
Если витязь Роберт славный
Мог, ступив ногой на нежность,
Обнять старую хрычовку
И в объятьях ее мразных
Совершить победу жарку,
Восхитив цветок иссохший, —
Роберт был в любви ученый,
И задачу брачна ложа
Мог решить он без поверки:
Нос зажал, глаза зажмурил
И, как витязь македонский,
Узел Гордьев рассек махом, —
То Бове равно прилично
Обнимать старуху дряхлу:
Бова, знаем, парень новый,
Он не видит преткновенья,
Ласке лаской отвечает
И лобзанию лобзаньем;
Ему ж не было задачи,
Как Робе́рту на решенье,
Ложась с ведьмой спать на ложе.
Старушонку Бова мило
И столь крепко обнимает,
Что напомнил ей то время,
Как ей было лет лишь двадцать.
Не на ложе возлегают,
Но на печку лезут греться,
Зане холодно уж было.
Тут Бова, собрав все силы,
Тут Бова, вздохнув глубоко,
Вынимает из кармана
Платок белый, для запаса,
Чем утрет ее он слезы.
Зане знал Бова заране,
Сколь его плачевна повесть
И что тронет через меру
Сердце добрыя старухи.
Еще раз вздохнул, рек тако:
«Я Бова, Бова-царевич…
Ты дивишься тому, вижу, —
Но верь совести нелживой.
Я бы мог в том побожиться,
Но божиться не умею
И божиться не охотник.
Город, в коем я родился,
Есть столица сильна царства,
Где, пред сим венчанный властью
Держал скипетр царь премудрый,
Царь Кирбит, сын Версаулов,
Славен мужеством на брани,
Славен разумом в советах,
Милосерд, и щедр, и кроток,
И любим своим народом.
Ему дочь была родная
Всех прекраснее из женщин,
Мелетриса ее имя.
Слух о царствии Кирбита,
О его правленьи мудром
И о прелестях царевны
Молва громкая повсюду
До дальнейших мест промчала.
Двор Кирбитов был собранье
Всех красавиц в государстве;
Но меж всеми, яко солнце
Среди звезд эфирна свода,
Красотой своей блистала
Мелетриса, дочь царева.
В красоте она совместниц
Не имела, и не можно
Было чувствовать к ней зависть, —
Зане столь была всех краше,
Столь добра, мила, приятна,
Что вблизи ее не смела
Зависть яд пускать свой черный
И ее ехидны люты,
Мелетрису зря, немели.
Красота толико дивна
Привлекала всех вниманье,
И чувствительность сердечна
Ей платила долг природы,
Воспылав огнем любовным
В груди рыцарей надменных,
В груди рыцарей влюбленных.
Все ей нравиться старались,
Всем хотелось полюбиться
И во юном ее сердце
Воспалить любовный пламень.
Но меж многими другими
Отличались перед всеми
Своим мужеством, красою,
Своим нежным угожденьем,
Своей силой и богатством
Два царевича приезжих.
Один горд, спесив, надменен,
Взоры пылки, взоры страстны,
На лице черты Алкида,
Но Алкида в летах юных;
Рост и стан его, и взрачность,
И осанка величава,
Лицо смугло длинновато,
Черны кудри по раменам,
И густой брады начало,
Длань широка, персты толсты
Всем довольно возвещали
Его мужество и силу.
Он наездник в ратном поле,
Богатырь, и вождь, и воин,
Дадон сильный – ему имя.
Но не только в ратном поле
Подвизался он с успехом:
Столь же славен он у женщин;
А хотя в любви он страстен,
Но подвластен ей он не был,
И с Алкидом чтоб сравниться,
Лишь ему недоставало
Десяти жен и дев красных,
Пятьдесят дщерей Фиспия,
И одной лишь только ночки,
Чтоб ему отцом быть нежным
Пятьдесят раз вдруг в семействе.
Славну рыцарю толико,
Нет, нельзя не полюбиться
Мелетрисе, страстной, пылкой;
А тем больше, как лишь вспомнит
Что объятья, повторенны
В пятьдесят раз нераздельно,
Кажду ночь возобновятся.
Пусть бессонница всегдашня
(Столь ужасная больному)
Ее мучит на постеле
(Но сам-друг) и жизнь преторгнет:
Так Рафа́эль из Урбина,
В свете славный живописец,
Душу выслал вон из тела.
Другой рыцарь вежлив, скромен;
Сердце, душу имел нежны,
Очи быстры голубые,
Лицо бело и румяно,
По плечам златые кудри,
Вид, осанка Адонида.
Но он храбр; счастливый рыцарь,
На бою проворен, меток,
Всегда разумом вождаем,
Зрел опасность твердым оком
И в бою смерть хладнокровно.
Он всегда венцы лавровы
Пожинал на ратном поле,
Но не силою десницы,
Не удачей, не коварством
И не крепостью доспехов
Побеждал Гвидон противных.
Правды, истины поборник,
Меч его победоносный
Никогда не обагрялся
Кровью слабых иль невинных.
Он защитник утесненных,
Разрешитель уз и плена,
Непорочности спаситель,
И его смиренно сердце,
Душа нежна, душа тиха
Воспалялась гневом львиным,
Когда видел он коварство,
Ложь, строптивость и насилье,
Угнетающих бессильных;
Тогда воин милый, тихий
Бывал враг непримиримый,
Бывал бич неукротимый
Злобе, буйству и прельщенью.
В таковых душ́ах царевна
Любовь сильну воспалила.
И хотя со перва взгляда
Мелетриса подарила
Свое сердце всё Дадону,
Объявить того не смела,
И надежда в ней исчезла
Быть его женой когда бы, —
Зане многою услугой
Гвидон юный украшался,
Спасав царство и Кирбита
От насильств вождей хозарских.
Царь Кирбит за то в награду
Назначал его в супруги
Своей дщери, Мелетрисе,
В том признанием вождаем,
Пользой царства и рассудком.
Заключение неложно,
Что спасителю народа
Управлять его браздами
Других паче всех довлеет.
Гвидон был единородный
Сын на троне старца мудра
И ближайша во соседстве.
Во дни красны, безмятежны,
По скончаньи бедств военных,
Царь Кирбит во утешенье
Своей дочери прекрасной
Игры рыцарски затеял
И глашатаям повсюду
Повелел трубою бранной
Созывать на состязанье
Витязей из царствий разных.
Он хотел при их собраньи
Дать наследника престолу,
Дать супруга Мелетрисе
Храбра милого Гвидона;
Зане там, как прежде в Францьи
Скиптр не мог никак достаться
В руки, пряслицей что правят
Или швейною иголкой.
Уж из дальних и из ближних
Стран слетаются стадами,
Как вороны на гумнище,
Славны рыцари в доспехах,
Молодые, пожилые,
Средних лет и с сединами.
Иной едет повидаться
Со красавицей своею,
Распестрив свое оружье
Поперек и вдоль, крест-накрест
Тем любимым из всех цветом,
Что понравился пред всеми
Обладательнице милой
Его чувств, души и сердца.
Другой едет, чтоб прославить
Силы крепкой своей мышцы
И прибавить хоть листочек
Во венец, уже столь тяжкий
От побед в кровавых битвах
Иль на славных поединках.
А иной, кружась по свету,
Ко Кирбиту в гости едет,
Как в гостиницу обедать.
Воружась иной от темя
До пяты, и даже зубы
Воружив булатом, сталью,
Смело, борзо выступает,
Объявляя всем надменно,
Всем, про то кто ведать хочет
Иль не хочет, написавши
На своем щиту огромном
Золотыми всё словами:
„Не терплю ни с кем сравненья“, —
А там выйдет на поверку,
Что наш рыцарь пресловутый
Позевать приехал только,
И к несчастию случилось,
Что его десница страшна
Онемела, заболела,
Паралич ее ударил,
А то б он единым взглядом
Повалил всех, опрокинул,
Разогнал, развеял прахом.
Что же прибыли? Игры́ все
Стали б вовсе в пень. – Нет, лучше,
Что болезнь, ему случившись,
Всех оставила в порядке.
Были рыцари не хуже
Славна в свете Дон-Кишота.
В рог охотничий, в валторну
Всем трубили громко в уши:
„Дульцинея Тобозийска
Всех прекраснее на свете“.
А как во́ззришься в красотку,
То увидишь под личиной
Всех белил, румян и мушек
Обезьяну, или кошку,
Иль московску щеголиху.
За такую прелесть дивну
Он, однако ж, снарядился
На помол отдать все кости.
Но нет ну́жды знать причину,
Для чего они дерутся,
Мы лишь скажем одним словом,
Что их съехалось отвсюду
Столько – столько – что нет сметы.
Поле ратно, окруженно
Со всех стран, амфитеатром
Возвышалось. Тут дубовы
Скамьи были все покрыты
Рытым бархатом, парчами,
Алтабасом изошвенным.
Везде видно сребро, злато
И каменья дорогие;
Хитрость зодчества, ваянья
Превышала тут богатство;
И художество в союзе
С драгоценностьми земными
Вид изящности давали
Несказа́нной всему зданью;
Но искусство свои силы
Истощило под престолом,
Уготованным царице
С ее дочерью прекрасной.
На столпах кристальных твердых,
На сафир во всем похожих,
Что огнем искусство хитро
Из сожженна в пепел древа,
Из песка иль камня бела,
Зной сугубя, сотворило,
Возвышался свод порфирный,
Испещренный весь цветами,
Где, природе подражая,
Рука мастера искусна
Изваяла их из злата.
Перлы светлы и жемчужны
Внизу свода, меж столпами
Вкруг висели ожерельем.
В верху свода образ светлый
Возвышался в виде буйном
Той богини, вслед которой
Праотцы славян издревле
Вихрем бурь носились всюду.
„Лучезарная богиня,
Слава, дщерь мечты, призра́ков!
На престоле мглы блестящей,
Звезд превыше и Олимпа,
Из-за облака златого
Кажешь ты венцы лавровы.
Но лицо твое кто узрит?
Кто существенность постигнет
Твою? – Легкой ты завесой
Паров утренних, прозрачных
Прикрываешь черты шатки,
И тебя сквозь их лишь видит
Пылкий взор воображенья.
Лишь оно тебя рисует
И такими лишь шарами,
Как ему угодно только“.
Посреди широка поля
Жертвенник из твердой стали
Блещет зе́ркальным сияньем;
Фимиам тут не курится,
Брус стланцова черна камня
Тут лежит на изощренье
Копия, меча, булата,
Чем обильны всегда жертвы
Славе в честь приносит воин.
Ибо нет попов с причетом,
Ни жрецов у ней священных.
Кто грудь смелую имеет,
Твердый дух в бедах на брани,
Кто храбр, мужествен, отважен,
Тот есть жрец сея богини.
День настал уже тот грозный,
Равно скучный и веселый,
Где богиня лучезарна
Уделит своего блеска
Гордым всем своим любимцам
Иль покроет грязью срама
Всех тех, коим она кажет
Свой затылок безволосый.
Зане так же, как Фортуна,
Сестра Славы, легконога;
У ней волосы тупеем
Растут спереди косою,
А затылок весь плешивый.
Они моде сей учились
(Мы здесь скажем мимоходом
Для того, кто не читает
Путешествиев всемирных)
У мунгалов иль китайцев,
Иль в Тибете, иль Бутане,
В той стране благословенной,
Где живет тот царь священный,
На востоке столько чтимый;
Его бабка повивальна
Рассказала, и все верят,
Что он выше всех на свете,
Никогда не умирает;
Его смерть не есть кончина,
Его смерть есть прерожденье;
Что в мгновенье то ужасно,
Как дух жизни непостижный
Обветшалое жилище,
Мертвый труп наш, оставляет,
Божество сие двуножно
Преселяется в младенца
Или в юноша любезна,
Чтоб счастливым правоверным
Опять в знак щедрот небесных
Рассылать (но на закуску
Для десерта в день торжествен)
Своих сладких яств останки,
Что в священных его недрах
Благодатная природа
В млеко жизни претворила.
Вещество сие изящно,
В чем алхимик остроумный
Парацельс, иль Авицена,
Или Бехер, иль Альберты
Злата чистого искали;
В чем счастливый Брант и Кункель,
Светоносный луч открывши,
Пред очами изумленных
Возжигали (без огнива)
Огонь в трубках и курили
Траву пьяну некоцьянску,
Табаком что называют.
Но где меньше их счастливцы
Все отеческо наследство,
Накопленно и стяжанно
Кровью, потом и трудами,
Иль грабительством, мздоимством,
Иль другим путем превратным,
Пережгли, передвои́ли.
О, сколь счастлив был бы смертный,
Если б все богатства в свете,
Злостяжанные неправдой,
Обращалися чудесно
В вещество сие изящно,
Далаи-Лама которо
Всем в подарок правоверным
Для десерту рассылает;
Если б в нем фосфор блестящий
Раз сверкнул и превратился б
В пары светлы, исчезая, —
И, исчезнув, бы оставил
Лишь уханье амвросийно,
Столь известное в природе, —
Дабы знали, сколь есть смрадно
Злостяжанное богатство,
Хотя блещет лучезарно.
Еще в Зничеву коляску
Перстоалая Зимцерла
Коней светлых не впрягала,
И клячонки огнебурны
На конюшне Аполлона
Овес кушали эфирный,
Как прекрасна Мелетриса,
Не смыкая своих веждей,
Ложе скучно, ложе девства,
Ложе томно одиночства,
Свое ложе оставляет
Прежде, нежель петел громкий
Запинательным напевом
Не воспел нам час полночный.
„О! несчастная всех больше! —
Мелетриса так вещает, —
Почто в свете я родилась?
Почто зреть мне светло солнце,
Если жизнь влачить плачевну
Осужденна я не с милым?
Или щедрая природа
Моему лицу румяну
Дала прелести опасны
Для того, чтоб в горькой доле
Я потоком слез горючих
Их цветы весенни ярки
На рассвете сорывала!“
Так завыв, царевна наша
Распускает длинны космы
По раменам обнаженным.
Она, вставши со постели
В одной тоненькой рубашке,
Ни юбчонки, ни мантильи,
Ни капота, ниже шали
На себя не надевала
И, по горницам без свечки,
В темноте густыя ночи,
Всюду ходя, выла волком.
„Нет, не думай, чтоб досталась
Я в объятия Гвидону!
Пусть скорее ненавистна
Горька жизнь моя прервется,
А тебе, мучитель брачный,
Лишь достанется в укору
Мое тело бездыханно!..“
Без ума почти, в потемках
Она ходит, везде ищет
Вожделенного орудья
Безнадежному в злом горе
На скончанье скорой смертью
Жизни, ставшей ненавистной.
Со мгновенья на мгновенье
В ней отчаяние, томно
Сперва, стало уж лютее:
Не нашла себе в отраду
Ни ножа, ниже иголки,
Ни копья булатна крепка,
Ни меча, ни сабли острой,
Ниже шпаги – хотя б бердыш,
Или ножик перочинный,
Или вертел ей попался…
Но злой рок был столь завистлив,
Что все вещи смертоносны
От нее как в воду спрятал.
Ей так подлинно казалось.
Но мы в том не обвиняем
Ни судьбы, ни чародейства,
Чтоб царевне в злу насмешку,
Чтоб от горькой Мелетрисы
Они сталь, булат, железо,
Всё попрятали в колодезь.
Одно было тут волшебство,
То всегдашнее волшебство,
Что в подлунной совершает
Земли суточно теченье;
То волшебство несказанно,
Где, с подмогой вображенья,
Видим мы весь ад разверстый,
Домового, черта, ведьму,
Или рай, или – что хочешь;
То волшебство, одним словом,
Было тут простерто всюду,
Была – ночь, и было тёмно,
Глаза выколи хоть оба.
Говорят, сопротивленьем
Всяка страсть в нас коренеет,
Всяка страсть ярится с силой.
Как вихрь бурный дует в пламя,
Иль мехов насосных сотня
В горн (сложенные все вместе)
Верзят воздух, в них стесненный,
Клубоомутной струею;
Вдруг зажженный уголь рдеет,
Зной палит в нем черно сердце,
Угль горит, со треском искры,
Как пращом, в окрестность мещет,
Дым клубится, вихрем вьется,
Жар и зной уж всё объемлют,
И одно, одно мгновенье
В горне видишь огнь геенны…
Так царевна, не нашедши
Ни меча, ни остра шила,
Злу отчаянью вдается.
Лбом стучит во всяку стену,
Бросясь на пол, бьет затылком.
Но предательны помосты,
Покровенные коврами
Шелку мягка шамаханска,
Ее гневу лишь смеются.
На них вместо смерти лютой
Она волосы ерошит.
Но, опомнясь, воспряну́ла,
Как младая легконога
Серна скачет с холму на холм;
Воспрянула, луч надежды
Протекает ее сердце.
„Нет, сложась стихии вместе
Не возмогут тряхнуть душу,
На погибель устремленну.
Тот умрет, кто жить не хочет“, —
Так воскликнула царевна.
Она бросилась поспешно
К тому месту, где спит мама,
Ее мама дорогая;
Карга – имя ей в исторьи;
Над постелей Карги-мамы
Был вколочен гвоздь претолстый,
Большой гвоздь и деревянный,
Он длиной в аршин иль больше,
На который Карга-мама
По ночам треух соболий
Свой обыкла всегда вешать.
На гвозде сем умышляет
Скончать жизнь свою царевна…»
«Как! – вскричала тут старуха,
Прервав речь Бовы поспешно. —
Скончать жизнь таким же средством,
Каким девы Вавилонски
Жизнь давать учились древле!!
Или в честь священна Фала
У вас жертва не курится?
Или образ его дивный
Вы не носите на выях?
О, народ, народ продерзкий!
Презреть Фала, Фала сильна,
Что жизнь красну дает в мире!
Кем живет всё, веселится,
Без чего бы и вселенна,
Забыв стройное теченье,
Стала б дном вверх, кувырнулась.
Зане Фал есть ось та дивна,
На которой мир верти́тся.
Фал – утеха Афродиты,
Фал – то яблоко златое,
За которо три богини
Пощипались на Олимпе,
Вцепясь бодро в божьи кудри».
Бова слушал в изумленье
Свою дряхлую подругу.
Видит, жаром необычным
Засверкали ее очи,
Вздохи вздохами теснятся,
Воздымают грудь иссохшу.
Потягота во всех членах,
Жар гортанью ее пышет,
Во рту скрып зубных остатков.
Но вдруг взоры ее меркнут,
Млеют члены и слабеют,
Стары ноги протянула,
Сомкнув вежди, испустила
Тяжкий вздох и покатилась,
Чуть-чуть с печки не упала.
Бова старую подругу
Подхватил в объятья нежны.
Он уж думал, черна немочь
Ее дряхлу жизнь скончала
И последния отрады
Навсегда его лишила;
Но с веселием он видит,
Что в старухе сердце бьется,
Что в ней кровь не охладела.
Очи томны отверзает
И, вздохнув она легонько:
«Ах! любезный мой, – вещает, —
(Зри, сколь Фала почитаю)
Зри его священный образ,
Что скудельничьей рукою
Извая́н из глины хитро:
Се утеха моей жизни,
Се надежда мне по смерти.
Голод, жажду утоляет.
Не́ктар он и амврос́ия!..»
Бова видит – ужаснулся:
Образ Фала у старухи;
Он дивится… Кто не знает,
Не читал кто во исторьи
Древней повести народов,
Тому слог наш непонятен.
А Бова хотя и видит,
Но что видит, он не знает.
Так во глазе сетка чувствий,
Ослабев иль уязвленна,
Жизнь, чувствительность теряет.
И то чудно, велелепно,
То божественное чувство,
Чувство зрения изящно,
Чем все вещи для нас в свете
Оживляются шарами
Преломленных лучей солнца,
Вдруг померкнет, тмится, гаснет,
И предметы ярка света
Погружаются в тьму мрака.
День прошел и сочетался
С ночью, или ночь настала
Во очах, ночь непрестанна.
Словом, слеп кто, тот не видит
Так, истории не знавши,
Не узнал Бова наш Фала
И был слеп в своих познаньях.
А старуха, то приметя:
«Продолжай, – она вещает, —
Свою повесть ты плачевну».
Бова, вынув платок белый,
Отирает чело старо
Своей нежныя подруги,
У которой пот горохом
В исступленьи показался.
Пот проймет и не старуху,
Когда корча нервы тянет,
Когда мышцы все трепещут,
Грудь вздымается от вздохов
И упруго сердце бьется
Так, как древняя пифия
На треножнике священном
Дрожит, рдеет, стонет, воет…
Ах! всегда в сие мгновенье,
Когда жизнь в избытке льется,
Бог нас некий оживляет!
Конец первой песни
1799—1802 (?)
Сафические строфы
Ночь была прохладная, светло в небе
Звезды блещут, тихо источник льется,
Ветры нежно веют, шумят листами
Тополы белы.
Ты клялася верною быть вовеки,
Мне богиню нощи дала порукой;
Север хладный дунул один раз крепче, —
Клятва исчезла.
Ах! почто быть клятвопреступной!.. Лучше
Будь всегда жестока, то легче будет
Сердцу. Ты, маня лишь взаимной страстью,
Ввергла в погибель.
Жизнь прерви, о рок! рок суровый, лютый,
Иль вдохни ей верной быть в клятве данной,
Будь блаженна, если ты можешь только
Быть без любови.
<1801>
Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам
Тогда пущает 10 соколов на стадо лебедей, которой дотечаше, та преди песнь пояше…
Песнь на поход Игоря на половцев. Стр. 3.
Песни древние
Певец лет древних славных, певец времени Владимира, коего в громе парящая слава быстро пронеслась до Геллеспонта, Боян, певец сладчайший, коего глас, соловьиному подобный, столь нежно щекотал слухи твоих современников, возложи, Боян, благозвонкие твои персты на одушевленные, на живые твои струны, ниспошли ко мне песнь твою из горних чертогов света, где ты в беседе Омира и Оссиана торжество поешь ироев древних или славу богов; ниспошли, и да звук ее раздается во всех краях, населяемых потомками колен славянских.
Велик был день у славянского народа, день, посвященный первейшим их божествам, сильному Перуну, благодетельным Святовиду и Велесу, буйным Стрию и Позвизду, Нию и Чернобогу грозным, благой Ладе, Лелю и Полелю и всещедрому Даждьбогу. От всех колен славянских, от Ильменя и Новаграда, с холмистых берегов Клязьмы, от Галича и Дуная, с Помория и Моравы, с вершин Альпийских и с моря Адриатического сбиралися для общего торжества к великому Киеву старейшины, князи, бояре и гости, и тьмы народа бесчисленного. Вели они с собою сладкогласных песнопевцев, да в оный день великий прославят в песнях своих богов и витязей, и слава языка славянского да промчится во все концы известного тогда мира.
Утром рано в день торжества, едва первая стрела лучезарная излетела от молниенного убруса жаркого Знича, как сильные гласы труб, цевниц, бубнов и тимпанов возбуждали всех стекшихся на злачные долины, пестроцветною муравою покрытые, где Днепр, пробив пороги с шумом и пеною, тихою в Лиман течет струею. Князи, песнопевцы, витязи и все начальники вступают во златые стремена, шествуют стройно на конях своих бодрых; идут стязи пред ними, хоругви возвеваются по воздуху; священники в одеждах белых льняных, багряными поясами одержимых, ведут жертвы, украшенные цветами юных дней нежнодышащего мая. За ними вслед резвою толпою идут лики юношей и дев, сонм жен в соборе радостном и народ созади, в одеждах мирных, шествуют медленно.
И се лиется уже кровь тельцов, юниц и агнцев. Лики общую возгласили песнь. Ветр препнул свое дыхание, дым курения ароматного и всесожжения восходил серым столбом за облаки. Десять избранных песнопевцев от различных племян славянских стали строем на берегу древнего Ворисфена; каждый из них несет на правой руке своей сокола быстроокого, в левой держит звонкие гусли. Издалеча возникли шумные гласы труб, цевниц и тимпанов, возбудили вздремавших по утренней пище лебедей на струях днепровских. Зане обычай был таков, что сокол, поражающий лебедя, назначал чреду в песнопении, и чей был первый, тот первую воспевал песнь, и все другие по чреде своих соколов.
Возлетают лебеди, высоко виются под легкими утренними облаками. И се, яко стрелы от звенящия тетивы, твердым луком напряженныя, летят стремительно десять соколов, пущенных с рук десяти песнопевцев, пришедших на состязание издалека, – состязание, достойное игр Олимпийских в счастливые времена Эллады. – Летят соколы – и чей первый настиг лебедя? Се твой сокол, о Всеглас, житель юный берегов Ильменя, он ударил лебедя в белую грудь; возлетают пух и перья по воздуху; кровь капала дождем из-за облака; священники тщатся восприять ее в чаши златые, зане таинственно вещают. Лебедь упал мертвым к стопам коней княжих, а сокол-победитель летит на десницу Всегласа. Глас труб и цевниц возвестил чреду первую.
Сокол второй. Он твой, о Крутосвист, житель ближайших гор Тмутараканя; поразил лебедя полумертвым, и сам, возвившися под облако высоко, упал вниз стремглав и воссел на десницу вождя своего торжествующ.
Сокол третий слетел с руки Хохта от устья Дуная; ударил лебедя, но тщетно, и в третий раз мог только его повергнуть на землю бездыханна.
Сокол четвертый рожден на вершинах гор, близких моря Адриатического, Черными горами именуемых. Принес его Звен, потомок славных сопутников Пирра, мечтавшего завоевать вселенную.
Пятый сокол – Тиховоя, коего предки, оставив Кипр, преселилися сперва в Гесперию, потом прешли жительствовать на Поморие и принесли с собою обряды служения благотворныя Лады. Он, лебедя тихо поражая, но часто, пригнал его утомленна и жива к стопам своего господина.
Пять последние соколов, хотя не столь знаменитые победители, но не отпустили своея добычи, и утомленны пали с нею на землю.
И се воссели десять песнопевцев по чреде побед своих соколов на уготованных для них зеленых одрах; за ними стали лики юнош и дев разделенно. Священники воскурили фимиам…
Настроя звонкие свои гусли, тако воспел Всеглас:
Перун, о бог всесильный,
Зиждитель мира, царь
Всего того, что видим!
Не слово ли твое всесильно,
Что слышно нам во звуках грома,
Что гор сердца кремнисты,
Творению событных, современных,
Упругой зыбию колеблет,
Не слово ли твое
Воззвало в бытие
Всё то, что око наше зрит,
Или всё то, что мыслию постигнуть можем?
Се ты, о боже сил!
Се шествуешь, хламидой звездною одеян,
Носимой духом бурь и ветров.
Восток, Юг, Север и Стрий буйный сам
Твои суть слуги,
Земля подножие твое,
А дальный э́фир, дальный,
Превыспренний твой одр.
Венчан стихийным светом,
Рождающей одеян теплотою
И творчей силой препоясан,
Воссел, о ты, непостижимый!
В пространстве, в пустоте,
Среди смешения, среди хаоса,
Средь нощи древния и всюду мрак.
Воссел, да зиждешь и творишь,
И образы да дар твой будут.
Се там, престолу твоему,
Где молния не знала крыл своих,
Крыл огненных, в полете быстрых,
Где гром еще молчал, немея,
Где свет, где сушь, где влага,
Вскормленны вечности сосцами,
Росты бездейственны хранили
И где движенье, жизнь в тебе едином,
О бог! лелеясь, были, —
Се там предстали и явились
Престолу твоему
Твои все слуги, твои силы:
Знич светлый, жаркий, жизнодатель,
Велес, отец сей будущих животных,
И Позвизд и Купало,
Скрывавшие в своих огромных недрах
Всемирный океан,
И реки, и озера;
И Ний, отец земли, и крушц, и камней,
И мать рожденья Лада,
Всесочетающей любови бог.
Воссел, и тихое
Благоговейное молчанье
(Торжественный предтеча
Зиждительного слова)
Повсюду было,
Ко бытию готовя вся…
Се творчее изыде слово…
Уже начало восприяли
Движенье, жизнь и бытие…
И ты, не ведомый,
Не мыслимый никем,
О бог, отец, зиждитель,
Стал чувствуем, стал ощущаем.
И чадо юное твое,
Руки твоей творенье,
Подъяло край завесы древней,
Завесы вечности – и ты стал бог:
Зане, что ты, когда тебя
Никто не мог постигнуть,
Иль чувствовать, иль видеть?
Се Знич и Лада с сыном,
Велениям твоим послушны,
Живят и греют, сочетают…
Всё движется, приявши жизнь.
Чудесности исполнилась вселенна!
Но все творенья суть
Лишь слова твоего…
Нет, мысли лишь одной,
Твоей лишь мысли необъятной.
Зри: там, в пространстве неба и эфира,
Тела вращаются велики, светлы,
В согласьи стройном, дивном,
В гармонии чудесной.
Что там? Или кто там живет?
То ты один лишь знаешь
Или твои лишь слуги сильны.
Здесь, виждь, велел ты Нию сушу вздвигнуть,
На ней горам взнести
Свои верхи крутые, льдяны,
Иль пропастям, разинув хляби,
Вмещать в широки недра земны
Или блестящие крушцы,
Или сверкающи кристаллы.
Уж Позвизд махом своего трезубца
Возбрызнул океан на сушу,
И влага, напоив всю землю
Потопа общего разлитьем,
Раздвигнуто лицо свое превыше гор
В моря, в озера, в реки собрала.
Познал свои пределы понт,
И реки буйно восшумели
Чрез каменны скалы,
Через бугры кремнисты,
Крутясь, стремясь иль извиваясь
Меж нив, полей, лугов;
Текут они прозрачны, тихи
Во чрево обще вод,
В понт синий, в понт глубокий.
Уж Знич со Ладою в союзе
Взлегли на одр супружний, одр туманный,
И тепла мгла в парах прозрачных
Взлетела и взвилась высоко.
Се, зри, туманы серы там,
Собравшися, сгустившись выше,
Вступили облака горами,
И Стрий налег на их рамена;
Юг, Север вниз и вверх бунтуют,
Оставши буйны чада
Истлевшего хаоса,
И перва буря роет волны.
Летит дождь теплый вниз на нивы,
Где вслед всезиждущим твоим веленьям
Велес на свет извел вола
И всех зверей дубравных,
Где Даждь благой и щедрый
Родил древа и злаки.
Но ты, отец, с улыбкою рожденья
Возвел свои зеницы светлы
На юный мир, на юну землю;
Ты, видя счастие, блаженство,
Повсюду в блеске расширенно,
Добро ты видя всюду,
Еще помыслил ты.
Се паки сильно твое слово,
Беременно еще твореньем,
Явилось в мир,
Явилось облеченно в персти.
Се образ твой, о сильный!
Се образ дивный, возниченный;
Се дух твой, или слово,
Живущее в жене и в муже…
О человек, творение чудесно!
Творенье бренное, о царь земли!
Ты слаб, ты червь, ты мал,
Пылинка ты в сравнении всего,
Но силен, но велик умом,
Ты мыслию божествен,
Зиждитель и творец!
Велик, велик ты, о Перун!
Когда разверзишь длань свою широку,
Из коей льются изобильно
Благодеяния щедроты,
И мир, и тишина, и счастье;
Когда ущедрит нас
Посланник благ твоих великих,
Посланник твой Даждьбог.
Велик ты также и ужасен,
В ночи несясь туч синих, черных,
Когда преступны человеки,
Твой образ исказив пороком гнусным,
Сзывают гром твой с небеси! —
Твой гром губительный, карающ
И стрелы молнии твоей крылатой.
Тогда твоя десница сильна, рдяна,
Вращая огнь, удар вознесши вверх,
Превыше всех верхов холмистого Олимпа,
Низвержет молнию и гром,
И звук и треск, и смерть и ужас…
Бегут животные, трепещут
Пред взором твоего лица паляща
И кроются в вертепах темных;
Сердца сотрясши всех строптивых,
Не смерть ты шлешь, но знак благословенья:
Ты паки стре́лу сизу молньи светлой
Верг махом в дол,
И гром твой глухоутлозвонный
Ударил с треском в верх сосны ветвистой
И раздробил ее в обломки малы.
Но ты тут не ужасен, о Перун!
Тебе сосна была та посвященна;
Под ней покоился любимец твой Седглав,
Седглав, твой жрец верховный, прорицатель,
Принесший жертвы, о Перун! тебе обильны:
И сто тельцов и сто волов, овнов толико ж;
Любезна первенца лобзает,
И юношу сего любезна,
И сына сердца и души,
Он в дальный путь готовит, устрояет,
И пред лицом твоим
Он отчее ему дал наставленье:
«Ты юн еще, о сын мой милый!
О Велеслав, ты юн;
Но был уже свидетелем злосчастий
И бедствий пагубных войны…
Уже прошло тому и год и больше,
Как многолюдные колена кельтски,
Сложив свои все силы
Во ополчение едино,
От мыса, в дальном море вон торчаща,
Иль от конца земли,
Чрез Северный Улин, и Тул, и Морвен,
И острова Гебридски,
И все брега обширной Скандинавьи
До самых тех брегов
И низких и болотных,
Где тихая Нева
Свои глубоки волны
Из Ладоги влечет
И томною своей струей, почти прямою,
Весь сонм своих валов бесшумных
Исхлынула в Варяжско море; там,
Где мглой всегда Котл́ин покрытый
Косой иссунулся далеко в море.
Сердца, глубоко уязвленны,
Что племена славянски сильны,
Ступая во следы широки, звучны
Своих усопших предков,
Оставивших свои
Пылающие веси
На берегах бушуйной Адрьи,
Эпир, Иллирик и Панонью
Губителям вселенной в Риме,
Простерли меч победоносный
За многоводную струю Дуная,
За Днестр, за Буг, за Вислу,
За славный Ворисфен
И даже до брегов камышиста Ильменя,
Откуда Волхов извлекает
Обильное соборище вод желтых
И чрез пороги между скал гранитных
Мчит их в сожитие
Вод Ладоги пространной;
Восстали,
Покрыли
Варяжски
Пучины
Несметной тьмой ладей,
Прошли они
И Рюген,
И Даго,
И Езель,
Прошли они Котл́ин
И устье тройственно Невы.
Тут, сняв с судов высоки щеглы,
Подобны лесу темну,
Без листвия, опустошенну
И молнией и бурей,
Весла́ми воды рассекая,
Шли в верх Невы, шли Ладогой,
Вошли во устье Волхова
И плыли до его порогов.
Оставив тут суда,
Пошли во строе ратном,
Простерли ужас и беды́,
Смерть, пламя и оковы мыча
По нивам, по холмам.
Восплакали славянски девы,
Рабыни став врага;
Взрыдали жены, дети,
Лишась супругов и отцов.
Уже кельтско ополченье
До того достигло места,
Где твой славный дед, отец мой,
Где великий Ратомир
Новагорода начатки
Близ Ильме́ня положил.
Уж дымятся, пламенея,
Верхи новы и высоки,
Кровь ручьями льется всюду.
Мала стража городская
Скоро смерть мечом вкусила,
И сто юных, храбрых воинов,
Врата града защищавших,
Копием сражаясь, пали,
Жертва силы превосходной,
Предпочтив поносну плену
Смерть. Вломившись в наши стены,
Простер враг насильство всюду.
Ты тому свидетель сам был,
О мой юный друг, друг милый!
Как их меч, носясь по стогнам,
Не щадил славенской крови,
Как младенцы, жены, старцы
Погибали беззащитны.
Вихрем буйным рыщут всюду,
Огнь, и гибель, и крушенье
Везде сеют, простирают,
И смерть бледна воспарила
Над главами всех, готова
К извержению кончины
Общей всем, что живо было.
Ах! почто, почто, несчастный,
Не погиб, плачевна жертва
Я их лютости и зверства.
В среде зеленой кущи,
Рукой моею насажденной,
Сидела мать твоя и та,
Которую рука моя вскормила,
Душа моя дала которой душу
И сердце мое – сердце;
Которую Перун, и я, и мать твоя,
И сам ты, друг мой юный, нарицал
Возлюбленной уже подругой,
Твоей подругою навек.
Тогда под сень смиренну нашу
Бегут, как алчны львы, рыкая,
С мечом, с огнем в руках
Враги победоносны.
„Кто ты? – Кто ты?“ —
Вещает им Ингвар суровый.
Он вождь полков был кельтских;
Высок, дебел и смугл, а очи малы
Как угль сверкали раскаленный
Из-под бровей навислых и широких;
Власы его кудрявы, желты, густы,
Покрытые огромнейшим шеломом,
Всклокоченно лежали длинны
Врознь по его атлантовым раменам.
Рука его была как ветвь претолста
И суковата ветвь огромна дуба;
Увесиста, широка длань.
Был глас его подобен
Рычанию вола свирепа,
Когда, смертельно уязвленный,
Несется он по дебрям, по долинам:
„Кто вы?“ – вещает паки к изумленным
Он диким и суровым гласом.
„Первосвященника Перунова супруга
У ног твоих“. – „Восстань, иди со мной“
А мы?.. А я с тобой, – вещал
Седглав, тут проливая
Обильные потоки слез, —
Отсутственны мы были и ходили
В соседственный Холмград.
Там мы с тобою
На сделанном брегу высоком,
Где столп Перунов возвышался,
Курили фимиам.
И се вопль наш слух пронзает;
Мы по стогнам зрим Холмграда:
Бегут, мычутся в боязни
Жены, девы и младенцы,
Кои, жизнь спасая бегством,
Утекли из Новаграда.
„Мы погибли, – восклицают, —
Погиб Новый град и в пепел
Превращен, не существует“.
Уж воинственные трубы
Вострубили, уж стекались
Все полки славянски; строем
Все идут ко Новуграду.
Сердце наше предвещало
Бедство нам и скорбь и слезы;
Мы, полки все предваряя,
На коней воссели легких,
Скачем быстро и несемся.
Но, о зрелище ужасно!
Рабынь наших мы сретаем, —
И несут уж хладно тело
Твоей матери Препеты;
„Поспешай, – тебе вещала
Мать твоя чуть слышным гласом, —
Поспешай, коли возможно.
Чаромила унесенна
Вождем кельтским в ладию…“
Хлад и смерть вдруг распростерлись,
Очи меркнут – прервалося
Ее томное дыханье,
И – душа вон излетела…»
Старец умолк – и, очи поникши, стоял неподвижен,
Будто на казнь осужденный. Протекшие скорби предстали
Живы уму его, силою воображенья. Хладеет
Кровь в его жилах; колена трепещут; дыханье стесненно
Грудь воздымало его. – Восседает. – Юноша,
к старцу
Очи, исполненны слез, обративши, тако вещает:
«Мы шли с воинством поспешно…
Я, с друзьями тут моими
Отделясь от всех далеко,
Вниз по Волхову неслися.
Но, увы! уж поздно было.
Погрузив корысти многи,
Сребро, злато и каменья,
Рухлядь мягкую богату —
Хладна Севера избытки,
Жен и дев восхитив многих,
Враги наши плыли скоро,
Плыли вниз, едва лишь видны.
Не вдаваяся напрасну
Мы отчаянью, обратно
Мы помчались к Новуграду.
Тут, встречаясь с ополченьем
Сих врагов неистозлобных,
Мы карали их измену,
Гнали, били и мертвили,
И во Новгород вступили
По телам сих лютых воев.
Но возможно ли воспомнить
Те минуты равнодушно,
Те минуты преужасны,
Как мы в Новгород вступили?
По стогнам летала
Смерть люта и бледна,
Широко простерши
Чугунные крылья.
Уж воинство кельтско,
Досель разлиянно
В домах и по стогнам
Велика Новграда,
Стекалось в едино,
Внушая веленью
Вождей своих лютых.
Мы, ударив
На них строем,
Опровергли
Их, попрали
И достигли
Скоро, скоро
Того места,
Где на вече
Собирался
Народ мирный.
Тут Ингвар, сей
Вождь суровый
И вождь лютый,
Связав руки
Вервью тяжкой
Ста дев, вел их
В плен, в неволю.
Увидев ужасно
Сие посрамленье,
Как львы возревели
Мы ярости гневом
И буйны стремились
На воинство кельтско,
Старались отнять весь
Их плен и добычу.
Сталь сверкнула,
Смерть взлетела.
Мы разили
Врагов сильно;
И удары
От них страшны
Мы терпели,
Но вломились
Все мы строем
В полки кельтски.
Наконец их
Опрокинув,
Смерть им в сердце
Наносили
И, стараясь
Дать свободу
Девам пленным,
Тьмы врагов мы
Истребили
И их души
Вероломны,
В крови черной
Источенны,
Отослали
В царство Ния.
Но, ах, пагубна победа!
Враги наши, стервененны
Поражением толиким,
В грудь пронзали всех дев пленных.
А хотя мы извлекали
В грудь вонзенну харолугу,
Но душа, душа томленна
Излетала вслед за сталью
И лилася в крови дымной.
Ингвар, зря тут
Неудачу,
Отступает,
В строй поставя
Все останки
Своих воев;
Отступает
Во порядке,
В строю дивном
К струям желтым,
Он в ладьи тут
Восседает;
Он увез трех
Дев с собою,
Дев прекрасней
Всех во граде, —
И, ах, с ними
Чаромилу!»
«О, друг мой юный! – глас возвыся,
Седглав тут рек. —
Настал уж день и час отмщенья;
Зри, многие полки славянски
Уже стекаются отвcюду;
Услыши радостны их клики:
Се смерть, – гласят, – се пагуба врагам!
Бесчисленны ладьи готовы
Нести сих славных ратоборцев
Поверх валов Варяжска моря.
Народ славянский, помня все заслуги
Отцов твоих, отцов моих
И ведая, сколь мне
Перун всесильный благотворен,
Сколь мил ему первейший его жрец,
Тебя единым гласом все колена
Вождем своим уж нарекли.
Гряди, гряди на брань
И смело подвизайся,
Карай, рази врага, им отомщая
Все раны, кои он нанес
Тебе и мне и нашему язы́ку;
Неси ты бурный огнь в селенья кельтски;
Лей кровь… ах! для чего
Бессильные мои рамена
Подъять не могут брони тяжкой,
Я был бы вождь полков славянских
И, мщеньем ярости
Непримиримыя пылая,
Вращал бы меч мой обоюдный
В груди и недрах сопостатов,
Отмщая смерть моей супруги;
Из трупов бы врагов, попранных долу,
Престол воздвигнувши высокий,
Тебе, Перун, тебе я сердце,
Из груди вражьей извлеченно,
Тебе бы в жертву я принес.
О! бог, всесильный бог! —
Вещал Седглав тут в исступлении, —
Отверзи очи ты души моей,
И книга будущих судеб
Да предо мною разогнется!»
Тут юноша простерся долу
В благоговении сердечном;
Воздел на небо руки жрец.
Вихри сильны вдруг взвилися,
Буйны ветры тут завыли,
С тучей буря налетела,
Сиза молния сверкнула,
Гром ударил с треском сильным,
Поразил сосну священну,
И сосны верх возгорелся.
В исступленьи необъятном
Жрец, стрясаем богом сильным,
Громким гласом восклицает:
«О! род ненавистный
Славянску языку!
Се смерть, сто разинув,
Сто челюстей черных,
Прострет свою лютость
В твою грудь и сердце!
Восплачешь, взрыдаешь:
Не будет спасенья
Тебе ниоткуда…
Но… увы! мы только мщенье,
Мщенье сладостное вкусим!..
А враг наш не истребится…
Долго, долго, род строптивый,
Ты противен нам пребудешь…
Но се мгла мне взор объемлет,
Скрылось будущее время…
Зрю еще, – о сын любезный,
Ты по странствиях далеких
Наконец обрящешь живу
Ты любезну Чаромилу, —
Но я того уже не узрю…»
И се удар громовый повторился,
Земля трясется; жрец воскликнул:
«Иди, мой сын, иди,
Иди, о друг мой юный.
Се слава в облаке златом
Плетет тебе венец лавровый.
Зри, там чертог божественный отверст,
Он ждет тебя и восприимет,
Когда увянешь, не дожив
Блаженных поздных дней;
Но если смерть в полете своем быстром
Тебя на ратном поле дальном
Щадить не перестанет
И лютая ее коса
Тебя минует и допустит
Главу твою покрыться
Сребристыми космами,
Тогда блаженны дни твои пребудут
В объятиях супруги милой,
В среде любезного семейства,
Семейства многолюдна.
Спеши; се зрю, полки славянски и́дут,
Несут булатны свои копья,
Несут, как лес густой, —
О, радость мщения, играй,
Играй ты в томном моем сердце;
Сие последнее да будет
Мне, старцу, утешенье,
Вознесшему уж ногу в гроб,
Иди, спеши, о сын любезный!
Победы лавр пожни блестящей;
Тебя еще да узрят мои очи,
Сим лавром увенчанна».
Жрец умолк и лобызает
Своего любезна сына;
Строй идет, и звонки трубы
В путь зовут всех ратоборцев.
Вспламененный отчим словом,
Буйный юноша в восторге
Тяжку броню воздевает.
Шлем взложил на верх свой гордый,
Меч висит у бедр тяжелый,
Щит, копье в его руках:
«Прости, отче!» – он отходит.
Вои радостны воспели
Песни яру Чернобогу.
Жрец возвысил глас свой громкий,
Рек пророческое слово:
«О Перун, о бог всесильный!
Буди им поборник в бранях,
Буди в бедствиях защита;
О народ, народ преславный!
Твои поздные потомки
Превзойдут тебя во славе
Своим мужеством изящным,
Мужеством богоподобным
Удивленье всей вселенной;
Все преграды, все оплоты
Сокрушат рукою сильной,
Победят – природу даже,
И пред их могущим взором,
Пред лицом их, озаренным
Славою побед огромных,
Ниц падут цари и царства.
О потомки!..» – но гром грянул,
Жрец умолк – он ощущает,
Что шествует в величьи тихом бог.
1801—1802







