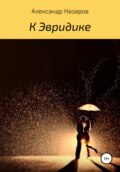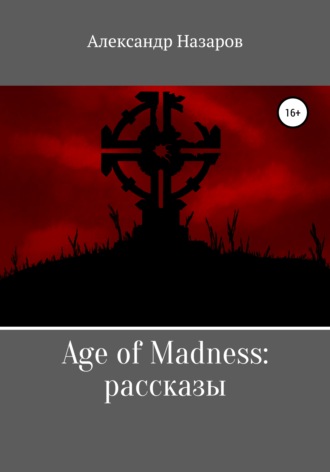
Александр Назаров
Age of Madness: Рассказы
Если бы Роланд мог видеть в этот момент мир живых, то перед ним бы предстало сиреневое небо, орошающее землю маслянистым дождем. Инквизитор знал, что есть только одно оружие против этих тварей – вера. Инквизитор вновь поднял над собой крест. Тот был охвачен пламенем. Но горел не крест. Святость символа божьего выжигала богомерзкое пространство, куда попал ревнитель веры. Одной рукой инквизитор разил врагов мечом, другой он выжигал их при помощи пламени своей веры. Так он и приблизился к алтарю.
– Не ждал, сукин сын? – спросил он у настоятеля и всадил тому крест в искаженное лицо.
Существо, бывшее когда-то священником, взвыло.
– Ты и себя погубил тоже!
– Элеос спасет мою душу, – спокойно отвечал на предсмертный хрип инквизитор.
– Наивный. Ты там, где тебя видит и слышит только один бог. Ты еще присягнешь ему.
С этими словами предатель был обращен в прах. Со смертью последнего слуги Горбатого бога, пространство вокруг начало распадаться. Инквизитор Роланд встал на колени, сложил руки и стал молиться Элеосу, богу света.
Небо над старым городом Эверморн тем временем просветлело, а от старой церкви остались лишь угли. Это была просто страница в вечной книге порой незримой борьбы с разрушительными силами.
Город зла
И вижу я город, страшный, ужасный город. Он как будто построен внутри сферы из почерневшего дерево, что придает ему атмосферу гроба: город берет свое начало у земли, где сфера немного усечена, и возвышается до небес, закрывая эти самые небеса. Все здания расположены параллельно друг другу. Они построены из потемневшего гнилого дерева. Их тысячи, миллионы. Вот, одно не выдерживает груза времени и падает вниз, забирая с собой еще несколько домов. Другое буквально срастается с соседними. Прогнившие и свалившиеся дома образуют гигантские монструозные агломерации, замки упадка, храмы разложения. Улицы покрыты грязью, они поросли мхом и прочими растениями, паутину здесь не убирали вовек, пауков же не видно. Создается ощущение, что паутина здесь растет сама. В самом низу разлилось озеро мутной воды, от которой исходит неумолимый запах тлена и разложения, от него кружится голова, а сознание норовит покинуть тело. Эта вода – яд, и участь тех, кто упадет в неё, незавидная.
Нету здесь и света солнца, улицы освящаются тусклыми желтыми фонарями. Лишь когда временный правитель города разрешает включить свет, чаще всего это по праздникам, можно увидеть один край города, будучи на противоположном. Во всех остальных случаях он кажется изуродованным звездным небом.
Все люди здесь маленькие и пухлые. Такие неряшливые и уродливые! Все они обрюзгшие, небритые. В черных глазах светятся коварные желтые огоньки. Когда они улыбаются, открывается их рот полный испорченных зубов, от которых веет смертью и каким-то «ржавым» запахом, у иных вообще вместо зобов вколоченные в челюсть гвозди. Одеты они в черные грязные смокинги или фраки. Некоторые из них, возможно, когда-то были белыми, но толи улицы города изменили их окраску, толи чернота души носителей. Они горбаты. Горбаты от того, что с рождения не имели привычки расправлять спину.
Их любимое занятие – убивать, слоняясь по городку. Для этого у них всегда есть при себе кремневый пистолет. Им не жалко убивать собратьев: убьют одного, родится новый, буквально выползет из соседнего угла или подворотни, самозародится, если можно так выразится, из злобы и грязи. Регулярно убивают и правителя города, на его место сразу ставится другой. И вот они, толпы кривых людей, идут, стреляют друг в друга и ржут. Тела гниют прямо на улицах, у них нет могилы – весь город их могила. Останки людей лишь дополнительные декорации этого места. В перерывах между бойней некоторые из них играют на кривых музыкальных инструментах: полуторострунных гитарах, водосточных трубах и барабанах из человеческой кожи. Музыку эту даже нельзя назвать музыкой – какофония.
Я знаю, что это сон, но я не могу проснуться. За что я здесь? Это ад?! Я бреду по убогим улицам в полусогнутом состоянии, настолько мне тут все противно. Неужели это плод моего воображения? Нет, это больше похоже на шутку безумного бога. Я чувствую, мое тело в реальном мире бьется, сопротивляется. Я падаю на пол, но сон продолжает сниться. Тело мое горит, а разум стонет. Образы города повторяются вновь и вновь.
Через силу вырываю себя из сна, открываю глаза, по ним плывут кровавые круги. Дико дышу, все никак не могу прийти в себя. За стенами бьются волны. Монотонно, спокойно. Исчезла адское беспокойство сна. Но и ныне меня терзает мысль, а не реален ли этот город?
Сладкий дым
В тот день невероятная жара сжигала небольшой городок. Отчетливо были видны струи горячего воздуха, поднимающиеся от асфальта, который почти плавился под действием яростного солнца. Все в городе суетилось и бегало как при пожаре, но это была всего лишь самая обычная жизнь провинциального города: взрослые спешили на работы, дети – погулять. Музыку его улицы составляла смесь людских криков, рева моторов и галдежа животных. Картина эта повторялась день за днем и имела название «Рутина». День этот был обычным для всех, всех, кроме двух человек. Их ждало сегодня нечто особенное и даже знаменательное. Вся жизнь их шла к этому дню. Хотя, для справедливости нужно отметить, что события стали развиваться только к вечеру, когда ушла адская жара, а расплавленный город начал застывать и утихать.
Вернувшись с работы, поужинав и обнявшись с женой, Адам заперся в гараже, где работал до позднего вечера. В обычный день жена уже бы начала ревновать его к старому форду, но сегодня к ней забежали подружки и весь вечер вели с ней разговоры. Весь чумазый Адам вышел из гаража, после чего умылся и объявил жене, что у него запланирована важная встреча с начальством сегодня вечером. Жена, сидящая за столом в белом домашнем халате, с бигуди на голове и сигаретой в руке, с недоверием смотрела на Адама, после чего отпустила его, попросив вернуться до рассвета. Адам оделся в стильные темные брюки, белую рубашку и черный пиджак. Накинув на себя летнее пальто и натянув на голову шляпу, которую его жена всегда называла «дурацкой», он поспешно выбежал в подъезд. Стены были достаточно тонкими для того, чтобы Адам мог слышать, о чем его супруга разговаривала с подругами:
– Ушел, – на этом месте она, судя по всему, затянулась сигаретным дымом, – пусть только попробует не вернуться к рассвету, или поехать в другую сторону – отведает сковородки. Как бы к путанам своим не удрал.
Далее шел длинный разговор о том, как Адам все-таки плохой, но как жена его при этом любит. Муж молча улыбнулся и вышел во двор. Там он открыл гараж, откуда выехал на стареньком форде прямо по направлению к предместьям, хотя работал он в центре города. Жена, которая наблюдала за этим из окна, вздохнула, после чего пошла на кухню, где открыла новую бутылку вина. Её и подружек ждал долгий разговор, полный интересных подробностей об Адаме. Но сам этот разговор не представляет интереса в контексте этой истории. Скоро Адам должен был встретиться с одним человеком.
Весь этот день Лилит провела в беспокойстве у себя на квартире. Спасаясь от жары, она бродила по комнате, махала веером и ставила пластинку с прохладной музыкой. От беспокойства она пила особый коктейль, состоящий из лучших успокоительных средств тех лет: героин, морфий и опиум в водке. Такой коктейль обычно давали детям, чтобы успокоились, но Лилит считала, что взрослым такая смесь помогает не меньше. Зависимости от составляющих коктейля у девушки не появлялось, хотя её много раз предупреждали о возможности появления. Быть может, Лилит просто не замечала зависимость, ведь пить данное средство ей приходилось довольно часто.
Принятые меры помогли Лилит дожить до судьбоносного вечера. Перед тем, как отправится в путь, ей предстояло еще одно дело. Входная дверь опять открылась с ноги, а в квартиру ввалилась пьяная туша её мужа. Все прошло быстро: об пол разбилась бутылка виски, об стену – любимая виниловая пластинка Лилит, муж упал лицом вниз на диван, мгновенно заснув. Лилит накинула на спящего мужа одеяло, пошла в ванную, накрасилась, надела на себя белый плащ и большую белую шляпку и покинула квартиру своего мужа.
Адам ждал во дворе. Он стоял, опершись на капот машины. Лилит застенчиво, опустив глаза, подошла и села в машину. Адам за ней. Они тронулись, покидая город тусклых, осуждающих огней. Пока они были в пути ни Лилит, ни Адам не посмотрели друг на друга. Он сжимал-разжимал руки на руле, она усердно ломала себе руки. Обоим им было двадцать семь лет, оба состояли в браке. Адам был высоким, широкоплечим мужчиной с короткими светлыми волосами. Глаза его были темно-зеленого цвета. Лилит была куда ниже Адама ростом, волосы её были темными и длинными, а глаза – голубыми. Когда она вышла, волосы её были заправлены в строгую прическу, но в машине Лилит распустила их, обнажив водопад черного шелка.
– Думаешь, они видели? – застенчиво спросила Лилит,– я видела тени в окнах…
– Видели, наверняка видели, но это уже не важно.
– Не важно, – кротко повторила она вслед за ним,– наконец-то.
Их машина плыла по ночному шоссе, унося Адама и Лелит все дальше. Они свернули на проселочную дорогу, после чего заехали в лес. В итоге они прибыли на берег ночного озера, в котором отчетливо отражались луна и звезды. Оба уселись на капот форда, взявшись за руки. Они любовались ночным озером.
–Ты все приготовил?
– Да, но сейчас не до этого, просто посмотри, какая красота, – отвечал Адам, оставляя загадку в своем голосе. Они молчали.
– Эх, улететь бы на Марс,– вдруг проговорила Лилит.
– Мы бы сбежали туда…
– Не раздумывая.
– Прошлись бы под яблонями Марса, взобрались бы на Олимп.
– Босиком по красным пескам.
Они молчали, а звезды кружили на небе, созвездия танцевали вальс.
– А ведь мы как Тимин с Аденином,– смеясь, Адам прервал тишину.
– Хи-хи, или Гуанин с Цитазином,– отвечала Лилит.
– Эх, думалось мне, что стану известным врачом, буду побеждать смерть.
– А я – хорошей медсестрой.
– Что же стало с нашими мечтами? – механик и секретарша.
– Души наши устали, а тела износились…
– Ныне я понимаю, что наши устремления – ничто. Сейчас мне просто хочется путешествовать.
– Столько мест: пирамиды, Колизей, Эйфелева башня, Гранд-каньон, Амазонка, Байкал. Слышал о Байкал? Это озеро в России, такое чистое!
– Хочу в Японию…
Диалог их был долог, они мечтали, пока слезы текли по щекам, контрастируя с улыбками. Мысленно Адам и Лилит облетели весь земной шар. Они затронули почти все темы в этом разговоре. Кроме одной. Небо на востоке начало светлеть. Тогда Лилит села в машину. Через некоторое время к ней присоединился и Адам.
– Все. Установил. В путь.
Они поцеловались и взялись за руки. Адам завел мотор и в герметичный салон машины от выхлопной трубы через шланг пошел сладкий дым.
Без названия
1.
– Почему?! Почему? Как все это могло повториться? – мужчина номер 37 был в истерике. Все время пребывания в Цис-лагере он терпел, вел себя тихо и сносно, но теперь, когда его приговорили к «трансплантации терпимости», он не выдержал, – Как мы не видели, то грядет? Об этом нам писали великие! Вспомните Солженицына, Ремарка, Кенилли. Всё сказано, всё написано, но человечество осталось слепо!
В старом кирпично здании, превращенным в барак, находилась пара сотен заключенных. Конкретно в этом помещении – тридцать четыре, ровно столько, сколько могло поместиться. Большинство из их сейчас сидели вокруг Тридцать седьмого, некогда имевшего имя Георг. Мало кто пытался его утешить, ведь все знали, что означает пойти на операцию «трансплантации терпимости». Для Георга это равносильно концу.
– И вот оно, – продолжал тридцать седьмой, – вот он, наш идеальный мир, «мир толерантности и согласия»! Я бы скорее сказал мир, созданный по Оруэлу.
Кто-то кивал, кто-то молча смотрел в пол, думая о своем. Георг покричал еще немного, а затем затих, впавши в глубокую задумчивость. В цис-лагерях нового мира содержались по большей части только один тип людей – белые цисгендерные мужчины. Лагерь Нью-Либервиль был самым большим на континенте и одним из немногих с придаточным лагерем для «предательниц», неугодных женщин. Мужские и женские лагеря разделялись стеной.
В замочной скважине камеры начал поворачиваться ключ. Железная дверь темно-бурого цвета начала со скрипом открываться. При этом от неё отлетали кусочки «краски», обнажая изначальные шесть цветов двери, так ненавистные сидящим здесь узникам. Заключенные, у кого хватало сил, специально ранили себя и замазывали дверь своей кровью. Пестрым смотрителям было на это плевать, они вообще заходили сюда редко. Даже сейчас вместо них пришли другие узники, чтобы убрать парашу. У каждого отсутствовал взгляд, а движения были медленными. Колонна их нескольких трупов забрала то, зачем пришла, и покинула помещение, так же безмолвно и бесшумно, как вошла.
– Вы посмотрите на них, – Шестьсот сорок третий поднял голову, – уже не люди…
– И мы такими когда-нибудь станем, – отвечает ему Кеплер, сорвавший с одежды свой номер, – если не сдадимся раньше.
– Если сдаться, все будет зря, – замечает Тридцать седьмой.
– Думаете им уже того… Ну, сделали операцию, – тут Шестьсот сорок третий осекся, когда пересекся взглядом с Тридцать седьмым.
– Неа, те с улыбками ходят, а эти просто мертвые, – отвечает Кеплер.
Еще двадцать лет назад эти узники могли не понимать друг друга и даже ненавидеть, сейчас же все смешалось: обеспеченность, политические и религиозные взгляды. Здесь они все были угнетателями, по славам угнетаемых смотрителей. Георг был выдающимся биологом, пока на него не написали донос, в котором говорилось, что его исследования принижают значения небелых рас. Биологи уже давно работали в тайне и свои исследования не публиковали. Скорее всего донос написал один из коллег, или даже сестра Тридцать седьмого, в этот вариант он, правда, отказывался верить.
Кеплер держал студию по созданию компьютерных игр, но коэффициент «стандартных» рабочих оказался выше критического значения. В один из налетов Кеплер был задержан.
Подруга детства Шестьсот сорок третьего обвинила его в домогательствах. Как было на самом деле, неизвестно: сам Шестьсот сорок третий никогда не говорил об этом.
За пару часов до рабочей смены дверь снова начала открываться.
– Может, наконец, жратва? – предположил Уилбур, который до сих пор отмалчивался.
На пороге стоял мужчина в цепях. Черный. Все смотрели на него в изумлении. Он вошел и присел рядом с остальными. За ним зашел надзиратель с розовыми волосами:
– Жмурики есть?
– Натаниэль…
– Насрать на имя – номер?
– Двадцать первый.
Тело забрали. Дверь заперли и оставили заключенных в полу тьме, свет сюда не подавали.
– А не ослышался, двадцать первый? – спросил чернокожий, – это значит…
– Один из первых: десять лет, – мрачно закончил за него Георг Тридцать Седьмой.
– Как?
– Он был веселым… по большей части. Вчера на Натаниэля нахлынули воспоминания. Он долго не мог заснуть, а когда заснул, просто не проснулся.
– А ты-то как здесь оказался? Вас же не трогают.
– Нас? – он начал смеяться – Они сказали, что я уже не негр.
– Вот те на…
– Вы понимаете, что это значит? – оживился Тридцать седьмой, – Мятник качнулся!
– Что? Какой маятник? – спросил Кеплер.
– Маятник истории. Система начала пожирать саму себя.
2.
По осенним улицам, присыпанным желтой листвой, шел мужчина в длинном меховом пальто. В руках он держал телефон и листал ленту новостей. « За 9.11.2048 операцию трансплантации терпимости прошли еще 226 человек. Мы еще на один шаг ближе к обществу абсолютного взаимопонимания», – гласила первая статья. Мужчина поморщился: ему приходилось видеть людей, которых оперировали.
Его звали Джеси Смит, он был владельцем металлургического завода, что редкость для белого мужчины в это время. Во время налетов он сам чуть не попал в цис-лагерь. Ему помогло то, что во время расследования (в его время они еще проводились) всплыло, что у него есть фетиши. Сей факт резко изменил отношение к Джеси: теперь он не угнетатель, а сам угнетенный.
Если говорить правду, то фетиш его не определял сам характер Джеси, а просто лежал где-то в глубине его характера. Однако Смит сумел им воспользоваться. Он думал: «Если введут инквизицию – стану епископом, если коммунизм – марксистом. Главное – выжить и преуспеть». Такая позиция отнюдь не редкая.
Джеси тем временем проходил мимо площади. На ней пылал огонь. Обугленные страницы патриархальных книг отлетали одна за друой. Смит остановился. Несколько карателей (он сам так их называл) бросали книги в костер. С каждой зажжённой книгой сердце его надрывалось. Вот тлеет Мартин, вот полыхает Лавкрафт. Подростки водят хороводы вокруг костра, радуясь, что сюда же попал Булгаков, которого теперь не придется изучать в школе.
– Почему я вспоминаю Брэдбери? Он-то сгорел первым, – прошептал Джеси и пошел дальше.
На заводах работали только заключенные лагерей. «В этом их единственная польза и их единственное искупление», – гласила доктрина партии «Интернационал-феминизм». На всех тяжелых производствах и стройках было так же.
На конкретно этом производстве занимались переработкой металла. Сегодня прибыл грузовик с разбитыми бронзовыми памятниками. В плавильных печах уничтожалась история, также как и на улицах, когда сжигались книги. Джеси подошел к конвейеру, на который заключенные скидывали куски металла. Он несколько раз оглянулся, потом взял в руки отколовшуюся голову Уинстона Черчилля.
– Прости, Уинстон, – сказал Смит, однако положил голову обратно на конвейер, на котором она отправилась в печь.
Все это время на него смотрел и улыбался Георг Тридцать Седьмой. Увидав его, Джесси подошел ближе. Он открыл свою сумку и достал оттуда сверток, который тут же передал Георгу.
– Спрячь. Боюсь, это последний раз.
– Что?! Почему?
– А вот почему, – Джеси показал ему небольшой листочек.
– Это…
– Продуктовая карточка, еда теперь только по ним. Во флаге о шести цветах красный начал преобладать.
– Perkele! А что в мире, есть новости?
– Все отношения с востоком (ну, кроме Китая) прервали. Усилили санкции против России.
– Я слышал, русских не притесняют.
– У них свои проблемы с вечным царем. Русских у нас вообще белыми не считают. Еще кстати темпы проведения операций увеличили. Через неделю еще одна плановая волна.
– Меня туда приговорили…
– Вот дерьмо. Что-нибудь придумаем. Удачи и постарайся выжить.
Смит уже два года поддерживал лагерное подполье извне. Как Оскар Шиндлер спасал евреев в прошлом веке, так Джеси помогал заключенным. И хотя ему приходилось скрываться под личиной «война за социальную справедливость», Джеси был совершенно против этих сил.
По пути домой он решил зайти в магазин за продуктами. Там уже была очередь длиной в сто метров. В то время, как он стоял в очереди, вооруженная женщина осматривала её. Она подошла к Джеси.
– Паспорт, гражданин.
Ничего не сказав, Смит достал партийный билет и сунул в лицо проверяющей. Она кивнула и пошла дальше, а Джеси показал ей в спину средний палец.
3.
Дождавшись, когда шаги смотрителя за дверьми стихнут, Георг достал сверток.
– Сегодня у нас… Сушеные овощи! – удивил всех он.
– Ты как это умудрился спрятать при обыске? – Удивился Кеплер.
– Опыт, друг мой, опыт.
Делили поровну. Досталось всем, но совсем немного. Видно было, как тяжело приходилось Уилбуру: толстый, он имел солидный аппетит. Но он держался и старался не показывать. В свое время он раскритиковал радикальных бодипозитившиков, за что получил статус «Иуды» и «худшего из предателей». Здесь он похудел, но не сильно, хотя сидел уже не первый год. Георг предполагал, что это у него от проблем с щитовидкой. Уилбур был одним из многих людей, отличающихся от «типичного белого мужчины», который сидит на зоне, потому что не согласен с радикальными СЖВ движениями. Геев тут было едва ли меньше натуралов.
В Нью-Либервиле давно уже привыкли называть СЖВ фашистами.
–У меня тоже кое что есть, – сказал Шестьсот сорок третий и показал остальным кусок шерстяной материи, которого хватило бы только на то, чтобы закрыть кому-то ноги.
– Отлично, когда начнутся холода, нам это пригодится. Не хотелось бы откинуться зимой.
– В смысле? – Спросил Майк, чернокожий заключенный.
– Отопления-то нет,– Кеплер снизил голос до полушепота, – зимой обычно половина замерзает.
Управлением лагеря это было сделано для того, чтобы в попытках согреться узники прижимались друг другу, что вызывало бы, по их плану, «правильные» мысли. Сами же пленные относились к этому как к простому инструменту выживания. В особо холодные зимы отопление иногда подключали, дабы не уничтожить всю рабочую силу.
– Скажи, Георг, ты правда думаешь, что все скоро измениться?
– Я бы не стал тешить себя надеждой: только хуже будет, – вставил слово Кеплер.
– Может быть и стоит, – возразил Тридцать седьмой, – история всегда представляла собой маятник. Я чувствую, он качнулся.
– Неужто так будет всегда? – Встрепенулся Майк, – неужто всегда мы будем колебаться от одного зла к другому? И никогда не научимся на ошибках прошлого?
– Когда начинается день, редко думаешь о ночи, – заключил Уилбур.
Следующим утром был «парад ненависти», как окрестили его заключенные. Дело состояло в том, что женский лагерь был скорее лагерем реабилитации, целью которого было наставление заблудившихся девушек. Им пропагандировали ненависть к патриархальным угнетателям. На параде девушки должны были вымещать злобу на заключенных. Те, кто это делал, вскоре выходили на свободу, остальные оставались на зоне.
И вот узников построили друг перед другом – женщин напротив мужчин. Кеплер молча, без выражения оглядывал противоположный ряд. Новенькие узницы выглядели еще свежо, но те, кто пробыл в лагере довольно долгое время выглядели ничем не лучше узников мужчин, только одежда была поприличнее. Тут его взгляд остановился, судя по всему, на ветеранке лагеря. Раньше он её здесь не видел, наверное, перевели из другого женского лагеря. Кто знает, сколько их появилось за все это время.
Девушка выглядела усталой и истощенной. Что-то знакомое было в ней для Кеплера. И тут он понял. Он вспомнил, как много лет назад учился вместе с ней, как она рассуждала о патриархате и о том, что «все мужики козлы», с юмором конечно.
Двое они смотрели друг на друга, не отрывая взгляд. «Парад» начался. Узники-мужчины должны были идти, а девушки кидать в них камнями или бить нагайками. Некоторые и кидали. К Астрид, школьной подруге Кеплера подошла надзирательница:
– А ты что стоишь? Это же угнетатели. Веками они притесняли нас и не давали права.
Астрид посмотрела на неё испытывающим взглядом:
–Нет.
–Что значит, нет?
– Нет, они этого не делали. Нас не угнетали уже много лет, потомок не должен отвечать за действия предков. Тем более то, что делаете вы – еще хуже.
–Так, – рассудительно сказала надзирательница, – давай отойдем, юная леди.
Они ушли подальше, туда, где их никто не увидит. Надзирательница усмехнулась… А затем со всех силы ударила Астрид ладонью по лицу. Удар был такой силы, что бедная девушка свалилась на землю. Удар ногой пришелся ей в живот, а под конец её ударили лицом о твердую землю.
– Паскуда, предательница. Ты ничем не лучше их. Погоди, мы и до вас доберемся. Вставай, всем скажешь, что поскользнулась и упала.
Падал первый снег, смешиваясь с кровью на земле. Надзирательница улыбалась ему, возвращаясь к строю. Дома её ждали любимые кот и собака, которых она будет ласково гладить, а так же небольшой садик на балконе.
За нею тащилась избитая, еле сдерживающая слезы узница.
4.
Квартира Джеси была обставлена по-старинному: деревянная мебель, кресло, обитое мягкой тканью, буфет, красивая люстра на потолке. Сильно выделялись заставленные книгами стеллажи. Человек, впервые зашедший в эту квартиру, мог подумать, будто попал в дом дворянина 19-го века. За круглым столом сидели три человека. Они занимались совершенно обычными взрослыми делами: настольными играми.
– Кидай кость д-двадцать,– сказал Джеси.
– Двадцать! Ха-ха!– сидящая напротив него женщина вскинула руки вверх, – критический удар!
– Везучая ты, – прокомментировал это мужчина рядом, – приятно все-таки иногда собраться вживую.
–Да, – протянул Смит, – но у нас есть и дела…
Лица гостей мгновенно стали серьёзными. Каждый из них знал, на какой риск идет, участвуя в подполье, но они не могли по-другому. Все они застали другую эпоху, не идеальную, но и не ужасную, как сейчас. Вера была психологом в женском отделении Нью-Либервиля и могла доносить до заключенных информацию. Райан работал в Литкоме, литературном комитете. Основной его задачей было спасение книг, подлежащих сожжению.
– Тут такое дело, – начал Райан, – скоро будет большой фестиваль, где участники должны представить максимально правильное произведение: стихи там, книги, фильмы и так далее. В это время каратели будут расслаблены, ну, понимаете: веселье, выпивка. Короче, можно будет проворачивать почти любые махинации. Ответим пропагандой на пропаганду. Напечатаем листовки и анонимно распространим.
– Не слишком ли это опасно?
– То, что подполье существует, они уже давно знают. Однако никаких зацепок нет. Тем более, что мы умеем заметать следы.
–Боже, – вдруг заговорила Вера, – до чего мы дожили? Почему все должно было случиться так плохо? Ведь идея-то хорошая: равные права и свободы для всех.
– Все просто, – спокойно отвечал Джеси, – те, кто якобы боролся за равенство, на деле не хотели никакого равенства, они хотели привилегий для себя. Действительно, мы не видели угрозы в представителях ЛГБТ и прочих сообществ, но угроза исходила и не от них, а от тех, кто за ними стоял. От тех, кому нужна была власть и влияние. Не было никакой расовой и половой войн, был только передел влияния. И вот результат – в правительстве каждой страны появляются нужные им люди, власть постепенно переходит руки новым силам. Все это под оберткой из толерантности и извинений.
– Дело говоришь, – Подтвердил Райан, – Надо бы твои слова занести в листовки, но перед этим немного оформить.
– Тут еще одно дело, – прервал его Джеси, – одному нашему человеку из лагеря грозит «трансплантация терпимости». Это надо как-нибудь предотвратить. Ни у кого из вас, господа, нет связей с хирургическим отделением?
– Есть один врач оттуда, – Отвечала Вера, – он не согласен с линией партии «Интернационал-феминизм». Боюсь, я не имею возможности с ним связаться. Но если у тебя, Джеси, будет свободное время, можешь заглянуть к нему, он живет на Роулинг 60. Его зовут Пол Уотерфилд.
Через два дня Смит все же нашел время сходить к хирургу. Когда Джеси отправился в путь, он уже был на взводе: На последнем «параде ненависти» были забиты до смерти пять отличных ребят. Еще парочка умерла прямо на производстве. Тридцать Седьмой с каждым днем был все неспокойнее. Джеси боялся, что у него случится нервный срыв и Георг выдаст всех.
На улицах царила слякоть. На одной улице его взгляду предстала весьма неприятная картина. У подъезда старенького дома стояла группа людей: мужчины и женщины. Их сторожила пара охранников неопределенного гендера с собаками на поводках. «Обыск. Бедняги», – подумал Джеси и хотел уж было идти дальше, если бы не случилось следующее: один мужчина из группы задержанных бросился бежать. На него тут же спустили собак. Мужчина пробежал несколько метров, собаки повалили его на землю прямо у ног Смита, который только-только успел отскочить в сторону. Джеси встал как вкопанный и не мог пошевелиться от ужаса и даже отвести взгляд. Псы немилосердно драли человека. Нос и уши были отгрызены первыми, потом псы вцепились в шею и перегрызли её, оборвав всякую надежду на выживание. Все это время мужчина дико верещал. Собаки, докончив с беднягой, повернулись к Джеси и зарычали, однако охранники быстро их успокоили. Джеси был бледен как труп. Он всегда боялся собак и вида таких увечий.
Смит пошел дальше. Его колотило, единственный раздражитель мог сейчас повергнуть Джеси в безумие. И такой раздражитель нашелся.