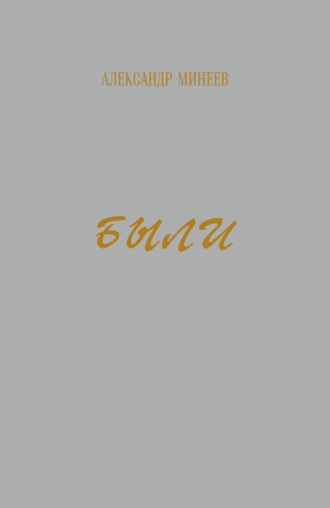
Александр Минеев
Были
© Минеев А.П., 2022
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2022
Про Генку
Первое, что подумалось, едва зазябшие под утро веки открыли взору серый декабрьский свет, вливавшийся в избу сквозь засиженные за многие лета и замутнённые нынешним инеем стёкла: сегодня автолавка. Ну да, четверг, по четвергам – автолавка. К нам приедет, в Косолаповку. Таджик Мехроч, шофёр-продавец, так сказал в прошлый четверг, когда в Авдеевку приезжал. Сказал из кабины, запуская мотор: «Авдеевка нет теперь. Начальство говорил: другой раз – Косолаповка давай поезжай. Там народ больше. Вы давай, – обратился он к стоявшим у подножья кабины двум авдеевцам – Матрёне и Спиридону, – другой раз Косолаповка шагай, туда приезжать буду, начальство сказал. Дорога теперь твёрдый стал – мороз, ехать можно, теперь на Косолаповка поезжай – народ больше там, больше купить будет».
– Мехрочик, миленький, – взмолилась Матрёна, – да как же мы дотуда прошагаем?! Ноги-то уж вовсе никуда стали. Туда, почитай, три версты, обратно – тож. Может, ты за нами заедешь по пути, мы и в кузове, если надо. А, Мехрочушка, родненький?
– Мой не жалко, – Мехроч показал в улыбке много белоснежных зубов, которыми он, должно, ловко кусал баранину и всё, что им попадалось вкусного, – но крюк будет. Начальство бензин считать будет. Скажет: Мехроч крал. А зачем мой бензин крал? Куда бензин крал? Только вылил – нет продал. Кто купить?
– Да мы за бензин заплатим, только заедь за нами, подхвати нас, Мехрочик, родненький! Ноги-то совсем никуда стали! А обратно, если так уж, мы сами как-нибудь.
– Ладно, стой здесь на четверг, жди, мой посмотреть будет, – смилостивился таджик, улыбнулся опять тигром и уехал.
Это правда, нас тут в Косолаповке больше – четверо: Генка с Люськой, Валерий Дормидонтович да я. Так что маркетинг у начальства верный, безупречный, если бы ещё дорога к нам маленько получше была. А так по весне да по осени – не доедешь, увязнешь. Вот в эти поры Спиридону с Матрёной счастье выходит. Прежде-то, прошлый год ещё, Матрёна и летом, и зимой, когда путь для проезда вставал, до нас доходила (Спиридон-то уж лет пять, почитай, только до авдеевского колодца, куда Мехроч подъезжал, кое-как дошагивал – всё Матрёне до избы купленное дотащить в помощь), а этой осенью что-то и она ногами занеможила. Вот потому давче и взмолилась таджику.
Главное, что я наметил на сегодня до приезда автолавки, – начать заготавливать дрова. Примериться, сколько на это будет уходить сил и времени. План был простой: на соседнем дворе стояла изба, точнее, то, что от неё оставило предшествующее время: непокрытый сруб, венцов десять от земли, вернее, от фундамента, выложенного внушительного размера валунами, плотно прилегавшими друг к другу по всему периметру основания. Трудно сказать, кто и когда разобрал крышу и верхние венцы, но, судя по трухлявости самого верхнего из оставшихся, это было давно. Может быть, немцы, бывшие на постое в моей нынешней, уцелевшей избе так же, как и я, приговорили соседний дом на дрова, а может быть – наши, когда наступали здесь, а скорее всего – когда не наступали, а перестаивали зиму, удерживая отвоёванные летом земли. А возможно, и после войны, когда мужиков не было, кроме председателя. И вот этот председатель, прикинув, что от измождённых баб плана не видать, если их ещё ко всему гонять на лесозаготовки, повелел топить домами, куда он не ждал хозяев. Или по своим каналам точно знал, что никто сюда не вернётся. Никогда. Его предшественник из довоенных двадцатых-тридцатых – пособник и подельник высших сил, выморивших здесь едва не каждый второй двор. А может быть, даже эти двое были одним человеком – доверенным, уполномоченным, руководящим. И оттого – бессмертным. Или – вовсе не оттого: просто порода такая.
Так или иначе, но верхний из оставшихся венцов был сильно трухляв в силу долголетней своей неприкрытости от небесных осадков и прочих неведомых нигде в мире климатических и всех остальных условий существования. Не годился венец на протопку. Но зато ценой своей трухлявости уберёг лежавшие под ним брёвна для сожжения. Сожжения в моей печи, точнее – в одной из трёх, имевшихся у меня избе: русской, голландки и буржуйки. Исключительно по моему усмотрению. Дело было за малым: сверзить трухлявые брёвна, затем – те, что под ними, напилить чурбаки по размерам русской, или голландской, или буржуйской топок, поколоть, сложить в поленницу и уверенно зазимовать. Впрочем, кто может быть уверенным перед лицом надвигающейся русской зимы?
Подойдя к срубу, я обнаружил, что начать предстоит с длинных брёвен боковых стен: именно они лежали поверх коротких, венчавших фасадную и заднюю стены после завершения трудов предыдущего пользователя. Точнее, фасадной стены уже почти не было: под верхним – трухлявым – её бревном когда-то, по-видимому, начинались проёмы окон, расчленявшие бревенчатую кладку на отдельные фрагменты – высотой брёвнышек по семь в каждом, которые давно уже обвалились, а скорее всего, были первыми употреблены в печь, поскольку не требовали по своему размеру распилки.
Приставив к сложенному в обло углу принесённую с собой лестницу, я вскарабкался по ней наперевес с прихваченным из сарая ломиком и, оседлав заднюю стену, стал примериваться к дальнейшим действиям. Бодро, в чистосердечном предвкушении скорого окончания высотного этапа работы, я подсунул уплощённый конец лома под верхнее бревно боковой стены в том месте, где в нём топором деревенского мастера некогда был вырублен полукруглый паз – для плотного прилегания к перпендикулярно лежащему бревну задней стены, верхом на которой я удерживал в тот момент равновесие, что есть силы сжимая её ногами. Вслед за этим я принялся задирать свой конец лома вверх, но это не привело ни к чему хорошему: другой конец сумел проникнуть под бревно недостаточно глубоко, чтобы хоть сколько-нибудь приподнять его. Лом просто вдавливался своей боковой поверхностью в прогнившую древесину, извлекая из неё мутную жижу, и вскоре соскакивал с неверного – вдоль волокон – упора на нижнем бревне, также изрядно раскисшем от времени. Несколько моих попыток вогнать лом поглубже ни к чему не привели. Хуже того: когда я, разозлившись не то на бревно, не то на себя, замахнулся посильнее, то едва не потерял равновесие и сам чуть не сверзился со своего рабочего места.
Погибнуть в борьбе за выживание – случай нередкий в истории человечества. Собственно, если хорошенько присмотреться и подумать, последняя в основном и написана такими случаями. Исписана, расписана, записана, миллионы раз переписана и дописана. Но я в тот раз почему-то остро не захотел вписывать свою жизнь в эту бесконечную череду. «В другой раз – пожалуй, но не сейчас», – помнится, подумал я. Чтобы воплотить эту мысль, я слез со стены, примостив гипотенузой на угол мой ломик, и двинулся на зады двора, бывшие некогда огородом. Там, я точно знал, должна быть куча камней – некрупных и мелких валунов, в изобилии оставшихся в здешней почве от ледникового периода и ежегодно, в течение веков, извлекаемых земледельцами на свет божий при вспашке, копке и взрыхлении сельхозугодий. Крупные ушли на фундамент самой первой избы, истлевшей ещё в незапамятные времена. На её месте, на том же основании, была возведена другая, потом, лет двести спустя (сосна в этих местах крепкая, смолистая, изба больше века здесь стоит, прежде чем совсем обветшает), – следующая, потом следующая… Средние – на гнёты для солений, на каменку в баню да на жальники – надгробия, уходящие своим видом во тьму неолита. Ещё помельче – на выкладывание межей. И всё равно оставались неоприходованные камушки – каждый год из земли как грибы вырастали. Тех – в кучу, впрок, на всякий хозяйственный случай – горкой или горушкой звали. А куда их ещё?
Помню, я отыскал горушку быстро. Камни в ней были опутаны корнями трав, в изобилии проросшими в средостениях, наполнившихся принесённой ветром землёй. Даже небольшая берёзка сумела здесь приладиться и подрасти до человеческого роста.
План мой был незамысловат: найти камень, величиной и формой схожий с половинкой кирпича, с тем чтобы, положив его перед собой на бревно, использовать как точку опоры для лома: не задирать свой конец, а наоборот – давить на него. Учись я в шестом классе, я сказал бы, что хочу превратить мой лом из рычага второго рода в рычаг первого. Но я с той поры успел изрядно подзабыть столь мудрёные слова. Несмотря на это, мне довольно быстро удалось найти пару подходящих камней – один даже был слегка вогнут и обещал плотнее прилечь к округлости бревна, зато другой был повыше и потому мог бы дать больший ход концам лома-рычага, если вдруг понадобится. С добычей в обеих руках я отправился назад, с лёгким треском ломая на своём пути высохшие, а теперь ещё и замёрзшие трубчатые стебли крапивы.
Возле приставленной к стене лестницы меня поджидал Генка.
– Здорóво, сосед! А то я в дом – чую: ни души. Думаю: куда? где делся? По следам понял: иней ты на траве стоптал – стёжка вышла, ага, себе думаю. Прошёл – опять нету. Куда? Осмотрелся, гляжу – ты на задах ковыряешься что-то, согнулся аж. Не, думаю, мешать не буду – здесь подожду, ан вот и ты – камни тащишь. Чего? Камнити чего? На кой они тебе? Да ещё два целых! У тебя на усадьбе, чай, таких тоже лежит сколько не хочу.
Я выпустил камень из правой руки и протянул её Генке. Он не подал в ответ свою, а указал подбородком на валунчик в моей левой и с нарочитой строгостью приказал:
– Этот тоже брось, старики не велели этак здороваться!
Я выронил и второй камень, мы поручкались.
– Так чего? Выкладывай, – продолжил беседу Генка. – Камни-ти чего?
Я объяснил, не преминув употребить всплывшие-таки из глубин школьной памяти соображения о превосходстве рычага первого рода над вторым.
– А я помню! – обрадовался Генка. – Физичка нам про это втюхивала: качели, дескать, детские – это первого рода. А какие-такие у нас качели? Для мелюзги? Таких сроду не было, это у вас в городе. А у нас на верёвках доска была – такие были. Раскачаешься, бывало, выше перекладины так, что верёвки провисать на взлёте начинают, – страшно, а ты давай ещё! Вот Андрюха, Витькин братан, так себе башку и сломил! Да, было дело: по пьяни поспорил, что мёртвую петлю сотворит – полный оборот, мол, сделает. Ну до верхней точки докачал, а там башкой вниз в аккурат на перекладину колá и дал. Рухнул, значит. Физичка потом говорила: центробежной силы не хватило. Так ты, значит, точку опоры притащил? Она нам про Архимеда тоже толковала: вы мне, говорит, дайте только точку опоры, на что рычаг опереть, тут я весь белый свет вверх тормашками и перекувыркну. А ты, значит, бревно таким манером сковырнуть хочешь? Ничего у тебя, Алексей Божий человек, не выйдет!
– Это почему? – я постарался обозначить иронической интонацией максимум доступного мне и неведомого Генке знания.
– А потому! Ты и збу-то сам клал когда, Рычаг Второго Рода?
Кстати, странно сказать, но мне однажды в молодости довелось собирать разобранный по брёвнышку где-то под Талдомом и перевезённый на наш дачный участок деревенский дом. Когда до дождей успели подвести под крышу, помню, зарёкся: в жизни больше на километр не подойду к такому делу. Но перед Генкой мне, как Почти-Архимеду негоже было входить в мелкие подробности своей биографии, и потому я ответствовал на его бестактный выпад максимально респектабельно:
– Ну?
– Баранки гну! – снова нагрубил мне этот деревенский. – Ты выборку повдоль бревна, когда вырубишь, что, прям так его и ложишь на поднижнее?
Странно опять было, но я понял, что он такое говорит, из памяти всплыла нужная для, казалось мне, правильного ответа на этот каверзный вопрос картина. Чтобы наверняка получить пятёрку, я воспользовался сложившейся в нашем диалоге лексикой:
– Не прям, а перьва паклю на поднижнее ложишь, а уж опо́сле.
– Паклю! – передразнил Генка. – Эх вы, фраера городские! Моха надо! Паклю это в Сочи ложи, там и зимой курорт – всё тает, а у нас тут тепла – раз-два и нету: паклей не удержишь – только мохом, с наших чтобы болот обязательно! Короче, опять двойка, ну ладно, так и быть – три с вожжой, с длиннющей такой, во всю оглоблю. Но не в том дело, – тут он взял многозначительную паузу, в ходе которой строго, по-учительски осмотрел меня с ног до головы, нагнетая необходимую для следующего вопроса атмосферу. Наконец он не то чтобы спросил, а больше продиктовал:
– Перьва примерить, как прилегает: плохо где – давай перворачивай назад, да там выбирай ещё – лучше теслóм – аккуратней выйдет, чем топором-то. Но не в том дело, – он опять примолк.
Качалов, я чувствовал, на небесах исходил завистью к Генке. Молчал и я – чай, не хуже этих двоих буду, если постараюсь. Первым из нас троих не выдержал всё же Генка:
– А вот уж когда приложится как полагается, ровнёхонько по всей по длине, тут опять перверни и под нагеля дыры делай коловоротом. Нагель знаешь? Ну шип такой деревянный, брёвна меж собой в высоту скрепляет. Нагель – это по-немецки, а по-нашему – шип. Или ещё – штырь можно. Забьёшь их в поднижнее, вот тут только мохом его и покроешь, а уж потом верхнее дырками на нагеля и насадишь. Вот такую-то избушку уж не развалишь, только спалить и можно, – Генка радостно засмеялся. – Всё, что ль, понял, Архимед?
Да, я вспомнил: нагели – их по два, по три в каждом бревне, в каждом продольном сочленении скрыто сантиметров по десять-пятнадцать и в нижнее, и в верхнее уходят. На столько я своим ломом вряд ли бревно приподниму – ведь по всей длине придётся, чтобы расцепить его с «поднижним»: нагели через полтора-два метра друг от друга вбиты. Даже если с одного конца удастся, на другом – только крепче заклинит.
Это, в частности, означало, что без Генкиной подмоги мне не обойтись. Похоже, и он пришёл к этому заключению – и гораздо прежде моего.
– Короче, сейчас – перекур, как раз в автолавке отоваримся, а после я к тебе прихожу, мы тебе дрова заготавливаем, баню берём. Закуска твоя, за мной – всё остальное. А то у меня к тебе вопрос один философский накопился, дозрел до тебя, по-другому сказать. Никак я его в одиночестве не порешаю. Ночью не сплю, даже Люську иной раз в бок толкну, чтобы совместным мозговым штурмом. Одна голова, сам знаешь, хорошо, а полторы всё ж маненечко получше будет. Да только она не желает к этому подключаться, жалко ей своей полголовы, даже четвертинку жалеет: глаза откроет, поймёт, что я опять по другому делу, обматерит меня да на другой бок – дальше храпеть. Так договорились?
Что было делать? Генка был философом и любил попариться. К тому же что-что, а руки у него росли из правильного места. Я согласился.
Мехроч прибыл почти вовремя. Матрёна была с ним. Охая, вылезла из кабины, поздоровалась с ожидавшим их в полном личном составе косолаповским населением и спросила, кто крайний будет.
– Да ладно тебе, тёть Матрён, – сказала Люська, – становись вон первой: ты ж как-никак первей всех сёдни к магазину подошла, – она кивком головы указала на Мехроча, весело распахивавшего в этот момент задние створки фургона.
– Ой, дай Бог ему здоровья, и детушкам его, и жёнушкам всем. Кабы не он, плюхать мне шесть вёрст по колким глинам – вон как враз прихватило, грязь-то застекленела прям, заострилась по комкам-то. Чисто битые горшки. Три версты сюда, считай, по черепкам – да хуже! – да обратно то ж, а ноги-ти прям никуда стали. Ох, старость не радость, молодая была – не понимала, дурья башка, не слышала, что старики говорят.
– А что, дядя Спиридон не с тобой? – Люська строго следовала этикету.
– Да куды ему? Он и в кабину-то не влезет, не то что в кузов. Пусть уж дома побудет, печку потопит да ноги у неё погреет-полечит. Фелшер сказывал, в тепле надо держать, тепло – первое дело при такой хвори, сказывал.
– А что, фелшер к вам приезжал?
– Да вот приезжал как-то, года два или три тому, я уж позабыла.
– А что ж эта нечистая сила тебе в Авдеевке товар не отпустила? – Люська вновь кивнула в сторону Мехроча, который раскладывал немудрёный ассортимент на полу кузова. – Раз уж всё равно заехал, так и продал бы, что вам надо. Что за край такой пожилую женщину по ухабам трясти?
– Дак он хоте-ел, Мехрочушка наш, предлагал, да только я не согласилась: если назад, говорю, из Косолаповки вернёшь меня, дак я лучше прокачусь: всё белый свет повидаю, вас вот навещу, посмотрю на вас, поговорю. Моему, Спиридону-то, опять же расскажу, как тут у вас было. Всё ему повеселее будет.
– Спиридону Тимофеевичу поклон от меня, – вступил в разговор Валерий Дормидонтович, стоявший до этого несколько поодаль. – Здоровья чтоб!
– Да какое уж! – Матрёна махнула рукой. – Только на телевизор и осталось. Сидит да смотрит днями. Днями! Все зенки просмотрел уж, а только и слыхать: «Шантрапа!» Редкостно когда скажет. Так всё молча. Только это и слыхать да «Тьфу!» ещё. Я уж его Христом Богом прошу поругаться, что ль, как он, люди сказывали, умел, когда работал на ответственной. Я, мол, подслушивать не буду, выйду на это время во двор, вредно ведь не ругаясь переживать, я по телевизору слыхала. Так никоим делом в согласье это моё не берёт: только «Тьфу!» да «Шантрапа!» Да так он эту шантрапу выговаривает сердцем, что ли, сказать, особенно «па» криком у него выходит, что страх порой берёт. А то и закашляется, бывает, после «па» этого. Поругайся, прошу, хоть самым срамным словом, не держи в себе! Дак ни в какую! А поклон передам, благодарствуйте! Представленье у меня такое, что доволен он будет.
– Спиридон Тимофеевич – руководитель старой школы! Крепкой закваски! Крепче не было! Под ним работать – это было да! – Валерий Дормидонтович опять отдалился шагов на пять.
Мехроч тем временем разложил товар и пригласительно замахал руками, оскалившись в тигриной улыбке:
– Подходим, старый заказ берём, новый заказываем, что ещё надо сверх заказа – всё тут лежит – выбирай, докупай на ещё больше, кому что надо.
Все впятером мы подошли к фургону. Генка успел сказать:
– Я вот тоже телевизор не вполне одобряю, но от него всё ж коммуникация идёт. Какая-никакая, а коммуникация. Я вот иногда прямо чую её – коммуникацию эту!
Матрёна украдкой тихонечко осенилась.
– А держать в себе – это я согласен: вред один. Верно я говорю, чёрт нерусский? – Генка приветливо поглядел на ещё пуще просиявшего при этих словах Мехроча.
– Твой, Гена, всегда верно говорит! Бери товар – жена заказывай дальше на четверг. Мой приедет – привезёт. Опять верно чего скажешь. Ещё больше верно говорить будешь. Зачем в себе держать? Говорить надо! Мой так думать.
– Ты лучше скажи, – продолжал Генка, – твои хозява клюкву брать будут этот год? А то засыпет её. А сейчас-то самые дни: болото встало, схватило его, а снега пока нет. Бери метлу и мети все двенадцать га по пять тонн с кажного, – Генка ржанул. – Да, вот такое у нас болото! Я в интернете прочитал – областного значения. Памятник природы! Тот год твои брали. А в этом? И почём?
– Клюква зачем? Кислый он сильно, – Мехроч поморщился, не переставая скалиться своей зверской улыбкой, – изюм давай, урюк давай, брать буду. Клюква – не-э.
– Тебя не спросили, – Генка даже осерчал малость голосом, – ты у хозяев узнай, Урюк нерусский!
– Мой узнает, Гена, – Мехроч сменил тигриную улыбку на примирительную, – тебе говорить будет. Хозяин скажет клюква – Мехроч клюква будет брать. Твой жена на метла сядет, на болото поедет, клюква соберёт. Гена клюкву сдаст – себе держать не будет. Хозяин деньга Гене даст, клюква возьмёт, Мехроч в город повезёт другим продаст – себе тоже держать не будет. Никто сердиться не будет.
– Я тебе что, Баба-яга какая – на метле по болоту разъезжать? – Люська казалась возмущённой. – Ишь, нашёл ведьму, шишига!
– Люсенька, это он не нарочно так, это он так по-русски говорит – не родной ведь ему, не серчай на него, он хороший, – на всякий случай вступилась за Мехроча Матрёна, – ему ведь ещё обратно ехать.
– А что? Ты и на метле смогёшь, если чё, – не без гордости в голосе за супругу молвил Генка и опять коротко ржанул.
– При советской власти в иные года не по пять, а по шесть центнéров с га заготовляли, – вставил Валерий Дормидонтович, – даже по семь. А бывало и по восемь. Это на круг. А с иных гектаров до двенадцати доходило. Всё от руководства зависело.
– Чего-о?! – развернулся к нему Генка. Похоже было, что он, не откладывая ни секунды, намерен изобличить завзятого мемуариста Дормидонтыча в самой беспардонной фальсификации исторических фактов.
– Чего-чего, – с достоинством огрызнулся тот, – зерновых! По целых восемь центнéров собирали в хорошие годы!
– Я ему про клюкву, а он мне про ячмень! И не пять, а пятьдесят центнеров, глухомань! Это тик в тик пять тонн, как я и сказал, если ты таблицу умножения не проболел, троечник! «Пять центнéров»! Ячменя да ржи, конечно, у вас больше не вырастало. Вот вы Россию голодом и заморили, считай, урожаями своими. Доруководились, двоечники!
– Посмотрим, что у вас получится, пока – клюква одна. Вот именно! – по-прежнему со сдержанным достоинством отвечал Валерий Дормидонтович, правда, уже почему-то не Генке, а повернувшись в мою сторону.
Я не стал поддерживать завязавшийся было диалог, благо пора было разбирать продуктовые пайки и заказывать новые.
Уже когда, усадив Матрёну, Мехроч сам забрался в кабину и приготовился завести мотор, Генка подскочил к машине, приоткрыл водительскую дверцу и зачем-то что есть мочи громко проорал:
– Про клюкву не забудь спросить, Урюк! – и почти ласково и гораздо тише добавил: – Чёрт нерусский!
– Мой никогда не забывать, Шайтан русский! – Мехроч ослепительно улыбнулся, захлопнул дверцу и, опустив наполовину стекло, сказал из-за него, по-прежнему улыбаясь: – Кяфир!
После чего аккуратно тронул фургон с места.
Генка вытягивал меня веником вдоль всего тела, время от времени подбрасывая водички на раскалённую каменку, и приговаривал:
– Терпи, хорошо ведь – нет? Лучше-то чего ещё есть? С бабой разве. Да и то: как посмотреть. Ну ещё под хорошую закусочку проглотить, ну это мы счас сотворим – я рыжиков прихватил. Люська посолила – в аккурат пять недель под гнётом в кадушке отстояли. Старики учили: семь надо – как Великий пост, почему, не пойму, но у нас рецепт свой, семейный: пять – и точка. А вот грузди – те действительно семь, да и гнёты потяжелее. Груздь потвёрже – выдержит, не сплющится, а сок лучше даст. Она у меня солит знатно, не отнимешь. Любит насолить. Нынешнего урожая. Сам собирал. Как к озеру идти, с левой руки – ельничек. Вот там, – он с силой вытянул меня последний раз, крякнул, как от огромного удовольствия, и положил веник в шайку. – Пойдём маленько передохнём, а потом уж ты меня.
– Не, это я соврал, насчёт парилки, что лучше нет. Лучше-то всего знашь чего? – продолжил Генка, когда мы, усевшись на вытесанную из дубового комля лавку в предбаннике, выпили по рюмке духовитого первача. – Лучше всего – эт с умным человеком пробеседовать. Сильно мне этого не хватало. А тут ты и нарисовался в нашей местности. Че-ег-о-о вдру-уг? – он постарался усилить риторику вопроса растяжкой гласных. – Не спрашиваю. Не лезу. Лезть – последнее дело. А только положительно это для меня вышло. И спасибо, что так. Спаси Бог, то есть. Ещё по одной? Между первой и второй перерывчик небольшой – старики учили.
Рыжики действительно были отменными – сохранившими свой неповторимый природный дух, поселяющийся к концу лета в приозёрных ельничках, да и то далеко не во всех: а только в тех, где растут рыжики.
– Хотел бы приступить к дальнейшему – более сложному – с простого. (Я почувствовал, что эта фраза Генкой долго оттачивалась, может быть, даже репетировалась вслух.) Слушаешь? Вот гляди, мы счас с тобой вдвоём избу разваливали, потому как одному – никак. Не говоря уж чтоб класть. Да и пилили двуручкой. Только что поколоть один и может. А так остальное многое – никакой силой же. А к примеру, если мужик один в хозяйстве? Или даже с бабой да с детишками? Вот, где из камня или кирпича домá, вполне можно по одному. Вон Наф-Наф – да, так, что ль, его звали? – в единственном числе от волкá дом нафигачил из кирпичей – и нормально. О волках мы ещё потолкуем, а ты мне пока скажи: что же это – в нашей деревянной местности по одному не выжить, что ли? Никак? Общиной только? Только с соседями коллективизм разводить? А иначе подохнешь в нашей климатической полосе? Или замерзнешь, или тебя раньше волк схарчит, как тех двух братанов чуть было? Спасибо старшенькому – предусмотрел.
В ожидании моего ответа Генка разлил первача.
Мне, помню, остро захотелось не откладывая пропустить по третьей, прежде чем начать говорить на заданную Генкой тему – уж очень она была волнительной. Мы так и сделали. Сосредоточенно ощущая во рту восхитительное сивушно-рыжиковое послевкусие, я приступил издалека.
– Ты, я вижу, только мультик смотрел про поросят, а саму сказку не читал. Болел, что ли, когда её по внеклассному задавали?
– Эт почему ж? А мы её по внекласске не проходили. Но я читал! А мультик, конечно: кто ж его не смотрел? Михалкова все смотрели, он и дядю Стёпу тоже… – Генка отступал, беспорядочно отстреливаясь. Но боезапасы его эрудиции, похоже, быстро иссякали. – А почему ты решил?
– А потому, что ты сказал «из кирпичей», а в сказке – из камней. Это в мультике у Диснея старший поросёнок строит дом из кирпичей, на цементном растворе, и зовут его, между прочим, там не Наф-Наф, а по-другому – забыл сейчас. Но дело не в том, – процитировал я Генку, – дело в том, что тут у вас камней – вон сколько, сам знаешь, фундаменты вон, все из валунов на метр-два от земли, а дома-то из брёвен. Почему? Выкладывай, казалось бы, и дальше камнями – во всю высоту: не изба – зáмок: и от волка, и от стужи. Так нет – сруб. Почему?
Генка затих и попытался разлить по четвёртой, но я решительно пресёк это поползновение и настоятельно предложил прежде пропариться, подумать по ходу, а уж потом продолжить обсуждение. Мы так и сделали.
В течение всего сеанса, когда я хлестал распластанного на полкé Генку, тот не издал ни звука – ни разу не скорректировал мои удары веником, не крякнул от удовольствия, не взвыл от счастья. Когда же я, притомившись, с полувопросительной интонацией произнёс «хорош?», он так же молча, как лежал, слез с полкá, взял в руки полную шайку и через предбанник отправился на улицу. Сквозь проём растворённой после Генкиного выхода двери я увидел, как он опрокинул воду из шайки себе на голову, но и тут не крякнул и не взвыл, а только, постояв несколько секунд с опущенной в руке опорожнённой шайкой на ночном морозе, отрывисто приказал:
– Давай ещё!
Я подхватил одно из запасённых на такой случай наполненных вёдер и мужественно шагнул за порог.
– Лей на голову, – отрывистей прежнего скомандовал Генка, – мысль пробуждает.
Я постарался помочь ему пробудить мысль. Позже оказалось – что не одну, но в тот момент мыслей у Генки, похоже, ещё не накопилось, зато желание было ярко выражено:
– Ещё давай, – сдавленно, но, по видимости, в ясном уме и твёрдой памяти попросил он, и я не преминул исполнить его просьбу.
После третьего ведра он стремглав исчез за дверью парилки, откуда вскоре стало доноситься его мерное урчание, выражавшее, как мне показалось, глубоко прочувствованную радость бытия. Минут через пять Генка появился в предбаннике, завернулся в простыню и вот тут уж разлил по четвёртой.
– У меня тост созрел! – объявил он, привстав со скамьи с наполненной рюмкой в правой руке. – Вот, ты знаешь, я тут пасеку держу. Поначалу, как я это дело осваивать начал, всё приглядывался к ним, к пчёлам, значит, и так, я тебе скажу, удивлялся – ну просто невмоготу. Как у них всё устроено! Как часы! Вот разведчица вылетит из летка – остальные ждут: никуда ни одна. Ждут! Вот дождались: прилетела, ага. И ну танцевать, сообщать им танцем, куда лететь, да далеко ли, да много ли там добычи будет. Они, остальные, вроде как поймут всё, посовещаются маненько – оперативно так, да и всей командой туда, урожай собирать, значит. Пока у меня один улей был, я это всё наблюдал и знай только восхищался себе. А вот когда уж у меня их много завелось, тут я задумываться стал: а что, думаю, если две или поболе даже того разведчицы с разных ульев одно и то же место разнюхают, да каждая про это в своём улье доложит, что же, думаю, они всем личным составом со всей, считай, пасеки туда все и отправятся? На одну делянку? А если она маловата для всех-то окажется? Там же толчея возникнет. Так у них и до драки может дойти. Но ведь такого за ними не замечено. В драке-то они замечены не были. Пчёлы-ти. Иначе написали бы об этом в книгах, а нет – ни разу, иначе бы я прочитал, я ведь, считай, все самые главные книги о пчеловодстве этом прочитал. Получается что? А то, что они прежде того, как массовый вылет за добычей совершать, вопрос этот меж ульями как-то согласуют. А как? Только телепатически получается, потому как во взаимных визитах промеж ульев не замечены. Но дальше-то ещё интереснее… – Генка широко повёл рукой с рюмкой и чуть приподнял левую.
– Ген, может, мы сейчас – за телепатию, а уж следующую – за вторую серию, а то, я чувствую, тост у тебя многоплановый, с глубинцой. Давай, может, пока за первый план, а уж по ходу будем добавлять, – я старался выглядеть неподдельно заинтересованным в полноте раскрытия всех слоёв и самых потаённых смысловых уголков грядущего тоста, увертюра к которому только что отзвучала в предбаннике.
Но Генка категорически отказался прерываться:
– У меня планов этих ещё знаешь, сколько припасено? Если по отдельности за них будем втаскивать, никакого здоровья не хватит, – он слегка помотал головой и как-то невесело, мне показалось, усмехнулся. – Ну, короче, слушай дальше, – он вновь держал наполненную первачом рюмку неподалёку ото рта. – Самое интересное, что в Драчёвке – напрямки через болото вёрст пять не больше, а по дороге в объезд – тут, конечно, все десять, а то и двенадцать, только пчёлам зачем дорога? – тоже пасека имеется. Больше моей, он – Иван, хозяинат, как-то лихо расширился за год-два, договора с областью на мёд позаключал, да ещё на воск – с епархией. Я ему оптом помаленьку продукцию сдаю, мне хватает. А чего? У него всё схвачено, а мне по баночкам фасовать дороже выйдет. Но дело не в том, а главное, что мои с евойными в драке тоже не замечены. Это как? По разные стороны одного болота – им бы самый раз там разведку вести с двух концов, да и добывать после – там у нас разноцветье в лето знаешь какое? Нектару этого самого для пчёл невпроворот. Им бы там по-людски самый сарафан толковище учинить. Ан нет, не замечены мои с Ивановыми на однем и тем болоте. Вот ведь как интересно. Это что ж значит: телепатия у них через болото идёт? За пять вёрст? Это если напрямки. А как если по дороге, в объезд? Это уже десять-двенадцать выходит, вёрст – я имею в виду. Этого ведь тоже полностью исключить нельзя.


