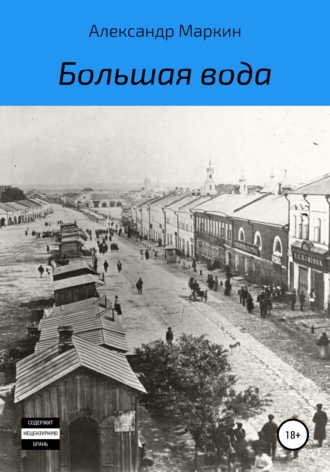
Александр Маркин Вадимович
Большая вода
Взгляд скользнул о выдвинутый напрочь ящичек гамбсовского бюро. Степан Матвеевич заметил, как кухарка неприятно изменилась в лице. Она посмотрела на него теперь насторожено.
«А что вы здесь делаете, в кабинете-то? Как будто ищите что-то?»
«Да, знаете, дело одно есть, кое-что попросили найти…»
Степан Матвеевич нагнулся за ящиком, поставленным до этого на пол, с мыслью прибрать его и, возможно, выйти сухим из воды, но тут что-то тяжёлое брякнуло о паркет. Это был его револьвер.
Семёновна, баба лет 50-ти, полноватая, при виде револьвера рядом с собой закричала своим инфантильным комедийным голосом.
«Надо решаться», – быстро смекнул Степан Матвеевич, подобрал револьвер и наставил его на кухарку.
Оторопевшая, застигнутая врасплох Семениха встала как вкопанная, до конца не понимая, что происходит, она сверлила взглядом сжатый в руке наган.
***
Бальтазар сделал круг по первому этажу барского дома, внимательно вслушиваясь в каждый звук, в ожидании, что вот-вот кто-то выйдет из комнат, но они были либо заперты, либо приоткрыты до такой степени, что отсутствие жизни в них было совершенно наглядно.
Его непрочные ботинки быстро намокли во дворе, где воды было уже более, чем по щиколотку.
Он заметил, как они оставляют следы на полу и вместе с тем увидел, что рядом были и другие следы от большеногих мужских сапог.
Бальтазар поднялся по лестнице, ветер играл раскрытым настежь окном, которое с неприятным звуком ударялось о раму. Он закрыл окно и стал прислушиваться.
Он услышал только биение своего сердца. Двери в гостиную были открыты. В ней никого не оказалось, но всё более отчетливыми были голоса за стеной. Один сипловатый прокуренный бас и тонкий женский голос, но уже немолодой. Мгновение погодя, что-то с тяжестью брякнуло о паркет. Бальтазар не знал, что скрывает эта стена, но знал, что Карасёвых ещё в доме нет.
«Добро пожаловать, господин полоумное имя, фигляр и никчёмный работник. Должно быть, дочку купеческую пришли спасти от ненастья, а может, и ещё чего… а?»
«Стой, дура старая, на месте. А ты, недоношенный, – он перевёл пистолет на Бальтазара, – лапки подымай вверх, только со всею аккуратностью подымай!»
Бальтазар смотрел на представшую пред ним сцену с глубоким равнодушием. Ничего в нём не дрогнуло, ни мускул, ни сердце, ни рука. Он видел это так, как будто с ним это случалось уже тысячу раз, кто-то тысячу раз подряд наводил на него оружие и стрелял в него, и он умирал и всё заново.
«Ну, чего такое, что застыл, милейший? Или прибить тебя прямо здесь?!»
Осанисто, не колеблясь, держа руки там, где держал, Бальтазар прошёлся по кабинету из одного угла в другой, находясь под прицелом, совершенно забывшего о кухарке, приказчика. Теперь он встал между ними, прикрывая обомлевшую от последних событий Семёновну.
Послышались шаги на лестнице, ноги, топая, быстро шли, кто-то явно спешил и чуть ли не перепрыгивал со ступеньки на ступеньку. Ему показалось, что это не один человек, и сейчас сюда ворвутся. Резкая и тупая боль в голове помешала дальнейшим мыслям, потемнело в глазах перед тем, как всё провалилось в тёмный призрачный лабиринт.
***
Никогда прежде на церковной службе она не чувствовала такого полёта души, такого спокойствия и умиротворения. Обычно через половину часа как-то сильно томило, было скучно, а запахи ладана и горячего воска словно душили её. Сегодня утром, когда читали Царские Часы, было совсем не так. Что-то восторженно прекрасное, милое сердцу было здесь и сейчас.
Ближе к моменту, когда по ходу богослужения совершается вынос плащаницы, на душе у барышни стали появляться червоточенки.
Сквозь пение церковного хора, где-то рядом с собственной молитвой, было натужное чувство тревоги. Она перестала следить за происходящим, отвлекалась и думала о своём. Дарья вспомнила слова нищего на паперти, и после этого они не выходили из её головы.
Минуту-другую погодя она вылетела из церкви с желанием найти этого человека. Собравшийся там с утра народ сильно поредел, видимо отправились к другому приходу. Нищего, который был ей нужен, среди них не было.
Вернувшись во внутрь и встретив недоумевающий взгляд своего провожатого, она оставила ещё один рубль в церковной лавке и взяла три свечи: одну из них она зажгла и поставила в канун, другую перед богородицей, а с третьей мерным и медлительным шагом, боясь её потушить, вышла наружу.
Спохватившись, конюх вышел за ней. Дождя на улице не было, ветер совсем стих, и Дарья мысленно молила Бога за это.
Свеча в руке, с таким старанием и вниманием укрываемая от ветра, удивила Игната, её озабоченное, по-детски милое лицо, тревога и грусть в нежном и кротком взгляде заставили его не задавать вопросов. Он помог забраться барышне в лодку и отплыть в направлении дома.
Проплыв несколько десятков метров они заметили, что серое низкое небо перестало быть таким. За часы, проведенные ими в храме, оно расслоилось и теперь состояло из отдельных темно-синих туч, пунцовых, налитых, созревших и готовых упасть на землю.
Сквозь них, как маленькие ростки зелени, пробивающиеся между камней брусчатки, появлялись лучи солнца.
Вода стремительно прибывала, вымывала вещи из открытых подвалов на улицу и уже хозяйничала на первых этажах домов. Жителей, сидевших на крышах, стало больше в разы. Они смотрели на проплывавших мимо. Завидев хорошо знакомую им купеческую дочь, одной рукой держащей свечу, а другой – заботливо укрывающей её от ветра, словно драгоценность, они ломили шапки и крестились.
***
Открыв глаза, Бальтазар почувствовал тупую боль, от которой изнывала его голова. Сейчас он лежал на полу, в помещении, больше походившем на подвал, в этом месте он ни разу не был, оно было ему незнакомо. Его руки за спиной были чем-то связаны, и от этого сильно тянуло и резало запястья. Пол был мокрым, и, по сути, половина его головы и туловища находились в воде так, что если он переворачивался и лежал на боку, то одно или другое ухо оказывалось полностью в воде, которая, попадая внутрь, частично его оглушала, как при купании.
Две пары ног, а может быть три, были в ближайшем его обозрении, он видел грубые сапоги и модные высокие ботинки, и еще, кажется, сапоги.
Потихоньку он начал разбирать слова, которые доносились до него по началу с искажением.
«Господа хорошие, судари мои ненаглядные, я же вам говорил, где меня надо дожидаться! Вы не скажете, какой ебёна матери вы потащились сюда за мной? А? Хорошо, тогда я вам расскажу! Вы, сукины дети, побоялись, что я надую вас и вместе с купеческими деньгами сбегу! Не правда ли?»
«Степан Матвеевич, давайте не будем такие эмоции отпускать друг-другу, просто мы решили зайти, узнать, как у вас дела обстоят».
«Это хорошо, что вы так решили, а если бы здесь была полна горница людей? Это на вашу удачу (и мою вместе с вами) дома только эта курица и вот этот малахольный, а если бы и хозяева были, и вся прислуга?»
«Предлагаю не кричать так сильно, нас могут услышать из соседнего дома, надо убираться отсюда, пока не поздно. На наше счастье эта горничная, кажется, Анфиса, сказала правду. Не знаю как вы, но я прямо-таки обомлел, когда из этого ящика потайного деньги пачками посыпались, а мы ведь думали, что до приезда Карасёвых их там не будет».
«Ладно, чёрт с вами, могли всё запороть, но вышло, как вышло. Выходить из дома будем все вместе, оружие прячем, слов лишних не говорим. Со всеми, кто нам встретится на пути, если встретится, разговариваю я. Говорю, что покаяться к хозяевам пришёл за отсутствие, а их ещё нет, с собой привел работников новых на сезонку. Только кто-то тут вырядился, как князь Юсупов на прогулке в собственном саду… могут не поверить».
«Я вырядился как обычно, в планах не имел батрака из себя изображать, так что, увольте».
«Так, ладно, а с этим-то что делать? Кухарка эта наверху осталась, греха на душу не возьму, решать её не стану, рука не подымается. А вот этот – другое дело, он всё про нас знает, всю подноготную».
«Да, это действительно так, у меня был с ним намедни разговор, хотел по-хорошему договориться, но человек упрямым оказался, то ли герой, то ли кто-ещё?! Может, просто дурак…»
«Да хватит уже усы свои крутить! Монсиньёр, маркграф. Так и есть, этого решать надо первым делом. Только как? Может, вы, светлейший князь, это сделаете», – с ехидцей посмотрел на франтика Степан Матвеевич.
«Я? Почему именно я?»
«А кто? Может, вы, Константин?»
«Господа, умерьте пыл, стрелять в него опасно для нас самих, выстрел могут услышать, шум, гам и прочее. Резать его ножом, как свинью – много крови и как-то не с под руки, что ли. Не мясники же мы всё-таки? Лично у меня сильно промокли ноги. Обратите внимание, как вновь благоволит нам судьба, воды в подвале всё больше и больше, через полчаса, а может быть час, она полностью его затопит. Нужно ли нам в таком случае что-то предпринимать самим?!»
«Хитро придумано, етить вашу мать! А правда, – заулыбался приказчик, – пусть поплавает, авось не намокнет рыбка наша, не простудится мил человек, – в конец развеселился Степан Матвеевич.
«Ну, а теперь на выход, господа, медлить не стоит. Степан Матвеевич, вы идёте первым, мы следом».
«Повинуюсь вам, цари мои небесные! Иду первый, а у вас рот на замке».
Бальтазар услышал, как шлёпают ноги по воде, звуки становились всё более отдалёнными и наконец исчезли.
Он остался один, запястья всё так же резала бечевка, которой они его связали. Голова гудела, всё шумело в ней и казалось, что из неё сочится кровь. Они заткнули ему рот куском какой-то тряпки, найденной впопыхах, от того во рту царил мерзкий прелый вкус. Сейчас он попробует её выплюнуть и крикнуть о помощи.
Для этого юноша попытался привстать без помощи рук. Теперь он видел этот подвал полностью: темный каменный мешок, метров двадцать или тридцать в длину и в половину уже по ширине. С потолка на большом расстоянии свисали металлические кольца, сделанные для того, чтобы уберечь продукты от крыс и мышей. Кольца были пустыми. Да и крысы, почуяв опасность, совершили побег из подвала.
Собрав все силы, он попытался выплюнуть кляп изо рта, но попытки были тщетны, сделать это не удавалось раз за разом.
Бальтазар чувствовал холод речной воды, заполняющей всё вокруг. Ему было неприятно чувствовать её под собой, мокрые брюки прилипали к ногам и к ягодицам, наполовину промокшее пальто неприятно касалось спины.
Чтобы встать на ноги, ему надо было опереться о стену, и, елозя всем туловищем в мутной воде, словно гусеница, он прополз к ней, напрягая мышцы ног и спины. Долго мучаясь, но потом, привстав сначала на одну ногу, а следом на другую, он оказался в положении полуприседа, затем резко вытолкнул себя вверх.
Это было глотком свежего воздуха для его души. Поверив в собственное спасение, юноша побежал к входной двери, он верил, что дверь может быть незапертой, ведь они не рассчитывали на то, что он придёт в сознание так быстро, и, к тому же, Бальтазар не слышал, как они её закрывали.
Но кованая железная дверь была заперта и не сдвинулась с места после нескольких сильных ударов ноги.
Бальтазар опёрся о стену. Ему послышался голос его матери, словно она звала его, он улыбнулся, услышав, как этот голос пошёл нараспев. В больной и ушибленной голове его она пела, как двадцать лет назад она пела:
Баю-баю, мил внучоночек!
Ты спи, усни, крестьянский сын!
Допрежь беды не видали беды,
Беда пришла да беду привела
С напастями, да с пропастями,
С правежами беда, всё с побоями.
Баю-баю, мил внучоночек!
Ты спи, усни, крестьянский сын!
Нас Бог забыл, царь не милует,
Люди бросили, людям отдали:
Нам во людях жить, на людей служить,
На людей людям приноравливать.
Опустив глаза, он заметил, что уровень воды стал другим, она заполняла подвал ещё быстрее, чем прежде, и сейчас была немного ниже его колен. Вода хлестала из всех щелей, в особенности из маленьких окон, уходивших со стороны фасада под землю, в это окно могла протиснуться разве что кошка, сейчас он пожалел, что не является ею.
На его лице расцвела улыбка, какой, быть может, он никогда не улыбался прежде. Казалось, что в тёмном и сыром подвале стало светлее.
«Господь, я никогда не называл тебя по имени, я никогда не служил культа по тебе, не произносил молитв. Пускай, в эту секунду молитвой станут два имени, два самых дорогих имени для меня. Я не знаю, что будет дальше, возможно, завтрашнее утро наступит для меня. Но я знаю, что ты есть любовь – безмерная, всепоглощающая. Она, как тёплое одеяло, которым ты нас всех накрываешь, ну, а мы в порыве страсти скидываем его с себя и маемся. Я никогда не верил в то, что ты можешь быть судьей, карателем или арбитром. Все эти аплуа опробовал на себе человек много веков назад. Но ты, как любящая мать, одинаково любишь и плохих и хороших сыновей. Обнимаешь в своих ласковых объятиях и убийцу и его жертву. Ведь ты знаешь, что одинаково несвободны оба, что убийца, убивая, убивает себя тоже.
Наверное, я трус, и мне страшно. Я не могу понять того, что этот мир, существующий в моём сознании, выключат. Однако, более всего гложет мысль, что не будет самого сознания. Ну, а что же будет вместо него? Чем можно его заменить кроме небытия, которое не подразумевает под собой мысль и чувство? При этом я не могу сказать, что сильно жалую этот мир, я так и не смог понять, зачем всё это? К чему эта вереница событий, начинающаяся рождением и заканчивающаяся смертью?»
Вода подступила к его пояснице, было пронзительно холодно, Бальтазара пробирала дрожь, он силился её преодолеть, сжав зубы и кулаки, ему казалось уже невозможным делать какие-то движения.
«Нет, не может быть, чтобы всё так закончилось в этом подземелье… Мне ещё никогда не было так холодно, как сейчас, и эта дрожь, которая меня охватила с ног до головы, этот бесконечный озноб, который парализовал меня. Сейчас откроется дверь, и сюда обязательно кто-нибудь войдет, спустится ко мне и увидит всё это… Может быть, так и будет?! Я знаю, что так и будет, знаю, знаю! Не может быть по-другому! Возможно, это будет она? Она зайдёт, и весь мрак рассеется, всё это разом отступит от меня, станет не моим. Эта печать Бога на её лице, эти черты, которые мог создать только он. Как было бы сладко прикоснуться к ним взглядом ещё раз, насытить красотой и ликованием своё сердце».
Гул воды в помещении заглушал всё, что происходило снаружи. Однако, через этот шум пробивалось что-то робкое, еле уловимое, какое-то порхание, взмахи маленьких крыльев и стремительный полёт. И всё чётче для его слуха становился звук милого щебетания: быстрой и напористой тонкоголосой рулады. В это подземелье проникла птица. Что она здесь делает? Что ей здесь нужно?!
Птица показалась перед Балтазаром. Летая из угла в угол, она привлекала к себе внимание. Это была ласточка.
По его позвоночнику проходил леденящий озноб. От чувства мокрой одежды на себе, ему было невыносимо холодно. Опершись о стену, он делал усилия для того, чтобы не сползти и не оказаться полностью в воде, сейчас он был погружён в неё по грудь.
Он пробовал двигаться и силился сверхчеловеческими попытками превозмочь ступор, в котором оказался, но его руки были связаны, и в воде, в которой теперь можно было только плыть, сделать шаг получалось с трудом.
Наконец, когда вода подступила к горлу он вновь улыбнулся и пришёл в себя. Он стал спокоен и уверен. Он всё знал наперёд.
Вытянувшись по струнке у стены, Бальтазар более не делал попыток сойти с места. Ласточка села ему на голову и, словно разговаривая с ним, продолжала свой тонкоголосый монолог, и вдруг упорхнула навсегда.
Он почувствовал вкус речной воды, она просочилась через кляп, которым заткнули его рот. Юноша привстал на мыски своих ботинок, но через половину минуты вода стала заливаться в его уши, а потом и в нос. В сознании, словно лампочка, зажглась мысль о том, что сейчас он умрёт, и это и есть его конец!
Голова ушла под воду, он закрыл глаза. Через ноздри она подступила к лёгким и быстро заполнила их, разлившись словно река весной. Он задыхался, и вскоре перестал дышать.
***
В дороге, под мерные гребки вёсел, тревога Дарьи медленно сошла на нет, больше не было этого давящего, щемящего чувства, жизнь была всё той же доброй, милой, порой чуть грустной, но, в целом, благополучной и обещающей только счастье и интерес.
Когда лодка подплыла к воротам усадьбы, показалось, что воды за время её отъезда стало больше, но ненамного. Её родители ещё не вернулись и, должно быть, были в пути. Она чувствовала, что скоро они вернутся. Она вышла из лодки, держа зажженную в церкви свечу, и решила, что и сейчас не станет её тушить, а поставит у себя в комнате.
«Как много ласточек сегодня, Матвей, ты только посмотри, – с детской непосредственностью и сладким умилением произнесла она, – какие они красивые, какая весна всё-таки замечательная, как оживает всё кругом, как я всё это люблю, как я люблю красоту, эти запахи, эти цветы, этих птиц».
«А ты что любишь?» – сделав детскую гримасу, игриво, спросила она у севшей ей на плечо маленькой ласточки.


