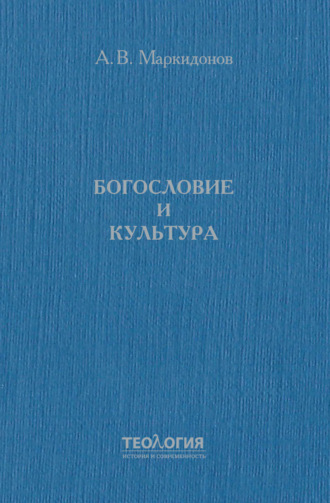
Александр Маркидонов
Богословие и культура
Именно там и тогда, где и когда потеснялась, ослабевала или ограничивалась динамика иконичности в своём эсхатологическом и – тем самым! – одновременно культурообразующем значении, возникало и так или иначе осуществлялось стремление «исцелить» дискретность культуры, подменить в ней открытость никак не формализуемому (апофатическому) Присутствию трансцендентного сакрализацией собственно-человеческих или, во всяком случае, тварных начал.
В римо-католической традиции такая подмена обнаруживает себя, например, в онтологически и экклезиологически мыслимой идее (и практике) «второпричинности» как способе посредства между Богом и миром, Богом и историей. Соблазн подмены здесь – в допустимости самой возможности юридически, механически или как-либо ещё «делегировать» самую власть бытия, экстраполировать её в область онтологически «подвластного». Таков «римский примат» в своей крайней юридизированной форме; такова в «научном богословии» (или теологизирующей науке) тема некоего «перво-вещества» в творении. Но таково же, по смыслу, и обострение цезаропапистической тенденции в византийской культуре иконоборческой эпохи. Экспансия «имперского» начала в Церковь идёт здесь рука об руку с покушением на «иконичность» в устроении культуры, на её экзистенциально-историческую открытость «горнему», на недекоративное – предполагающее нравственно-аскетические и канонические выводы – значение этой открытости. Ведь разрыв между образом и Первообразом, ничуть не снимаемый, а как раз актуализируемый самим иконописанием, всем, что в нём «вещеносно» – зримо напоминает о радикальной несамодовлеемости сущего (и всякого «зде пребывающего града»), о суетности человеческих притязаний на какое бы то ни было «самовластие» и, главное, о невозможности перекрыть это расстояние между образом и Первообразом, преодолеть разрыв иллюзией магического тождества или «самосильного» восхождения. Икона исконно христоцентрична: подчёркнутая Преданием связь её с Воплощением обосновывает не только возможность изображать, но и невозможность восходить к Первообразу как бы то ни было «самосильно-мечтательно», вне Христа, без опоры на силу Его Воплощения, на эту энергию Церкви.
Образ, отвечающий Боговоплощению, а значит, предполагающий движение к Первообразу – и как историю, и как молитву одновременно; образ, сам «организуемый» в Предании Церкви как это движение, один только и способен оформить (обосновать к бытию) христианскую культуру именно в её дискретности, в такой её устроенности, которая именно незавершенностью своей отвечает эсхатологической открытости Церкви к Присутствию трансцендентного в ней. Дискретность и оказывается в горизонте иконичности единственным способом сохранить (или, точнее, обрести и пережить) как непреложный дар целостность бытия в истории и как историю.
Когда же рационально-дидактическое или эстетическое истолкование образа подавляет в нём его «моленное», аскетико-литургическое значение, и он, мало-помалу выпадая из своей молитвенной идентичности слову, превращается в иллюстрацию к «тексту», а то и просто к «настроению», тогда лакуны «молитвенного делания» (с его исконно-иконической открытостью) «драпируются» элементами «науки» – этикой, эстетикой, схоластическим богословием и другими формами агрессивно-отраженной деятельности превращенного христианского сознания.
Итак, говоря обобщенно, та универсальная особенность византийской культуры как культуры христианской, которую мы здесь связываем с понятием «иконичности», состоит в ее реально и всесторонне переживаемой ориентации на парадокс присутствия Трансцендентного, присутствия, сопрягающего полноту реальности и неисчерпаемость тайны. В одном из самых выразительных для византийской культуры писаний, у Дионисия Ареопагита, говорится, что «в человечестве Христа Пресущественный явился в человеческой сущности, не переставая быть сокровенным после этого явления, или, если выразиться более божественным образом, не переставая быть сокровенным в самом этом явлении»[9].
Византийская культура в разных своих измерениях и осуществляет себя как опыт этого «божественного образа выражения», опыт переживания и уразумения антиномии «сокровенного явления» или «явленной сокровенности». Такой опыт не мог бы осуществиться помимо корреляции в нем, в его духовном горизонте апофатического, эсхатологического и аскетического начал. На это мы и хотели обратить внимание в размышлении о христианских основаниях византийской культуры.
«Нешвенный хитон» православного богословия
«Воини же, егда пропяша Иисуса, прияша ризы Его и сотвориши четыри части, коемуждо воину часть, и хитон: бе же хитон нешвен, свыше исткан весь. Реша же к себе: не предерем его, но метнем жребия о нем, кому будет: да сбудется Писание…» (Ин 19:23, 24).
Достаточно рано этот эпизод о нешвенном хитоне Спасителя в евангельском рассказе о Его крестных страданиях приобретает в церковной традиции символическое истолкование. Гимнографически, а затем и иконографически такое истолкование было выражено, например, в связи с церковным почитанием сщмч. Петра Александрийского (†311), о котором в службе ему говорится: «Христа яко младенца на святом жертвеннице видев, в раздранну облеченна ризу, и глаголюща, яко Арий раздра ю»[10].
В службе Святых Отцов Первого Вселенского Собора также упоминается о видении сщмч. Петра, где «раздранная риза Христа» – тот цельный хитон, который «не предрали» воины – символизирует последствия ереси Ария, покусившегося разделить единство Святой Троицы.
У «Видения сщмч. Петра» богатая и длительная иконографическая история. Но оно не первый по времени пример символического истолкования образа «нешвенного хитона». По меньшей мере, уже в середине III века, у сщмч. Киприана Карфагенского в его знаменитой книге «О единстве Церкви» читаем: «Аз и Отец едино есма» (Ин 10:30). И опять об Отце, Сыне и Святом Духе написано: «И сии три суть едино» (1 Ин 5:7). Кто же подумает, что это единство, основывающееся на непременяемости Божественной и соединенное с небесными таинствами, может быть нарушено в Церкви и раздроблено разногласием противоборствующих желаний? (…) Это таинство единства, этот союз неразрывного согласия обозначается в сказании евангельском о хитоне Господа Иисуса Христа (Ин 19:23–24). Он (хитон) имел единство свыше, происходящее с неба от Отца, и потому не мог быть раздран теми, кто получил его в обладание, но целостно, раз навсегда, удержал крепкую и неразделимую связь свою»[11].
Этот текст может быть в первую очередь интересен тем, что в нем триадологическое измерение темы единства неразрывно связано с измерением экклезиологическим – так, что единство Церкви оказывается укорененным в единстве Святой Троицы, в нем имеет свой исток и основание. Это важно отметить уже потому, что исследователи нашей темы в Житии св. Петра Александрийского обратили внимание на то, что если «в латинских и славянских вариантах Жития разорванное одеяние почти всегда интерпретируется как знак разделения Церкви, (то) в византийской версии – как символ разделенной Святой Троицы»[12].
На самом деле, сколько-нибудь существенного противоречия в таком различии смысловых акцентов нет, так как в полноте богословского сознания единство Церкви и есть ставшее досягаемым изнутри истории единство жизни Святой Троицы, по слову Спасителя: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин 17:21).
Так вот и для сщмч. Киприана «хитон Церкви» имел, как мы видели, единство свыше, «происходящее от Отца», и потому не мог быть раздран, но «целостно, раз навсегда, удержал связь свою». Образ происхождения евангельского хитона – не сшитого из частей, но истканного сверху как неразделимое целое – толкуется в данном случае как указание на выше-естественный источник церковного единства, а тем самым и церковного самосознания или богословия Церкви, «свыше, целостно и раз навсегда» осуществляемого в истории.
Значение начала выше-естественного усвоивает образу хитона Господня в своем толковании Евангелия и свт. Кирилл Александрийский – один из самых глубокомысленных экзегетов ап. Иоанна Богослова. «Хитон, сверху тканный и несшитый, – пишет свт. Кирилл, – в созерцательном смысле (указывает) на святое Тело Христово, так как оно произошло без соития и как бы некоего сшития (соединения) мужа и жены, а действием Святого Духа и Силою Вышнею соткано было в подобающий ему вид…»[13] Таким образом («свыше») созидаемое Тело Христово есть, конечно, и Тело Церкви, таинство которой совершается как единство во множестве, как согласие целому во всем (кафоличность). «Раздробляемый на отдельные части, – говорит свт. Кирилл, – и освящая душу каждого с телом посредством Своей Плоти, Единородный всецело и нераздельно пребывает во всех Один, будучи везде, ибо отнюдь не делится, по слову Павла (1 Кор 1:13)»[14]. В целом, у свт. Кирилла Александрийского одежды Спасителя истолкованы как образ соотношения видимой и конкретной множественности исторического бытия Церкви и сокровенного духовного единства Ее по силе присутствия Единородного. «В самом деле, – отмечает свт. Кирилл, – четыре части вселенной как бы разделили между собою и (в то же время) нераздельно содержат истинно святое облачение Слова, то есть Тело Его»[15].
Прп. Максим Исповедник, на первый взгляд, допускает и «естественное» истолкование образа хитона Господня как полноты христианской добродетели. «Целиком сотканный сверху хитон Спасителя, – пишет прп. Максим, – (…) есть взаимная и непространственная связь и сплетение добродетелей – сей приличествующий покров для Слова, (сотканный) совместно (всеми) нами, или же благодать нового по Христу человека, сплетенная свыше Духом»[16]. На самом деле, с учетом того, что евангельское «без Мене не можете творити ничесоже» (Ин 15:5) для аскетической практики есть исходное и безусловное мерило ее подлинности, и «связь добродетелей», и «благодать нового по Христу человека» тождественны в том, что «сплетены свыше Духом».
На примере «Видения сщмч. Петра Александрийского» мы уже могли убедиться в вероучительном содержании символа нешвенного хитона Господня. Есть тексты, где это содержание получает исключительное значение. В кондаке отцам, например, читаем: «Апостол проповедание и отец догматы Церкве едину веру запечатлеша, яже и ризу носящи истины, истканну от еже свыше богословия, исправляет и славит благочестия великое таинство». Так и в кондаке св. Григорию Богослову, где образ «одежды Церкви» внятно отсылает к тематике «нешвенного хитона», говорится: «Богословным языком твоим сплетения риторская разрушивый, славне, православия одеждею, свыше истканною, Церковь украсил еси, юже и носящи, с нами зовет, твоими чады, радуйся, отче, Богословия уме крайнейший». Богословие Церкви здесь «свыше истканно», т. е. имеет своим источником не человеческий разум – хотя языком этого разума сказывается, – обнаруживает и осуществляет себя, насколько он, «богословия уме крайнейший», способен выступать за свои естественные границы. А «способность» эту разум приобретает, руководимый верою. «Что же такое вера? – вопрошает св. Григорий Палама. – Природная или сверхприродная сила? Конечно, сверхприродная, оттого и “не может никто прийти к Отцу, кроме как через Сына” (Ин 14:6; 10:9), Который поставил нас выше самих себя и возвратил к единству Отца, Собирателя»[17]. «Святую веру» полагает св. Григорий Палама «неким превосходящим любое чувство и любое разумение созерцанием нашего сердца, поскольку она превосходит все умственные способности нашей души…»[18]
Вера Церкви как «сверхприродная сила» и есть ее (Церкви) «нешвенный, свыше истканный хитон» (или риза) и, в то же время, способ (или образ) осуществления этого «свыше», его вышеестественности человеческое оформление.
В одном из популярных на Руси, входящих в известный сборник «Маргарит» и приписываемых св. Иоанну Златоусту текстов, по ходу размышления о природе ереси читаем: «А у нас хитон Церкви – из цельной ткани, не сшитой из отдельных частей. Он выткан целиком, сверху до низу, тогда как обыкновенные одежды сшиваются из отдельных частей. Не из человеческих рассуждений сшита вера наша, нет, она сплошной цельный хитон»[19]. Славянский перевод в «Маргарите» звучит так: «Здеже Церкви риза изъткана свыше, а не сошвена. Имамы здраву ризу, что же есть свыше изоткана; понеже многи суть платы бываемыя, риза же сия незаплатися платы, но от вышних есть истъканна, а не сошвенна. Несоткаша бо ризы нашея человеческие мысли». В славянской версии нет слова «вера», но в отрицании ведущего значения «человеческой мысли» «вера» подразумевается по противоположности этой «мысли».
Подлинное богословие, таким образом, призвано в области человеческой мысли осуществлять, сказывать и выражать смысл, созерцаемый верою. А значит, вопреки дискурсивной последовательности, направленной снизу вверх – от ближайшего к дальнейшему, от известного к неведомому, от части к суммарному целому и т. п., – вопреки такой последовательности богословие должно быть верою ориентировано сверху вниз, от сокровенного к явленному, от целого к части, из глубины к поверхности и, во всем таковом, от Бога к человеку. Оно должно быть ориентировано этим сверх-природным «свыше», о котором настойчиво напоминает нам образ нешвенного хитона Господня. Образ этот, в данном случае, строго соответствует основному сотериологическому принципу христианства, выраженному, например, св. Проклом (впоследствии) Константинопольским в его ранней полемике с Несторием. «Мы веруем, – говорит св. Прокл, – что Христос не через постепенное восхождение к Божественному естеству сделался Богом, но, будучи Бог, по Своему милосердию сделался человеком. Не говорим: “человек сделался Богом”, но исповедуем, что Бог воплотился»[20]. Это простейшая в своей первичности, но и строжайшая парадигма христианской сотериологии, равнозначная евангельскому: «Никто не восходил на небо, как только, сшедший с небеси, Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин 3:13).
Подлинное богословие руководимо именно этим движением тайны спасения, вектором божественного домостроительства – сверху вниз, от Бога к человеку. Вот почему так строго табуирована в православном богословии инициатива (претензия на первичность и самодостаточность) человеческой мысли. «Изменять без ума, – говорит прп. Максим Грек, – Божественные изречения и уставы утвержденные древними (вспомним св. Киприана: «Раз навсегда». – А. М.) есть признак явной дерзости и повреждения ума; ибо они (Божественные изречения и уставы. – А. М.) не могут подлежать точному исследованию человеческого ума, и (попытка) объяснить их без всякого стеснения, обыкновенно, предает вечному огню»[21].
В первой главе своей «Физики» Аристотель, говоря об определении «начал» сущего, пишет: «Естественный путь к этому (определению «начал». – А. М.) идет от более известного и явного для нас к более явному и известному с точки зрения природы вещей: ведь не одно и то же то, что известно для нас и прямо, само по себе. Поэтому необходимо дело вести именно таким образом: от менее явного по природе, а для нас более явного, к более явному и известному по природе»[22].
Христианская вера, обращенная к «началам» выше-естественным, движется как бы в «обратной перспективе» по отношению к «естественному» пути познания – от самих «первоначал» к тому, что явно для нас. Возьмем для примера простейший в своей аксиоматичности текст, который и по сути, и по происхождению являет собой действительно богословие Церкви – Никео-Цареградский символ веры. К чему (а точнее, к Кому) обращена в нем вера Церкви в своей первичной исходной интенции? Вера начинает не с «явного для нас», а с предельно (точнее, запредельно) сокровенного – с исповедания Троичной Тайны, и в ней с начала начал – Бога Отца.
Восточно-православное богословие не знает «единого Бога» до и как бы вне Троического бытия: «начало» этого бытия усматривается не в единстве сущности, а в ипостаси Отца как источника божественной жизни. Поэтому, как подчеркивает, например, св. Кирилл Александрийский, имя Отец есть имя более соответствующее Богу, чем имя Бог. Излагая мысль св. Кирилла, прот. Георгий Флоровский пишет: «В том и состоит высшее ведение о Боге, открытое Христом, что Он явил людям имя Отца, что он привел их к разумению Троической тайны»[23]. Поэтому же, добавим, молитва к Отцу завершает последование евхаристии, становится возможной после сакраментального обновления жертвы Христовой и предваряется исполненным особого смирения обращением священника: «И сподоби нас, Владыко, со дерзновением неосужденно смети призывати Тебе небесного Бога Отца…»
Итак, бесспорно, что Символ ориентирует нас верою Церкви – сверху вниз, от самого Первоначала, из глубины реальности к ее поверхности, к ближайшему для нас. Даже, по-видимости, наиболее расположенные к естественному и привычному истолкованию имена Божии в Символе на деле содержат в себе мощное апофатическое начало. Так, например, имя «Творец» как таковое естественно помыслить как Причину, и богословие как будто бы мирится с таким тождеством в своем словоупотреблении. Мирится, но только на поверхности смысла, ибо «причинность» Божественного творчества превосходит по сути и образу своего осуществления всякую естественную «причинность», область которой (с некоторыми разночтениями) еще Аристотелем была определена четверицею зиждительного, инструментального, материального и финального начала. «Творец» в христианском веросознании качественно превосходит всю сумму возможных естественных причин, что заставляет св. Василия Великого, говоря о творении, настойчиво подчеркивать, что Бог «не сделал, не произвел, но сотворил» и «был для мира не сим одним – не причиною только бытия, но сотворил как благий – полезное, как премудрый – прекраснейшее, как могущественный – величайшее»[24].
В этом смысле понятно, в частности, хайдеггеровское резкое размежевание «бога философов» и «Бога Откровения», когда он говорит: «Как приходит Бог в философию? Как Первая причина – Causa sui. Так звучит сообразное делу философии имя Бога. Ни молиться, ни приносить жертвы этому богу человек не может. Перед Causa sui нельзя пасть на колени в священном трепете, перед этим богом человек не может петь и танцевать. А посему и без-божное мышление, принужденное отказаться от философского бога, бога как Causa sui, пожалуй ближе Богу божественному. И значит это только то, что здесь Ему свободнее, чем способна допустить онто-тео-логика»[25].
Чтобы закончить разговор о смысловой структуре Символа веры, отметим, что завершается он исповеданием веры в «жизнь будущего века», представление о которой, будучи отрешено от целокупного веросознания Церкви, максимально сближается с понятием «бессмертия души», а значит, оказывается уже на почве «естественной религии», того, что «явнее для нас» и может даже, как у Платона, обсуждаться и обосновываться с помощью рациональной аргументации. Впрочем, подчеркнем, что это возможно лишь в случае искусственного изъятия теологемы «жизнь будущего века» из целокупности веросознания Церкви, где она непосредственно связана, например, с теологемой «воскресения», а значит, уже не может быть растворена в понятии «естественной религии».
Тем не менее, т. е. при всецело Откровенном характере Символа веры, в нем, внутри Богооткровенной тайны, внятно движение от того, что (точнее, Кто) из недосягаемых недр Святой Троицы, к тому, что – в истории домостроительства, в нам соприродных недрах человеческого и космического существа: движение сверху вниз.
Припоминая символику «нешвенного хитона», мы должны подчеркнуть, что в этом движении Божественной икономии, понимаемом в самом емком смысле как некий переход от Творца к твари – от Бога к человеку, от благодати к природе, от духа к букве, от опыта присутствия к слову, ищущему этот опыт выразить и т. п., – в этом движении (именно потому, что оно есть движение сверху вниз) нельзя указать, нельзя с помощью наших естественных возможностей опознать и освоить, сделать инструментально-воспроизводимым и естественно-досягаемым для нас «место» перехода. Оно, так сказать, «несошвенно», но «свыше истканно» Духом.
Так, например, от «бога философов» к «Богу живому» нет естественного, т. е. философского, в данном случае, перехода. Современный петербуржский философ А. Г. Черняков хорошо выразил устойчивое – и, может быть, философски принципиальное – несмирение философской мысли перед тайной присутствия Логоса в человеческом опыте. Отзываясь на утверждение В. Ф. Эрна о необходимости особой «интенсификации сознания, на которую способны лишь гений и вдохновение», для того, «чтобы δυναμει ον Логоса перешло в ενεργεια ον», А. Г. Черняков пишет: «Не вполне понятно, как сохранить в теле культуры, как «традировать» сингулярность и однократность гениальности или святости, о которой идет речь у Эрна, как сохранить λογος ενεργεια ον в рамках контролируемого дискурса, который стремится стать универсально воспроизводимым и поэтому сторонится однократности и сингулярности поэтического события»[26].
«Контролируемый дискурс», который, в силу его «универсальной воспроизводимости», мог бы сохранять действительное присутствие Логоса – это мечта философов. Богословы же восточной традиции, отвечая на вопрос об образе присутствия Логоса в опыте человеческой истории, употребляют выражение «внезапно» (εξαιφνης). «Внезапно, – пишет Дионисий Ареопагит, – предполагает что-то, до той поры бывшее неявленным, выводимое, вопреки надежде, в явленность. Применительно же к Христову человеколюбию (…) это исхождение осуществившегося как человек Сверхсущественного из состояния сокрытости в доступное нам состояние явленности»[27]. «Внезапно» – это, в данном случае, не только (и даже не столько) «неожиданно», сколько – непостижимо, недоведомо и уж тем более невоспроизводимо какими бы то ни было человеческими средствами в способе своего осуществления. Ведь, как пишет далее Дионисий, «Он (Логос) Сокрытый и после явления, или, чтобы более божественно сказать – и в явленности. Ведь и это свойство Иисуса (способность быть явленным. – А. М.) сокрыто; и никаким словом и умом не изъяснить связанное с Ним таинство; даже говоримое, оно пребывает неизреченным, и уразумеваемое – неведомым»[28]. Таким образом, как замечает В. Н. Лосский, «в самой этой имманентности Бог открывает Себя как совершенно трансцендентный»[29].
«Внезапно», т. е. неизъяснимо и неудержимо в формах человеческого познания таинство Воплощения («Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти…» (1 Тим 3:16)), но также «внезапно» и соединение Бога с каждым из взыскующих Его. Чем более глубоко и реалистично переживается святыми опыт присутствия Божия, тем устойчивее, чаще и настойчивее звучит в характеристике «как» этого опыта недискурсивное и недискурсируемое «внезапно». Например, оно пронизывает всю исполненную мистического реализма гимнографию прп. Симеона Нового Богослова («Ты бываешь внезапно весь внутри меня…», «внезапно явился Ты с высоты…», «свет внезапно находящийся внутри нас…»). Довольно строгим аналогом, а точнее, прототипом этого «внезапно» как характеристики мистического опыта является, конечно, апостольское «Не знаю – Бог знает» (2 Кор 12:2–4).
«Сокрытым», т. е. «внезапным» и неудержимым в формах человеческого познания остается и образ творения мира, а значит, и действие Промысла Божия в мире. Неслучайно прп. Максим Исповедник соотносит в этом отношении тему и образ причастия Бога миру в творении и Его причастие святым – в домостроительстве спасения. «Тот, Кто по сущности не допускает участия в Себе сущим, – пишет прп. Максим, – изволяет иным способом сопричаствовать Ему могущим это сделать, но (Сам) совершенно не выходит из (Своей) сущностной Сокрытости, поскольку способ, которым Он изволяет причаствовать (Ему), всегда остается закрытым для всех. Следовательно, как Бог изволяет участвовать (в Себе) способом, о котором ведает Он (один), так Он и хотением (Своим) привел в бытие сопричаствующих (тварей) в соответствии с логосом, постигаемым только Им…»[30]
Надо отметить, что тема интеллектуальной неуловимости, непредсказуемости и, соответственно, невыразимости опыта сопричастия «первичному началу» (например, Благу у Платона или Бытию у Хайдеггера) религиозно окрашивает иногда и философское сознание. «У меня самого, – пишет Платон, – по этим вопросам нет никакой записи и никогда не будет. Это не может быть выражено в словах, как остальные науки; только если кто постоянно занимается этим делом (восхождением к созерцанию. – А. М.) и слил с ним всю свою жизнь, у него внезапно, как свет, засиявший от искры огня, возникает в душе это сознание и само себя там питает»[31].
Или, с другой стороны, при всем тяготении к «досократической» ментальности, но все-таки о соотносимом в некоторых чертах опыте говорит и М. Хайдеггер: «Необходимо просто пробудиться вблизи любого неприметного сущего: пробудиться и внезапно увидеть, что сущее есть (…) “Есть” какого-либо сущего, то есть само бытие, всякий раз обнаруживается, если обнаруживается, лишь “внезапно” – так, как будто нечто из области неявляющегося внезапно вторгается в самое средоточие являющегося»[32].
Впрочем, «внезапно» Платона и Хайдеггера, как и, например, «инаковость» у С. Л. Франка – все еще в пределах всеобщей онтологической связи, сколь угодно тонко и диалектично помысленной.
Богословски синонимичным понятию-теологеме «внезапности», как тропосу Божественного присутствия, является выражение ασχετος – «безотносительный» или «неудержимый», как это находим в русских переводах Дионисия Ареопагита. Так, у Дионисия мы читаем о Боге, как «запредельной и неудержимой Причине всякого эроса…»[33] Схолия поясняет, что «неудержимым он называет безотносительное, не имеющее ни к чему никакого отношения, то есть естественного родства»[34]. Таково именно присутствие и действие Божественного Промысла в творении. «Триипостасное единство, – пишет Дионисий, – от наднебесных умов до самых пределов на все сущее распространяющее свой благостнейший промысл, как всякой сущности преначальное Начало и Причина, неудержимым объятием всех пресущественно охватившая»[35].
«Неудержимым объятием, – уточняет схолиаст, – он называет всецело превознесенный и не соприкасающийся с объятым Им Божий промысл и господство»[36]. «Всецело… не соприкасающийся с объятым Им», т. е., прежде всего, совершенно необъемлемый всем тем, что Он («промысл и господство») сам объемлет, а значит, в самом присутствии недосягаемый для нас в образе этого присутствия. Опять-таки, речь идет о невозможности как бы то ни было на началах тварного естества усмотреть и освоить место перехода или соприкосновения между Богом и творением. Но в строгом смысле, онтологически этого «места» перехода или соприкосновения и нет, а значит, и гносеологии в отношении к событию перехода или соприкосновения не на что опереться. «Хитон несошвен» из частей, он «целиком соткан сверху», другими словами – сопричастие Богу возможно лишь в самом Боге, Его силою и волею.
Неслучайно библейский и святоотеческий язык освоивает эту тему (и творения мира, и, конечно, спасения человека), как бы нарочито вытесняя при этом понятия онтологические понятиями этическими (любовь, милость, милосердие и т. п., например, 2 Мкк 7:23; Рим 4:16; «по милосердию Своему стал человеком» у св. Прокла). Надо сказать сильнее – этические понятия не просто вытесняют онтологические, но, приобретая силу и значение таковых, перерастая свое этическое (психологическое или социально-юридическое) содержание, указывают на вышеестественный характер Божественной икономии, становятся конкретным символом, сопрягающим в себе апофатику неподобия и катафатику аналогии бытия – Божественного тварному.
Там, где онтология ищет непрерывности «перехода и соприкосновения», Откровение и вслед ему святоотеческая мысль указывают на разрыв, непрерывно перекрываемый только в горизонте воли и действия Бога (опять же – сверху вниз), но не Его природы, как и не природы твари. Понятие о «тварном, которое творит» (И. С. Эриугена) чуждо восточно-христианскому богословию.
Религиозная метафизика, оформляемая на началах философского дискурса, стремится некую «сплошность» (непрерывность) как свое собственное качество, как условие своего осуществления навязать и событию Откровения (в икономии творения и спасения). Поэтому, как пишет прот. Г. Флоровский в статье о метафизике С. Л. Франка, «он не может, по самому замыслу своей системы, допустить свободу Бога от мира и этим, с одной стороны, вполне закрепить “совершенную инаковость” Божества, а с другой – освободить понятие “безосновности” мира, как такового, от диалектической относительности. Ибо это означало бы разрыв (…) сплошности и слитности всякого бытия, включая и “совершенно иное”, в чем состоит весь пафос его системы и весь смысл его изначального узрения. В пределах бытия, как его описывает С. Л. Франк, нет места ни для какой “контингентности”. Весь анализ бытия, как его производит Франк, потребовал бы коренного пересмотра, если бы допустить своего рода “разрыв” сплошности хотя бы в одной предельной точке, в “обосновании” мира Богом»[37].
Домостроительство творения и спасения – не процесс, который можно было бы, в его непрерывности, охватить мыслью, вписать в орбиту интеллектуально-обозримой системы; это – событие, изначально, то есть в акте творения, полагающее онтологическую инаковость сущего как возможность и условие свободы, личности и истории. Такое событие лишено непрерывности процесса, точнее, свободно от нее; его смысловая структура и пространство его осуществления дискретны, его целостность совершается как факт и переживается изнутри участия в нем, но не дается интеллектуальному дискурсу, не воспроизводится как «знание». Поэтому интеллектуально-богословское описание или выражение этого события икономии всегда в традиции Церкви остается существенно фрагментарным, антиномичным, принципиально-незавершимым, несистематичным, никогда не полным.
«Поучителен в этом отношении, – пишет В. П. Зубов, – пример патристики: отцы Церкви никогда не задавались целью создать систему церковной философии, то есть всеобъемлющее построение, охватывающее все области мысли и творчества. Синтетическим ядром духовной цельности они обладали, но считали, что эта цельность может быть лишь жизненным тоносом умозрительных изысканий, лежащим за пределами самой философии и науки, синтетичность была дана не в дневной рассудочной плоскости, то есть в системе, а во внутреннем ритме мысли, в глубинных корнях творческой личности, лежащих за пределами сознания. (Непостижимость единства для рассудка – аксиома всякой подлинной философии; напомним теорию Единого у неоплатоников.) Только то выявлялось из этого синтетического единства, что требовала необходимость дня: произведения отцов по-преимуществу полемические»[38].


