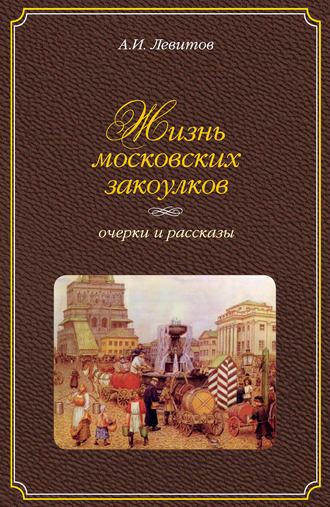
Александр Левитов
Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
Перед Пасхой
(московский фельетон)
Я живу в так называемых комнатах снебилью{1}. Вы, конечно, не знаете, что это за комнаты снебилью. Филантропия моя такого высокого качества, что я от всей души желаю вам полного неведения этого милого предмета. Скажу вам только, что те комнаты, в которых я занимаю одну, особенно отвратительны. Но дело не в том. Содержательница наших комнат имеет в своих палестинах довольно хорошую репутацию, вероятно, потому, говоря в скобках, что из всех подобных содержательниц, каких только я знавал когда-либо, она самая вздорная и грязная баба, а ее клетки снебилью – самые дрянные, самые темные, самые разрушающие. Можете, следовательно, очень легко представить себе, сколько люда втискалось в эти клетки, потому что, как вам самим известно, стремление к грязи у русского человека природное…
И вот с самой Страстной недели{2} все помышления этого люда были главным образом направлены к тому собственно, что как бы это раздобыть финансов, необходимых для приобретения более или менее громадной бутыли с тем веществом, без которого русскому человеку и праздник – не в праздник.
Сотни мастеровых, населяющих подземелья дома, где живу я, только, кажется, тем и заняты были во всю неделю, что таскали из откупной конторы эти ужасающие саженные бутыли, при виде которых невольно припоминалась старинная песня:
Кому чару пить,
Кому распивать?{3}
Военное офицерство, помещающееся в верхних этажах нашего дома, в три жилы, что называется, турило из своих апартаментов неотвязных кредиторов, отзываясь тем, что ему самому будто бы жалованья к празднику не выдали; между тем как денщики оного офицерства возились с бутылями, подкрашивая их жженым сахаром, стручковым перцем, и, почти ежеминутно, тайно пробуя сами, явно давали пробовать своим господам эту замысловатую влагу, никак, по-видимому, не желая расстаться с мыслью, чтоб их военная, денщичья, так сказать, досужливость не могла улучшить этого адского зелья.

Москва. Частная застройка в районе Плющихи, вид на Пресню, Прохоровскую фабрику и Москву-реку. Справа – церковь Николая Чудотворца на Щепах, расположенная вблизи Смоленского рынка. Открытка начала XX в. Частная коллекция
В то же время и статские майоры, и прапорщики, которых тоже очень много в наших клетках снебилью, надели ватные халаты и вместо хождения по комнате и посвистывания, чему эта публика любит всецело отдаваться в свободное время, теперь глубокомысленно, через самые чистые тряпочки, процеживала в графины праздничный нектар, пробовала его, миролюбиво и усладительно покряхтывая, и давала пробовать своим кредиторам.
Я так долго бедствую в меблированных комнатах, что их жизненные картины не могли не опротиветь мне до бесконечности; но прежде эти картины все-таки чем-нибудь да разнообразились, и я не столько из любви, сколько из тяжкой необходимости каждый день созерцать их, все кое-как мирился с ними. Но на нынешней Страстной неделе это постоянное, неизбежное подкрашивание и улучшение откупного материала нашими жильцами вынуждало меня чаще обыкновенного запирать на ключ мои пенаты и уходить от них на грязную мостовую, на дождь и холод, пренебрегая возможностью насморка, или даже утонутия в импровизованных болотах, обыкновенно украшающих московские улицы в начале всякого весеннего сезона.
Но, справедливый Боже! мои пенаты тосковали без меня на замке, я тосковал на улицах без моих пенатов, а между тем картины, выгнавшие меня из дома, были те же и на улицах. По ним ходили и ездили не люди, как в обыкновенное время, а громадные бутыли. С бесстыдством холопа, случайно попавшего в господа, задирали они кверху свои зеленые головы, заткнутые толстыми пробками, толстым и длинным туловищем своим совершенно загораживая от вашей наблюдательности людей, сгибавшихся под их тяжестью, так что решительно невозможно было видеть по лицам этих людей, последних ли деньжонок стоило им приобретение толстых бутылей, или сумм у них осталось еще настолько, чтобы на праздниках приобрести еще толстейшие.
Так как я не видел лиц людей, то кроме того, что терялся общий интерес уличного шатания, я не был в состоянии ответить себе на только что высказанный мной вопрос, а разрешением этого вопроса я не могу не интересоваться, потому что впечатления среды, меня родившей, настолько сильны во мне, что я не мог никогда окончательно забыть их. В этой среде, помню я, глубоко бывали огорчены, если купленную к празднику бутыль грешным делом успевали распробовать на Страстной еще, а на самый праздник не смогли купить другую, и огорчение это, по моему крайнему разумению, было весьма и весьма натурально, потому что в такое свободное время, как праздничное, чем же и займетесь, если не будете пить и, находясь в подпитии, славословить? Подтверждаю это авторитетом знакомого человека.

Освящение пасок. Худ. А. Лавров. Открытка начала XX в. Частная коллекция
В далекой глуши, на моей родине, живет некий маститый старец{4}, весьма грамотный однодворец. С высоты своей жизненной мудрости он отзывается так о занятиях, приличных празднику:
– Ежели таперича «писание» читать станешь, спасения для души малость из эвтова выйдет, потому на такое время и без того черти-то все в ад посажены; дело какое – грех делать, разговаривать мне с вами, с дураками – не об чем. Что же я таперича делать должон? – Должон, следственно, я выпивать для тово, чтобы сердце у меня празднику радовалось и в веселье славословило. Верно ли я говорю? – обращался он к поучаемым.
– Это точно, Митрий Захарыч, – с глубоким вздохом, до самой ясной очевидности доказывавшим общее умиление сердец, отвечали поучаемые.
Конечно, у Митрия Захарыча, знаю я, была всегда возможность раздавить одну бутыль и тотчас же послать за другой. Веселье сердца у него, следовательно, постоянно поддерживалось и славословие не прекращалось; но скажите же вы мне на милость, что оставалось делать тому человеку, который купил бутыль на Страстной, долго и тщательно подкрашивал ее, настаивал разными наборами, замазывал ее глухо-наглухо тестом, грел в вольном духу и вдруг, по искушению, всю бутыль употребил еще до праздника? Спрашиваю я весь крещеный мир, что оставалось делать такому человеку, когда он при всех стараниях, при всех подходах к друзьям и знакомым, решительно не мог добыть другой бутыли?..
Такой пассаж, не знаю как на кого, а на меня бы подействовал гибельным образом: сначала я принялся бы тосковать, ругаться, пробовал бы заложить нечто из зимней одежды; но так как ростовщики, целуясь в это время со своими бутылями, дела не делают, то я, право, поднял бы на себя руки, потому что тут у меня были бы два расчета и оба одинаково верные: один тот, что двух смертей не будет, одной же не миновать, а другой: если уж умирать, так о Святой, потому что, по отечественной легенде, умершие в это время в рай попадают…
Я не простил бы себе такую шутку, если бы не имел основания шутить таким образом. Она была бы зла и неуместна, если бы в самом деле не видал я, что в праздники особенно бурливо ревут и волнуются волны водочного моря, если бы в самом деле не знал я, как море это безнаказанно пожирает столько народа, которого никто не научил еще, что праздничные удовольствия вытекают совсем не из этого гибельного моря, текущего развратом и смертью.
Но, говоря без лиризма, общий результат впечатлений, навеянных на меня Страстной неделей, был тот, что в субботу, вечером уже, я отправился в откупную контору и приобрел там полведерную бутыль. Таким образом, как видите, начавши за здравие, я свел за упокой, ибо, рекомендуя себя вниманию публики, я, Jean de Sizoy{5}, по чести должен сказать, что я вовсе не такой человек, который бы долгое время мог противостоять господствующим нравам. Подтрунивая над господами, которые подкрашивали и подцвечивали свои бутыли, я оказался больше них достойным всякого сожаления, потому что у меня не осталось времени ни подкрасить водку, ни процедить ее, а тем паче настоять и нагреть. Следовательно, я должен был употреблять ее именно такой, какой она вышла из рук матери-природы, т. е. отца-откупщика. Из такого оборота дела, пожалуй, кто-нибудь выведет то нравоучение, что надо быть снисходительным к слабостям ближних. У меня же на этот счет довольно давно выведено такое правило: трудно человеку удержаться от выпивки тогда, когда выпивает все, что около него существует и движется…
Sapienti sat{6}! Он, т. е. sapiens{7}, непременно из всего мной сказанного выведет то заключение, которое выведет; я же иду дальше, если только я не лишился способности идти дальше, потому что, понимаете, полведерная бутыль{8} свое дело сделала…
…Почти полночь. В комнатах снебилью тишь. Все разошлись по заутреням. Всегда темный коридор наш слабо освещен чуть-чуть мерцающей где-то в угле лампадкой. Кто настолько ведет одинокую жизнь, что и в эту ночь сидит один дома, тому, мало сказать, скучно, потому что того смертного томления, того, с каждой минутой более и более гнетущего, изнывания души, которое неминуемо объемлет одинокого человека, нельзя обозначить этим словом.
Мне в эту минуту скучно именно так, как сказал я, потому что я сижу один. Мне вспоминается мое прошлое{9}, когда я не был один. Сельская церковь, думаю я, иллюминована теперь общими стараниями прихода; на улицах веселая, детски-радующаяся жизнь. Пред образами ярко горят свечи прихожан; еще ярче блестят им в глаза парчовые ризы священников. Мой десятилетний дискант валдайским колокольчиком звенит с клироса, заглушая доморощенный хор.
Ба! что это такое необыкновенно теплое вдруг охватило всю грудь мою, залило сердце и волной хлынуло в глаза? Я давно не испытывал такого ощущения. Во время оно за ним следовали слезы. Но, увы, нет теперь слез, как нет людей, с которыми я был не один!

У казенной винной лавки. Фотография начала XX в. Частный архив
Один! Что такое один? А вот что: в комнатах снебилью я задолжал теперь сорок рублей восемнадцать копеек. Отопру я сейчас же вот этот стол, возьму из него свои документы и сейчас же уйду из квартиры, отряхнувши прах с сапогов моих. Пойду направо – никого не встречу, кто бы сказал мне: приходи поскорее; пойду налево – тоже… И так до гроба!..
Тяжесть ночной думы об одиночестве может быть, впрочем, значительно облегчена скрежетанием зубов, не театральным, а настоящим царапанием своими ногтями своей груди, а главное – старанием уверить себя, что нет худа без добра…
«Беспомощное положение бедного, одинокого человека вызывает у него энергию, которая, если б он был обеспечен, могла бы, пожалуй, совсем не проявиться», – слышал я недавно.
«Это очень хорошо-с!.. «С» – прибавляю я здесь с той именно целью, чтобы как можно учтивее похвалить это правило.
«Когда говоришь с каким-нибудь барином, – вразумляла меня покойница-мать (а правило слышал я от одного очень состоятельного барина), – говори всегда: слушаю-с, сударь-с! Так с господами говорить, милый ты мой, политика требует. Перенимай, что тебе хорошие люди скажут, а мы с отцом последние жилы из себя вытянем, да учиться тебя отдадим. Ты тогда у нас сам барином будешь».
Бедная! Учение мое действительно порвало у вас с отцом последние жилы{10}, хотя я и не знаю, чему я выучился, точно так же, как не знаю того, кто теперь, после смерти отца, будет пахать ту наследственную полосу, которую я должен был пахать после него.
Какие, однако ж, странные думы иногда забираются в голову, как нежданно и, по-видимому, непоследовательно вызывают они одна другую! Наследственная полоса! Наследственный сад!.. Снег на моей полосе растаял теперь, весенний разлив досыта напитал ее землю; ждет она теперь, чтобы теплое солнце весеннее согрело ее, назябшую зимними холодами, – ждет, чтобы приехал пахарь-хозяин и бросил семена в ее теплые недра. Говорю: ждет еще всего этого моя полоса, потому что в настоящую минуту так же пусто, так же грустно и молчаливо на ней, как вот в этой комнате. А сад?.. Ранняя нынче весна, и надо полагать, что дорожки его просохли уже; но верно и то, что тихо и пусто теперь в нем, как тихо и пусто на полосе. Как, я думаю, испугались и забегали зайцы, приютившиеся в нем на зиму, когда увидели, как на сельской колокольне запылало зарево праздничного освещения! Я как будто слышу даже, как шуршат они в непроходимом вишняке, стараясь укрыться в его разреженной морозами чаще. И думается мне, что и сад, запущенный вследствие моего учения разным наукам, ждет теперь, когда кончится обедня и взойдет светлое, праздничное солнце. Не пусто будет тогда в нем, потому что выбегут в него в это время резвые дети, такие же красивые и цветущие, как были, припоминаю я, красивы и цветущи молодые вязы, что росли в четырех углах нашего сада.
Вот передо мной и вязы, под тенью которых я, мои братья и сестры игрывали когда-то. Так, это именно стоят теперь передо мной стройные стволы деревьев, которые росли вместе со мной; это их зеленые листья, что, бывало, вечно шепчутся меж собой и заставляют задумываться. А вот за чертой, которую делали вязы, и родное село. Я живо вижу его тихую улицу. Через пятнадцать лет я не забыл ни одной лачужки.

Обитатели ночлежного дома на Хитровке. Москва. Фотография начала XX в. Частный архив
Прошлое, прошлое мое! Картины твои все те же, какими они были когда-то. Где же люди, которые их оживляли? Ведь без людей они мертвы.
Умерли люди, умерли! – говоришь ты мне, старина.
Все умерли?
Все.
Хорошо-с! Это очень хорошо-с! А полоса моя, а сад мой, вязы, село – все это живо еще, все это, рассчитываю, не изменилось?
Рассчитывай! Все это не изменилось, все это живо.
Спасибо, старина, спасибо.
Гром кремлевских пушек прокатился в этот момент по московским улицам. Но думы мои, испугавшись этого грома, не вдруг отлетели от меня. Я осмотрелся. Передо мной за столом сидел мой сосед по комнатам снебилью, выгнанный из службы, – талантливая натура. Полведерная, не подкрашенная бутыль нагло возвышалась на столе, уменьшенная, впрочем, более нежели на четверть.
Я бросился к открытому окну. В глаза мне наказывающей молнией блеснула иллюминация Ивана Великого, в лицо пахнул холодный ветер ночной. Сотни колоколов таинственно говорили с сурово молчавшей ночью о воскресении Вечного Света, разгоняющего всякий мрак… В тысяче мест тысячью громовых голосов раздавалось громовое пушечное эхо.
– С прра-а-здником! – бормотал мне полусонный и совершенно пьяный сосед. – фыпьем, лю-бе-е-зный др-руг!
Я не мог отвечать ему, потому что язык мой не слушался меня. Мою душу и голову жег огонь сознания, что в эту ночь я гнусно надругался над святыми заповедями отца и матери.
Стали они перед глазами моими, эти простые, столько любившие, столько страдавшие люди; головы свои седые склонили к чахлым грудям и плачут.
Молча плакали они, но мне понятно было, что они хотели сказать мне: «Обманул, ты нас, Ваня! Обманувши, в гроб силой вколотил», – слышалось мне в мертвенно-унылой тиши комнат снебилью…
Московские комнаты «снебилью»
I
Вступление
Растрепанно и сумрачно как-то высматривают на Божий свет дома, в которых есть эти так называемые комнаты снебилью. Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты мной в этих тайных вертепах{11}, где приучается, как может, пугливая бедность.
Бесконечно длинной вереницей возникают в голове моей воспоминания о разных решительно неестественных столкновениях с совершенно невероятными характерами, когда я случайно увижу на воротах какого-нибудь высокого дома билет с уродливой надписью: сдесь сдаюца комнаты снебилью.
Каким-то странно болезненным чувством прохватывается все существо мое, когда я увижу, как бьется и трепещет на ветру лоскут серой, грязной бумаги, нелепо примазанный к воротному столбу мякишем черного хлеба, потому что перед глазами моими вытягивается тогда несчастная шеренга бездомовных людей, которые самой судьбой, кажется, осуждены на вечное скитание по этим комнатам снебилью, рекомендуемым серым лоскутом.
И при виде бедных людей этих – сотоварищей печального пути моего по бурному, если не смешно так выразиться, морю житейскому, живее чувствуется мне мое прошлое горе, глубже западают в душу настоящие невзгоды и нужды, потому что грустно размышляю я в это время о бесконечном ряде справедливых жизненных драм, обыкновенно разыгрывающихся в этих комнатах на страшную тему о погибели молодой, энергичной жизни, разбитой нуждой железной.

Бездомные. Худ. И. М. Прянишников. Открытка начала XX в. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские.
«Брат мой! – слышится мне мягкий голос редко когда уже вспоминаемого юноши, с которым, в пылу молодых мечтаний о великом и добром труде жизненном, побратались мы на жизнь и на смерть, – ив этой радости, чтобы был ты при смерти моей, мне отказал Бог!»
Страшной, томительной мукой наполняют душу мою слова эти, потому что, на великое несчастье мое, так ясно, так осязательно представляется мне в это время прекрасная жизнь в тяжкой борьбе с мучительной смертью, – и не могу я тогда дать себе отчета в том, для чего существовала эта жизнь, зачем она, жаждавшая счастья и деятельности, так долго и так тяжко страдала, и наконец, зачем она, не выдержавши этих страданий, так видимо-незаконно умирает теперь в глазах моих, не примиренная с грубостью жизни ни одним словом утешения, ни малейшим признаком участия людского?..
И другой образ, грациозный и светлый, восстает предо мной. Как и в прежнее счастливое время, беспечальный и наивный, шутливо лепечет он мне о вечной разлуке с дорогим человеком.
«Ах, сосед! – говорит мне милый голос. – Как он умирал страшно, сказать не могу. Ведь знаете вы, какой он всегда смирный был да веселый; а тут… ах! вспомнить ужасно: зеленый, зеленый весь сделался, ровно трава вешняя, и как же бранился он страшно, зубами как скрежетал!.. Одна я только усмирять его немного могла. Положу, бывало, руку к нему на лоб и смотрю на него, – он как будто и покойнее станет. Вижу я так-то, что уж немного ему жить остается, и говорю: «Ты бы, – говорю, – родным что-нибудь написал». – «Да, точно! – говорит, – написать нужно. Напиши, говорит, ты повестку такую общую и родным, и знакомым моим, что, дескать, родственник ваш, или приятель такой-то (знаешь, говорит, как на бал приглашают), умирая, изъявляет свое крайнее сожаление, что не может он вам на прощанье всем в глаза плюнуть!.. Покорнейше проси их извинить меня на этот раз: сил, скажи, не было…» Долго он тут смеялся, отвернувшись и от меня к стене; с тем и умер. А за ним и меня отнесли. Не могла я жить без него, – тоска страшная очень мне грудь надсадила. Вот и платье, в котором меня схоронили. Прелесть что за платье такое! Белое-белое, как «кипень»{12}, – с улыбкой лепечет девушка, употребляя слово своей далекой родины. – Жаль, не было вас: голову мне в это время убрали цветами, и подушку, и гроб – все завалили цветами (недороги цветы были тогда, – весной я умирала), и несли меня все наши девушки. Вы их всех знаете: те, с которыми я на одно место работала, – они все при вас бывали у меня. Ах, помните вы, как нам весело было! Хозяйка-то нас распугивала как, помните? «Деньги, – говорит, – подавайте: первое число подошло». Не могу без смеха вспомнить этой хозяйки: совсем у ней «мужчинская» борода была и голос толстый такой. Я всегда думала, что она меня съест, когда, бывало, не достанешь ей денег к первому числу. Ну, прощай, сосед! Я улечу сейчас; я летаю ныне – вот посмотрите».
И действительно, словно белый голубь, то взвивалась она в далекое поднебесье, то снова спускалась ко мне, порхая перед глазами моими какой-то невиданной птицей и чаруя меня своей милой улыбкой, с которой она показывала мне недавно приобретенное умение летать.
– Што, те комлу{13} што ль надыть? – рычит недавно приехавший из самого степного села дворник, злой от вчерашнего похмелья, суровый и всклокоченный по природе. – В четверто крыльцо на третий этаж по колидору ступай, там те комла и будет.

«Крысиные норы» – жилые помещения в подвале церкви Троицына Сретенке. Фотография начала XX в. Частный архив
Испугался милый призрак сурового голоса и улетел на небо, а мрачный дом по-прежнему мрачно и неустанно смотрит на улицу своими бесчисленными окнами, сторожит, должно быть, чтобы не вылетели несчастные птицы, заживо погребенные в его душных клетках; и грязный билет тоже по-прежнему бьется и трепещет на ветру своими двумя отклеившимися углами, останавливая на себе внимание проходящих.
– Ты там Татьяну-съемщицу спроси{14}! – продолжает дворник, – так, ее, Татьяну, и спрашивай: «где, мол, тутотка Татьяна живет?» А как, примером, Татьяна тебе скажется, ты и скажи ей, где, мол, у тебя комла тут порожняя есть? Дворник, мол, к тебе спосылал меня.
Обыкновенно я не пользуюсь в это время указаниями дворника. Я иду дальше от него и от дома, потому что оба они тогда кажутся мне в одинаковой степени деревянными.
– Ишь ты попер как! – рычит дворник. – Беспременно сдуть что-нибудь норовил. Што это за шельма народ в Москве, братцы мои! Так т. е. и норовит к тебе с сапогами совсем в рот залезть!..







