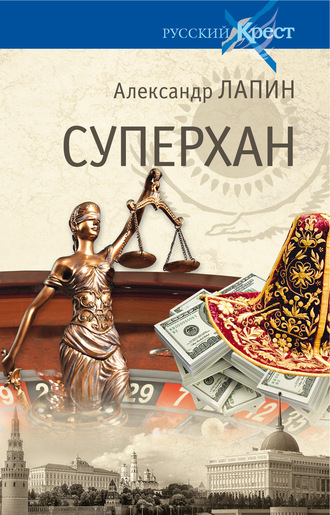
Александр Лапин
Суперхан
В это время в дверях комнаты показалась дочка. Сказала, что приехали люди из мэрии.
– Пусть подождут! – с жесткостью, которой Дубравин не ожидал, сказала Айгерим.
Он встал, начал прощаться. И, обнимая расплывшееся тело байбише, неожиданно даже для себя самого сказал:
– Знаешь, он всегда любил тебя! Просто вы не поняли друг друга.
Она как-то недоверчиво отшатнулась. А он подумал: «Ничего я не соврал! Пусть это греет ее. Не могли же они прожить целую жизнь вместе не любя. Что-то все равно было. Только мы поздно понимаем».
У дверей она остановила его. И спросила:
– Люди говорят, что он оставил завещание. Но где оно, я не знаю. Может быть, ты, Саша, знаешь? Ведь ты был его самым близким другом. Он всегда говорил о тебе только хорошее.
Дубравин пожал широкими плечами. Он действительно никогда не слышал от Амантая ничего о завещании. Может быть, что-то и было. Но, по его ощущениям, Турекулов собирался жить вечно.
V
Они ехали по прямым, широким, обсаженным тополями проспектам Алма-Аты, и Дубравин никак не мог привыкнуть к новым названиям на стенах домов. Улицы были те же – Коммунистический, Фурманова, Горького, Комсомольская. А вот названия у них поменяли на другие. Он читал: Абылайхана, Назарбаева, Жибек Жолы, Толе би. И еще каких-то батыров, султанов и биев. Была библиотека имени Пушкина – стала Национальной… Для кого-то эти новые названия что-то значат. Для Дубравина – пустой звук.
В одном месте он увидел очертания знакомой по Москве буквы «М». Спросил у попутчиков:
– А это что?
– Это метро!
– Метро?! – удивлению Дубравина не было границ. Когда он уезжал из Алма-Аты, то о метро только говорили да ставили во дворах люки вентиляционных отверстий, похожие на вкопанные в землю железные бочки. А теперь вот метро. Надо же!
– Девять станций построили, – с гордостью заявил Майснер.
– Всего? – снова удивился Александр. – За тридцать лет?
– Ну, его то строили, то бросали. В зависимости от того, были деньги или нет. Да постоянно сажали начальников строительства за хищение денежных средств. Проще говоря, за то, что тырили бабки.
– Слушай, – Дубравин заметил на улицах какую-то странную пустоту, – ведь сейчас осень. Насколько я помню, в Алма-Ате всегда на улицах выставлялось огромное количество лотков. И с них торговали яблоками, овощами. А сейчас ничего этого нет. Что, неурожай?
– Что крестьяне, то и обезьяне! – вступила в разговор подруга Майснера Марина. – У нас Главный хозяин назначил мэром города молодого музыканта, сына своего дружка. Тот учился в Европе, долго там жил. Вот и решил сделать наш город «европейским». Разогнал всю уличную торговлю, порубил множество деревьев…
– А это зачем?
– Ну, они пригласили какого-то японского, что ли, архитектора, и тот им присоветовал: чтобы, мол, городская архитектура смотрелась лучше, надо вырубить деревья, и тогда здания будут выглядеть более выигрышно.
– Он что, идиот? – спросил Дубравин. – Ведь деревья летом дают тень. Здесь же жарища такая, что не вдохнуть! Тут же везде арыки были специально проложены, чтобы поливать деревья, чтобы прохлада была. Так задумано было…
– Что крестьяне, то и обезьяне! – загадочно повторила Марина. – Стараются изо всех сил быть похожими на Европу. Хотя какая тут Европа! Сплошная Азиопа!
– Надо обменять деньги! – вспомнил Дубравин. – А то у меня только рубли.
– Вот с этим у нас проблем нет, – ответил Майснер. – Обменников полно!
И обратился к Олегу:
– Вон там на углу причаль. Видишь огни? Там хороший обменный курс.
– И какой он у вас сейчас? – спросил на всякий случай Дубравин.
– Один к шести практически!
Дубравин присвистнул. Он помнил те времена, когда тенге был дороже рубля. То есть если рубль за эти годы падал стремительно, то казахстанская валюта летела вниз еще быстрее.
В обменнике на десяток своих красных пятитысячных купюр он получил целую пачку сиреневых – похожих на евро, но с азиатским колоритом.
* * *
Новое, внушительное здание гостиницы «Гранд-Вояж» на углу улицы Курмангазы и проспекта Сейфуллина смотрелось монументально, солидно, по-европейски.
Внутрь вела вращающаяся дверь. На полу лежал ковер. Просторный холл украшал огромный аквариум с «золотыми рыбками», стильные кресла. Но был на всем этом налет какой-то азиатскости.
Дубравин не мог точно определить, в чем он состоял, этот едва уловимый налет. В тоне персонала? В каком-то домашнем разговоре между Мариной и девушкой- казашкой на ресепшен? В орнаменте ковра? Или в чем-то еще? Кто его знает!
Но то, что он существовал, – это Дубравин чувствовал точно.
Лифт блестел нержавеющим металлом, шел плавно, каждый этаж отмечал металлическим голосом. Вполне себе современный лифт. На этаже – пол из черного мрамора, электронный ключ, в номере все с иголочки: простыни белейшие, тончайшие, подушки пушистые, мягчайшие. Чисто, ничем не пахнет. Европа! Вот холодильника почему-то не было – странно. Дубравин кинул вещи и сразу отправился в душ. Там тоже все блестело металлом.
В общем, неплохо для Центральной Азии.
Но рассиживаться было некогда, потому что приехал он сюда не развлекаться, не удивляться всем тем изменениям, которые произошли. Он приехал на похороны.
* * *
Вновь замелькали пригороды Алма-Аты. Дубравин видел стоящие вдоль дороги солидные, искусно украшенные здания, на которых горделиво красовались вывески: «Ресторан», «Банкетный зал». Их было так много, что по старой журналистской привычке Александр поинтересовался у сопровождающих:
– Слушайте, отчего у вас здесь такое огромное количество ресторанов и банкетных залов? Кто их заполняет? Неужели народ живет так богато, что может позволить себе гулять с утра до вечера? Я помню, в советское время здесь был всего один такой крупный ресторан. Назывался он «Алма-Ата». Располагался в центре города. И то народ заполнял его, только когда были свадьбы или юбилеи!
Сказав это, он вспомнил свадьбу Амантая, на которой впервые увидел национальные казахские обряды и обычаи… А Майснер не то чтобы усмехнулся, а даже как-то осклабился:
– Это не от богатства.
– Это бизнес по-казахски, – усмехнувшись, добавил Олег.
– Здесь той устраиваются. Торжества по-нашему. Свадьбы, похороны, праздники…
– А при чем здесь бизнес?
– Ну, как тебе объяснить… – вступила в разговор Марина, – ты, наверное, помнишь еще с советских времен такую присказку…
– Все казахи – родственники, – вставил свое слово Майснер.
Дубравин, конечно, знал, что все казахские роды, племена, землячества связаны между собой.
– Ну, так как все казахи родственники, то на этой базе они и проявили смекалку. В казахских обычаях принято собирать на какие-то торжественные события всех родственников, как говорится, до седьмого колена. А их у каждого набираются сотни. И по каждому торжественному случаю – будь то свадьба, поминки, обрезание, сватовство – нужно проводить той или ас.
– Да, я помню в первом томе романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», в начале, подробно описан ас Божея. – проявил осведомленность Шурка.
– Во-во! Ас! Той! Короче, большая, если не сказать, грандиозная пирушка…
– Обжираловка, – поддакнула спутница.
– В общем, на каждое такое сборище приглашенный должен принести подарок. Сейчас чаще всего это просто деньги. Вот находчивые люди и смекнули. Если пригласить, скажем, пятьсот человек, и они принесут в подарок по две тысячи (на ваши деньги), это будет уже миллион, который покроет все расходы. И еще останется прибыль. Дальше – больше. Нашлись ловкачи, которые превратили эти народные гуляния в бизнес. Они берут, скажем, кредит в миллион. Заказывают баурсаки, самсу, плов, казы, мясо по-казахски. Приглашают родственников. Те приносят по две-четыре тысячи. И получается в остатке сто процентов прибыли. То есть остается еще миллион.
– И пошла писать губерния?! – понимающе подхватил Дубравин.
– Ну да! И это приняло такие гигантские масштабы, что вокруг городов поднялись все эти огромные банкетные залы.
А пока японский автомобиль нес их на окраину Алма-Аты, Дубравин все изумлялся произошедшим с его любимым городом переменам, и не всегда они его радовали.
«В чем-то он сильно деградировал, – опытным взглядом замечал Александр, – арыки не чищены. И в них нет воды, которая раньше давала городу прохладу, а деревьям – драгоценную влагу. Сами деревья на улицах выглядят неряшливо – не подстрижены, и видно, что давно не белены. На улицах у пустых арыков сидят какие-то странные люди в поношенных одеждах».
И снова спросил Дубравин у своих попутчиков:
– Кто это? Откуда такие странные черно-копченые лица?
– Это оралманы! – пояснила Марина. – Переселенцы из Монголии и Китая. Главный хозяин пригласил их, чтобы компенсировать численность населения, потому что многие покидают страну. Вот приехали эти, полудикие. Местные казахи-то цивилизованные, чистенькие. А эти – как видишь. Они сидят на обочинах, ждут, чтобы кто-то нанял их на работу.
«Значит, Казахстан так и продолжает подпитываться мигрантами, – подумал Дубравин. – Это сколько их, красавцев, теперь!»
Словно угадав его мысли, Марина добавила:
– Почти миллион их въехал.
Машина теперь двигалась по бывшей улице Дзержинского, где когда-то в серо-стальных зданиях располагался республиканский КГБ. В годы студенческой юности тут допрашивали Дубравина и его друзей по поводу нежелательных контактов с иностранцами. Что было – то было…
Но теперь на входе в бывший КГБ висела вывеска, что здесь располагается какая-то картинная галерея.
– А на соседней улице, – пояснил Майснер, – там, где раньше были камеры внутренней тюрьмы КГБ, после девяносто первого открыли музей репрессий. Потом и музей выгнали. И там теперь тюремный блок местного Комитета национальной безопасности.
– Все вернулось на круги своя! – меланхолично произнес Александр, на которого нахлынули воспоминания юности…
– Корейский театр, – отмечает Марина, – теперь не корейский. В его здании располагается уйгурский театр.
Из окна машины было видно, что русские лица на улицах встречаются редко-редко.
«Как будто они попрятались, – думал Дубравин. – А ведь наверняка их еще много. Город-то сначала развивался как военный опорный пункт, а дальше – как культурный и административный форпост российско-советской империи. Теперь же он очень сильно стал похож на южные города Казахстана. На Чимкент, Кзыл-Орду, Джамбул… Н-да! Обветшала Алма-Ата, однако. Я бы сказал даже: обазиатилась!»
С этой мыслью он снова обратился к спутникам.
– Да, с одной стороны, потерял «Отец яблок» свой колорит. С другой – ему усиленно прописывают европейские нормы, – подтвердил Майснер. – В центре разместили прогулочную зону, такой длиннющий променад, и обсадили экзотическими деревьями, которые привезли бог знает откуда. И знаешь, по какой цене обошлось каждое дерево?
– И не предполагаю даже!
– Пять тысяч евро штука!
– Да ну! Они что, охренели совсем?
– Это все – чтобы понравиться Папе.
– Кому?
– Ну, тому, кого у нас все зовут Папой. Ему этот променад показывали и приговаривали: «Вот у нас – как в Париже!»
– Точно, как в Париже! – заметил Дубравин. – Только дома пониже и асфальт пожиже.
Ему было обидно за то, что город, который всегда имел собственное неповторимое лицо, новые хозяева теперь превращают в чью-то плохую копию…
Замелькали слева здания студенческого городка КазГУграда. И хотя теперь его отделанные розовым ракушечником здания частично закрывали расположенные вдоль проспекта небоскребы из стали, бетона и стекла, все равно студенческая альма-матер Дубравина смотрелась живописно и здорово. Когда-то, пол столетия назад, там росли огромные яблоневые сады. Но сорок лет назад их вырубили и начали строить студенческий городок. Стройка велась хозспособом, так что Дубравин и его друзья тоже приложили руку к строительству общежитий, в которых и сами обитали некоторое время.
Слева, на знакомом предгорном холме, Дубравин увидел еще одно знаковое сооружение – трамплин для прыжков на лыжах. «Боже мой! А ведь я когда-то здесь учился кататься на лыжах. Сам. По купленной в Москве брошюре. И научился. Да, славное было время!»
С этим катанием у него была связана целая история… Впрочем, здесь, в Алма-Ате, у него куда ни кинь – везде история жизни. Что-то с чем-то связано. Здесь он работал на стройке. Тут учился. Там у него жила девушка. Как говорится, каждый камешек напоминал ему о прошлом. О молодости. О друзьях. О любви.
* * *
А Александр Майснер продолжал рассказ для гостя:
– А вон, на новой площади – видишь? Памятник событиям декабря тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Во-он он! Арка! На монументе – солдаты, овчарки…
Память послушно развернула тот день, когда горели на площади пожарные машины и хвойные деревья, раздавались крики, и толпы очень похожих молодых студентов и студенток, словно волны, сталкивались с идущими на них солдатскими и милицейскими цепями. А ему, только начавшему работать в молодежной газете корреспонденту, надо было выбирать, где он, на чьей стороне…
Он выбрал и не ошибся. Здесь теперь другая жизнь, и в этой жизни, ясное дело, ему бы места не было.
Разговор снова зашел о прошлом, о людях, которые остались. И Майснер заметил:
– Остаются такие, как мы, которые прожили здесь жизнь. Вросли в нее, в Алма-Ату. Нам уж, как говорится, здесь и доживать. А молодежь русскоязычная разъехалась. Вот у меня: одна дочка уехала в Норвегию, вышла замуж. Другая устраивается в Канаде, получила вид на жительство. Сын вот еще учится в гимназии. Надо его поднимать. Но жмем в основном на язык. Чтобы тоже мог учиться где-то на Западе или в Израиле и там остаться.
С одной стороны, опечаленный такой позицией, а с другой – обнадеженный, Дубравин молча наблюдал за мелькающими пейзажами. Кажется, они подъезжали к месту действия. Это он определил по тому, что обе стороны дороги были заставлены автомобилями всех возможных цветов и марок.
А Олег зыркал по сторонам, пытаясь найти место для парковки. Наконец, после нескольких кругов, им удалось неплохо притулиться.
VI
Банкетный зал огромен. Построен в виде гигантской стилизованной юрты, раз в сто превышающей настоящую.
Они толкнули двойные узорчатые двери и вошли в «предбанник». Взгляду Дубравина открылся холл со стенами, обитыми белым шелком, а в нем – большое пятиметровое панно из живых красных цветов.
Мимо панно они прошли в главное помещение – тоже огромное и сплошь заставленное покрытыми белыми скатертями круглыми столами. Возле столов стояли кресла с высоченными спинками и тоже в белых чехлах. Большинство кресел были уже заняты людьми всех возрастов.
С потолка свисали шикарные хрустальные, ярко горевшие люстры. Вдали, у противоположной стены, висел огромный черный экран. На экране демонстрировались цветные фотографии живого и жизнерадостного Амантая: вот он серьезный, в свадебном костюме во Дворце бракосочетания, вот он на лыжах в Австрийских Альпах. Теперь с президентом… Люди, сидевшие за столами, ели, говорили. Многие ходили по залу в поисках знакомых.
К ним подошел моложавый казах, в котором Дубравин узнал сына Амантая. Майснер о чем-то поговорил с ним, но Дубравин не прислушивался. Распорядитель в черном костюме предложил им занять место за большим круглым столом в центре зала.
Под траурную музыку на экране продолжал крутиться фильм о жизни казахского реформатора. А он, Шурка Дубравин, в возрасте здорово за шестьдесят, никак не мог поверить в то, что это об Амантае, которого больше нет. И ему начинало казаться, что он присутствует на каком-то грандиозном спектакле. А еще точнее – при каком-то розыгрыше.
Зал заполнялся все больше и больше. Распорядитель, который встретил их на входе, и его помощники из числа родственников и друзей рассаживали прибывающий народ. Вот к их полупустому столу он подвел двух малельких, как показалось Дубравину, немало поживших женщин. Одеты обе были строго, в черные одежды. Он вгляделся в их лица, увидел что-то знакомое, но давно забытое, и наконец понял, что это его однокурсницы – Магрифа Ганузакова и Каражан Султанова. Сорок лет как они не виделись! Магрифа была тогда пухлая, беленькая, симпатичная девушка. Каражан – кровь с молоком – юная, краснощекая, полная жизни и энергии. Сейчас, по ощущению Дубравина, они как бы сжались, уменьшились в объемах.
Они уселись за стол, посмотрели на Майснера, на Марину. На него. И… не узнали. Да, не узнали – так он изменился за эти годы.
Дубравин встал из-за другого края стола, подошел к ним, остановится возле Магрифы и спросил:
– Магрифа! Ты меня не узнаешь?! Вы меня не узнаете? Обе с изумлением вытаращили (другого слова и не подберешь) на него глаза. Каражан даже надела круглые очки. Магрифа наконец начала понимать и с чувством некоторого изумления, с одной стороны, а с другой – сомнения спросила:
– Саша, это ты?
– Я! Неужели так изменился?
– Ойбай! Ты стал такой огромный! – пролепетала Султанова, вставая со стула.
Они поочередно обнялись, прикладываясь к щечке, и Дубравин почувствовал тонкий запах парфюма. Все снова расселись рядом, и разговор, бестолковый, как весенний ручей, начался заново.
Охи-вздохи-всхлипы. Короткие воспоминания. А помнишь? А что же ты?..
Магрифа произнесла:
– Вот по какому поводу довелось нам с тобою встретиться. Это сколько же лет прошло?
– Так вот жизнь сложилась! – вздохнул Дубравин, подразумевая здесь все: и работу, и распад страны, поставивший их в свое время по разные стороны баррикад. И потом строительство новой жизни… И вот финал. Нет больше Амантая…
Султанова достала из сумочки телефон и кому-то ответила:
– Да, здесь, мы в центре зала. Подходи! Удивишься.
Через минуту на горизонте появился – кто бы мог подумать, но Дубравин сразу его узнал – Серега Степанов. Все такой же, только толстый, грузный и в очках. А рядом – худенький живчик с бледным белым лицом, Андрей Кирсанов! Когда-то в университете их звали Болек и Лелек – по аналогии с героями польского мультфильма. В сущности, они такими и остались. Хотя Степанов всю жизнь прожил в Алма-Ате, с одной женой, нарожал детей, занимал разные должности в местных газетах и в период упадка стал даже редактором некогда самой главной партийной газеты «Казахстанская правда», то есть практически повторил путь своего отца. Второй же, как ни странно, уезжал на освоение БАМа, работал собкором на Дальнем Востоке, много метался по стране, женился, разводился, но в конечном итоге вернулся на родину в Алма-Ату – доживать, дорабатывать.
Только-только у старинных друзей начал налаживаться какой-то разумный диалог, как Магрифа кинулась от стола куда-то в глубь зала, как кидается рыбак с сачком, когда замечает угодившую на крючок большую рыбу, которую надо срочно подсечь и вытащить на сушу. «Большой рыбой» оказался еще один их однокурсник, Аяган Кендыбаев. Тоже сильно состарившийся, но вполне бодрый.
Оказывается, Амантай был дорог не только своей узкой тусовке чиновников и тех, с кем работал. В этом огромном зале, ярко освещенном красивыми люстрами, отдавали дань памяти своего благодетеля деятели культуры, художники, поэты, журналисты. Молодые и старые, умные и не очень, они нескончаемой чередой выходили к микрофону и говорили, говорили, говорили, на русском и казахском, иногда проникновенно, иногда – от сердца, со всхлипами и без – слова лились рекой. «Он наш благодетель! Помогал… При его работе акимом Алма-Аты мы узнали, наконец, заботу… Я познакомился с ним, когда… Мы были с ним вместе в тот период, когда еще только зарождалась наша государственность… И уже тогда Амантай Турекулович…»
А в зале шли свои разговоры-переговоры. Они прерывались только иногда, когда на сцену выходил, может быть, очень известный оратор или расторопные официанты приносили очередную смену блюд. Тогда говорящие отвлекались на минуту-другую…
Дубравину, который был «не в теме» по причине своего отсутствия в стране последние несколько десятков лет, что-то было понятно в этих рассказах, намеках, хитросплетениях, что-то – нет. И тогда он обращался к Майснеру за разъяснениями.
Разговор в целом вращался вокруг высших государственных сфер и касался в данную минуту внука Хозяина, который чудил так же, если не круче, чем чудил его батюшка – зять Отца народа.
– Он что устроил, – отправляя пахучий, поджаристый баурсак в рот и запивая его душистым чаем из пиалы, рассказывала Магрифа. – Не так давно вышел, так сказать, к народу через «Фейсбук» с заявлением: «Моя профессия – внук Отца народа». И давай наезжать на всех, кто когда-либо работал с его дедом, раздавать указания. На акима: мол, немедленно осуши болото, от которого в городе воняет, а то я тебя самого поселю жить туда! На ближайших соратников, в том числе и на нашего дорогого Амантая. Стал обвинять его во всех мыслимых и немыслимых грехах. Такова благодарность потомков за все, что сделало старшее поколение.
– Но это еще не все, – подлил маслица в огонь сосед Дубравина по столу. – Он устроил у себя ремонт квартиры по итальянскому проекту. Стоимостью в два миллиона долларов! Нанял для работы специалистов. И, что самое интересное в этой истории, – во главе их было два внука генерала Панфилова.
– Того самого?
– Да, того легендарного командира дивизии, что отстояла Москву…
– Ну-ну! Это действительно интересно! – ждал продолжения рассказа, слушая вполуха речи со сцены-трибуны, Шурка.
– Они, кстати говоря, наполовину русские, наполовину казахи. Те ремонт сделали. Внук Отца народа приехал, посмотрел. Ему не понравилось. Он им – счет: «Вы мне должны!» Все в духе незабываемых девяностых. Они ему в ответ: «Мы сделали по утвержденному проекту, вот он». Он тогда: «Я вас посажу!» И завел на людей дело. Ребят посадили. Мать, дочь генерала Панфилова, пришла к нашему Амантаю Турекуловичу. Тот решил предать дело огласке. Пригласили западные СМИ. Конечно, все дошло до «ноль первого». «Внук Отца народа против внуков легендарного комдива». Дедушка позвал внучка к себе: «Ты что, охренел, что ли? С горы упал? Позоришь семью!» Выпустили мужиков из СИЗО.
– Да, дела тут у вас творятся! – заметил Дубравин.
А сам думал: «Значит, немало у нашего Амантая врагов. То-то они теперь радуются». И, словно услышав его мысли, Серега Степанов сказал:
– Как было здесь всегда развито разбойничье дело, так и осталось.
– Это ты в смысле барымты? – оживился и, не удержавшись, спросил Дубравин. Он мгновенно вспомнил, как еще в советские времена расследовал дело орденоносца-барымтача – угонщика верблюдов. Только вот фамилию забыл. Осталось в памяти только, что обидел тот тогда его армейского друга Амантая Тамнимбаева.
– Ну, кое-что изменилось в этом любимом деле местных властей. Раньше угоняли скот. А теперь отнимают бизнес. Здесь все так: каждый бизнес должен быть под кем-то. Иначе – смерть.
– Ну, молодежь-то, наверное, растет другая. Не зря же «ноль первый» в свое время сделал ставку на обучение за границей. Туда, как я слышал, поехали тысячи.
– Поехали-то тысячи! Да только продвигает выживающий из ума Папа только своих.
– Н-да! Круто вы судите. Так значит, в последнее время Амантай был у него не в чести?
Серега даже заозирался.
– Как-то внешне это мало проявлялось. Он ведь человек известный… Но, судя по тому, что у его родственника был отжат «Казкомбанк», это так.
– А у второго племянника, – вставил лыко в строку Аяган, – зять «ноль первого» отжал нефтеперерабатывающий завод…
– Да что говорить! Общее ощущение такое, что сам Папа зачищает систему от старых кадров. Два бывших начальника Комитета национальной безопасности сидят в тюрьме за госизмену. Один вышел и сразу умер. Второго осудят.
Слушая этот застольный треп, Дубравин, с одной стороны, делал соответствующие выводы о происходящем в республике, в которой он не был столько лет. С другой, его как-то коробили эти разговоры. Потому что еще, как говорится, не остыло тело его близкого друга, и он ожидал чего-то другого от собравшихся. И вдруг его словно что-то толкнуло: «Очень даже возможно, что смерть Амантая не была следствием каких-то случайностей…» К тому же весь его жизненный опыт подсказывал, что то, что мы считаем случайностями, – это всегда закономерность вещей, о которых мы просто не знаем…
К их столу подошел молодой мужчина лет сорока – сорока пяти. Поздоровался со всеми вежливо. Магрифа наклонилась к уху Дубравина и прошептала уважительно и с ноткой зависти:
– Это Серик Байкасов. Молодой мультимиллиардер.
«Этакое средневековое иезуитство!» – подумал Дубравин, вслушиваясь в разговор, завязавшийся между Байкасовым и Аяганом: они в это время обсуждали день рождения новой столицы. Дело было в том, что жителей Алматы (так теперь надо писать название города) тоже привлекли к празднованиям. И оба собеседника осуждали хитрость властителя, устроившего это шоу.
– Эта история с переименованием отличается обычной для Папы лукавой двойственностью! – с запалом, присущим молодости, изобличал Байкасов. – Столица названа одновременно именем президента и одним из имен Аллаха.
– Заметь, что день рождения столицы совпадает с днем рождения «ноль первого»! – кивая седой гривой, добавил Аяган.
– В этом-то и дело! В этом-то весь он. Заставлять жителей бывшей столицы праздновать именины новой и одновременно подразумевать под этим действом празднование своего дня рождения.
– В этом он весь, – согласился собеседник.
«О чем угодно люди говорят. Но не о потере. Кем был для них Амантай? Большой начальник. Политик. Разве могут они понять, кем он был для меня? А может, не хотят говорить. Потому что трезвые. Да, ислам прочно вошел в их жизнь! И даже на поминках, а этот ас, наверное, все-таки по-нашему поминки, водку не приносят. Конечно, они пьют. И пьют много. Но на таких вот значимых событиях стараются обходиться чаем да традиционным кумысом…»
Неожиданно даже для самого себя Шурка провалился в прошлое и вспомнил, как они с Амантаем в последний его приезд в Луговое захотели поплавать ночью в реке, которая текла рядом с домом. Вышли из дома. Прошли вверх по берегу километр-другой, и уже там, за селом, спустились на песчаный прибрежный пляжик. Из одежды на них были только плавки. И они смело вошли в теплую, как парное молоко, воду.
Вода темная. Небо темное. Закрыто тучами над головой. Тишина. Слышны только голоса птиц в лесу на том берегу. А на этом, обжитом, светились окна домов. И тут откуда-то из-за горизонта наползли тучи. Заморосил легкий мелкий дождик. Капли зашлепали по воде, а потом уже начали, холодные, по их бедным головушкам сечь. Решили пробираться к дому вплавь.
Как ни странно, по воде путь оказался длиннее, чем тот, что они прошли посуху. В общем, Амантай подустал, и они вылезли на бережок под высоким склоном. А дождик что-то разошелся. Кругом ночь, тьма. Амантай почему-то испугался, что не доплывет, и Шурка долго его уговаривал вернуться обратно в воду. Но тот заупрямился. Уж что-что, а упрямиться он умел. Потом впал в ступор.
Тогда Дубравин прошел вдоль по берегу. Наткнулся на спущенные с высоты обрыва деревянные мостки. Не церемонясь, навалился на них и выломал из этих мостков большую широкую доску. Притащил ее сидящему у воды Амантаю, швырнул в воду рядом с ним, отдышался и скомандовал: «Садись на доску! Поедем». Так они и добрались до дома: замерзший Амантай – сидя на доске, а Дубравин – держась за нее и направляя вдоль берега. Охранник, открывший им калитку, с удивлением смотрел на голых, мокрых и продрогших мужчин, появившихся со стороны реки и кинувшихся срочно греться в баню…
Дубравин вспоминал этот случай. И на него новой волной накатили, налетели горестные мысли: не будет больше Амантая. Не будет в их жизни ни радостных встреч, ни яростных споров, ни совместного купания в речке. И посиделок за бутылкой хорошего вина тоже не будет. И что они знают о его друге, эти чужие, равнодушные люди, которые сейчас один за другим выходят то ли на трибуну, то ли на сцену, чтобы говорить слова…
Внезапно у их стола, словно из ниоткуда, появился сын Амантая. Подошел к Дубравину и сказал, что сейчас надо ехать на кладбище, потому что пришло время похорон. Шурка послушно поднялся и пошел вместе с другими мужчинами за ним.
Женщины остались в зале. По мусульманским обычаям женщины не могли присутствовать при похоронах на кладбище.
* * *
Они шли к кладбищу с носилками на плечах. Шурка был первым в ряду справа. Шли долго, в гору. Рядом с ним тяжело дышал степенный толстый казах. Он только что сменил сына Амантая. Но Дубравин, хотя спина его давно одеревенела, не хотел меняться, отказывался. Ему было тяжело, почти как тогда, в юности, когда он нес Амантая к финишу туристической эстафеты и донес. До победы. И вот теперь, спустя почти полвека, он снова нес его, провожая старого друга в последний путь.
Позади жизнь, в которой было много всего: любви и ненависти, радости и горя, счастья и несчастья. А теперь он вновь нес его. И никто не мог ему в этом помешать.
* * *
Когда они забирали тело покойного в морге, оно уже было завернуто в кафан и аккуратно завязано посередине и с двух сторон. А Дубравину почему-то страстно хотелось еще хотя бы один раз взглянуть другу в лицо. Проститься. Он сказал об этом, судя по всему, главному во всем этом действе – имаму. Тот по-казахски попросил служителя развязать ткань на секунду и открыть лицо, что и было сделано. Лицо Амантая, сильно напомаженное, напудренное, показалось Шурке в эти секунды совершенно чужим. И только челка, поседевшая прядка волос, которая упрямо торчала надо лбом, напомнила ему друга детства. Шурка наклонился и коснулся ее губами. Служитель ловко и быстро снова завязал бинты. Шестеро мужчин взяли носилки. И вперед ногами вынесли тело из помещения.
Вынесли-то вперед ногами, как и у нас, у русских. А вот несли теперь вперед головой.
Мусульманское кладбище, конечно, отличалось от русских старинных кладбищ с их крестами и памятниками. Здесь все было просто. Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) сам определил, как должны выглядеть исламские кладбища. Могила, то есть ее поверхность, «должна напоминать горб верблюда и быть не выше тридцати сантиметров над поверхностью земли», а средняя высота могильной плиты зависит от высоты покрова снега. Остановились у ямы.
«Земля здесь каменистая и вряд ли будет ему пухом!» – машинально подумал Дубравин, опуская по команде муллы носилки на землю. Имам проверил, правильно ли, то есть перпендикулярно ли по направлению к Мекке, а точнее к Каабе, поставлены носилки.
Здесь были разные люди: молодые и старики, дряхлые и крепкие, усатые и с бородой, были среди тех, кто пришел проводить Амантая в последний путь, не только казахи, но и русские, а также, судя по лицам, уйгуры, дунгане, китайцы, корейцы.
Всех присутствовавших имам выстроил в этом узком пространстве в семь рядов. Как в мечети. Дубравин стоял в первом. Он знал, что степень заслуг мусульманина перед Аллахом определяется не количеством провожающих, а количеством читающих погребальную молитву за него, и готовился вместе со всеми вознести эту прощальную молитву.







