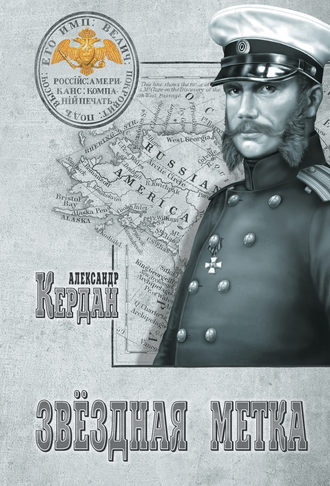
Александр Кердан
Звёздная метка
© Кердан А.Б., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
* * *
Пролог
Густой и тяжёлый, как топлёное молоко, туман с полуночи повис над Скагерраком. Ближе к утру подул свежий бриз, но и он не смог разогнать белёсую, с неестественным, коричневатым оттенком, непроницаемую пелену. Изредка раздавался заунывный звон – это подавал голос колокол, закреплённый на буе у судоходного фарватера.
Рыбацкий баркас медленно дрейфовал по течению. На нём негромко, точно боясь потревожить спящую пучину, переговаривались двое.
– Ну и дрянная погодка нынче, отец! Какого дьявола нас понесло в море? – вопрошал рыбак в зюйдвестке, грубом босторге и высоких сапогах с раструбами – молодым, только что начавшим ломаться голосом. Широко расставив ноги, он стоял на корме и осторожно выбирал из воды «жаберную сеть»[1].
– Э, малыш, да ты испугался тумана… Запомни: среди Юргенсонов трусов ещё не было!
Голос у старого рыбака был низкий, скрипучий, как у баклана.
– Я вовсе не боюсь, – обиженно отозвался молодой рыбак. – Я просто думаю, чёрт побери этот туман, вряд ли нам повезёт сегодня.
– Ты поменьше думай… Хочешь поймать удачу, не поминай нечистого, почаще забрасывай сеть. Мой отец и твой дед Мартин любил повторять: рыбацкое счастье по берегу не ходит…
За бортом плеснула хвостом рыба и снова стало тихо. Лишь изредка позвякивал колокол.
Вдруг где-то истошно взревела пароходная сирена. Раз, потом другой.
Старый рыбак, вглядываясь в туман, пробормотал:
– Не иначе, это тот самый англичанин, что накануне бросил якорь в заливе.
– Вы говорите о паровом барке «Оркни», отец? С чего вы взяли, что это он?
– С чего взял? Да разве такой ревун с другим спутаешь… Вопит, как соседская Матильда, когда её муженек пропьёт последний талер!
Молодой рыбак отрывисто хохотнул:
– И правда, фру Матильда денежки любит…
– Кто ж их не любит, малыш?
Они замолчали. После долгой паузы молодой рыбак подал голос:
– Отец, кстати о денежках. Христиан прочитал вчера в «Берлинске тиденде»[2], что на этом «Оркни» везут деньги русских и, кажется, из Америки… Я вот только не припомню, что они продали там…
Старый рыбак пробурчал:
– Твой старший брат лучше бы поменьше читал газет, а занялся бы каким-то полезным делом. От чтения добра не будет! Только глаза ослепнут…
В этот момент в стороне, откуда недавно сигналил пароход, туман озарился яркой вспышкой. Потом громыхнуло так, словно столкнулись несколько молний, и баркас качнула сильная волна.
– Похоже, паровой котёл рванул… Чёртовы пароходы! Никогда я не верил в эти дымящиеся кастрюли… Парус и вёсла – вот истинные друзья моряка…
Молодой рыбак, напряжённо вглядываясь в туман, предложил:
– Отец, давайте пойдём туда… Наверняка там нужна помощь!
– Боюсь, малыш, помогать некому… Ты слышал, как рвануло… – старый рыбак поскрёб мозолистой пятернёй рыжие с изрядной долей седины бакенбарды, делающие его похожим на матёрого моржа, задумался, проводя в уме какие-то расчёты. – Ладно, сворачивайся, – распорядился он. – И верно, подойдём, глянем, что от этого англичанина осталось… Кто знает, вдруг день будет более удачным, чем показался вначале?
И всё же прошло не менее получаса, прежде чем сын выбрал и уложил снасти и встал к рулю. Старый рыбак с одобрением оглядел умело уложенную сеть и навалился на вёсла.
Они долго плыли, ничего не видя кругом. Неожиданно пелена расступилась, и баркас вырвался на открытое пространство, волоча за собой седые космы тумана, словно поднятые со дна перепутанные водоросли.
Старый рыбак осушил вёсла, огляделся:
– Где же это проклятое место? – пробурчал он.
Слева и справа от них туман ещё стелился у воды, скрывая морскую даль.
Молодой рыбак подсказал:
– Посмотрите левее, отец! Кажется, это там. Видите?
– Ничего не вижу, малыш…
– Да вот же, ещё левее…
– Мне бы твои глаза да лет двадцать сбросить… Ладно, сейчас всё увидим! – старый рыбак налёг на одно из весел, разворачивая баркас.
Солнце выглянуло из-за туч. Лучи упали вниз и заскользили по поверхности моря, разгоняя остатки тумана, открывая место катастрофы.
Море оказалось на удивление ровным – ни малейшей ряби, словно кто-то разлил по воде оливковое масло. И на этой маслянистой глади казались особенно чужеродными останки пароходной утвари: пробковые спасательные пояса, круги, матрацы, рамы от картин, панели красного дерева, каким-то чудом не утонувший латунный рукомойник, бочка, клавиши от рояля, ножки стульев, обломки деревянных резных колонн, детские игрушки…
Баркас медленно плыл среди этих останков. Юргенсоны с необъяснимой тревогой разглядывали их. Но к этой тревоге примешивался привычный интерес покупателя в торговых рядах на местном рынке. Старый рыбак то и дело оставлял вёсла, багром подтягивал к борту ту или иную вещь, поднимал, внимательно и с оглядкой рассматривал, прикидывая: пригодится в хозяйстве или нет. Ненужные вещи выбрасывал обратно, те, что понравились, довольно хмыкая, складывал в носовой части баркаса. Спустя час образовалась целая куча всякого добра.
– Это занятие, малыш, напоминает мне сбор трофеев… – гудел он. – Когда я под началом генерала де Меца воевал с пруссаками, мне пришлось заниматься чем-то подобным… Ты ту войну не помнишь, конечно. Мал был ещё…
– Почему же не помню… Ты привёз мне тогда красивую деревянную лошадку. Я долго играл с ней, пока не сломалась…
– Верно, малыш. Лошадка памятная. Она из ранца одного пруссака. Под Дюбелем заварушка была знатная. Он, пруссак этот, был ещё живой, когда я подошёл к нему. Всё лопотал по-своему, просил, чтобы я его не убивал…
– И ты взял его в плен?
– О, нет, малыш. Врага надо убивать, если хочешь, чтобы его ранец стал твоим… – старый рыбак повертел в руках ящик из-под корабельного компаса и с тяжёлым вздохом бросил за борт. – Там, под Дюбелем, на месте гренадёра вполне мог оказаться я. Сначала наступали мы. Потом пруссаки вместе с австрийцами задали нам знатную трёпку. Вместо сбора трофеев мне пришлось неделю в похоронной команде обретаться… Паскудная, скажу тебе, работка – со сгнившими трупами возиться…
Он замолчал, потёр лицо ладонями, точно смахивая воспоминания, и добавил обыденно:
– Вообще-то, война – забавное дело, если живой остался… – он оглядел море вокруг. – А на этом «поле боя» что-то никого не видать: ни живого, ни мёртвого. Странно…
– Как так?
– Трудно сказать. Может, взрыв был такой силы, что всю команду разнесло по кусочкам. Однажды на войне я видел, как рванул армейский пороховой склад. Прямое попадание фугасной бомбы… Так от всей складской обслуги только кровавые ошмётки остались… И те на расстоянии полумили… Мы их два дня в вёдра собирали… А тут, похоже, и ошмёток не найдёшь… На море-то, знаешь, при добром взрыве воронка получается. Если кто и выжил, так тут же утянуло под воду. Да чтоб мне ни дна, ни покрышки, думаю, точно, так оно и было!
Молодой рыбак покосился на груду вещей:
– Почему это барахло в воронку не засосало?
– Э, малыш, ты погляди: все эти шмотки легче воды. Вот они и всплыли, когда море успокоилось…
– Если так, тогда должны были всплыть и деньги русских…
– Деньги… Ты всё ещё веришь в сказки! Даже если и были на «Оркни» деньги, то кто тебе сказал, что русские перевозили их в банкнотах, а не в звонкой монете или в золотых слитках?..
Глаза молодого рыбака загорелись:
– Да, так могло быть, – согласился он. – Но тогда золото русских на дне. И его непременно будут искать…
Старый рыбак задумался:
– Пожалуй, ты прав: нам не стоит здесь задерживаться… Такой взрыв, конечно, услышали в порту. Если газетёнка не соврала и на пароходе впрямь были наличные, скоро появятся корабли береговой охраны. Не уверен, что офицерам королевского флота понравится то, что мы здесь… Кстати, давай-ка запомним это место. Достань буссоль с компасом.
Старый рыбак быстро произвёл расчёты, щурясь, поглядывая на солнце, сделал отметки на старой протёршейся карте, осторожно свернул её и сунул за отворот зюйдвестки. Хозяйским взглядом оглядел добычу и довольно похлопал себя по колену:
– День и впрямь не такой уж плохой! Садись на вёсла, малыш, пойдём к дому!
Молодой рыбак сделал шаг к нему, но остановился.
– Отец, там вроде бы шлюпка… – неуверенно проговорил он.
Шлюпка без вёсел на самом деле тихо покачивалась на воде в паре кабельтовых от них.
Они подошли к ней. В лодке лежали двое.
– Покойники, – холодно заметил старый рыбак, подтягивая к себе шлюпку, внимательно разглядывая лежащие тела. Один – чернокожий в форменной одежде стюарда с бронзовыми пуговицами и эмблемой «Оркни», другой – белый, с льняными длинными волосами в матросской рабочей робе.
– Как же вы уцелели, голубчики? – озадаченно пробормотал он.
Молодой рыбак осторожно предположил:
– Может, они отчалили от парохода ещё до взрыва и отгребли подальше…
– Какого рожна им было рвать когти в такой туман, да ещё на середине пролива? Нет, что-то тут не так… – старый рыбак даже побагровел от натуги: мыслительные упражнения явно были ему не по нутру. – А ну-ка, малыш, полезай быстрей в шлюпку да пошарь у них в карманах. Может, найдётся что-то стоящее…
Глянув на кислое лицо сына, смилостивился:
– Ладно, сиди, размазня…
Он ловко, невзирая на грузность, перебрался в шлюпку и стал со знанием дела обыскивать мертвецов. Сначала перевернул и оглядел негра. Обнаружил на затылке, поросшем короткими курчавыми волосами, большой кровоподтёк:
– Э, парень, да у тебя дырка в кумполе и ещё, кажись, шея сломана… Кто ж тебя так ловко саданул? – он извлёк из кармана брюк стюарда смятую десятидолларовую бумажку, бережно разгладил её и положил себе за пазуху. В другом кармане оказалась такая же банкнота. Она последовала за первой. Старый рыбак не удержался при этом от похвалы в адрес покойника: – Да, ты, черномазый, был парень не промах, и пассажиры, похоже, были люди небедные, на чаевые не скупились… Только вот неясно: денежки тебе дали до того, как ты получил по кумполу, или после? Так сказать, расходы на погребение…
Он вынул из жилетного кармана стюарда часовую луковицу, поднёс её к уху, потряс и снова прислушался – тикают! Снял с ног негра кожаные лакированные ботинки с немного стоптанными каблуками и перебросил их на баркас. Подмигнул сыну, мол, такая обувка ещё пригодится.
Покончив с негром, принялся осматривать второе тело. На нём видимых повреждений не обнаружил. На ногах оказались такие стоптанные сапоги из грубой кожи, что старый рыбак плюнул и не стал с ними возиться. При обыске белого матроса его ждало полное разочарование: карманы парусиновых штанов оказались пусты. Только в нагрудном кармане рубахи обнаружился какой-то кусок шкурки с потёртым мехом, принадлежащим то ли морской выдре, то ли речной крысе. На обратной стороне его была нарисована синяя звезда…
Повертев лоскуток, отшвырнул в сторону. В сердцах выругался и тут только заметил, что в руке у мертвеца, белой, холёной, вовсе не похожей на грубую руку матроса, что-то зажато.
Это оказалась миниатюрная книжица в дорогом сафьяновом переплёте с золотым тиснёным корешком.
Старый рыбак попытался вырвать книжку из окостеневшей длани, но не смог.
– Кинь-ка мне нож, малыш! Я тут занятную вещицу нашёл в подарок нашему Христиану… Такая безделица в лавке не меньше пятидесяти талеров стоит… Только покойник жадный попался, никак не желает с ней расстаться…
Он всунул клинок между пальцев погибшего, попытался разжать их. Но тот, кого он с полной уверенностью принял за покойника, вдруг дёрнулся и застонал…
Часть первая. «За други своя…»
Глава первая
1
Литературный утренник в доме Краевского на Литейном проспекте в пятницу 5 апреля 1866 года начался необычайно бурно. Гости, собравшиеся за час до полудня во вместительной гостиной на втором этаже модного особняка, дружными аплодисментами приветствовали хозяина – признанного Нестора отечественной журналистики и издательского дела Александра Андреевича Краевского.
Невысокого роста, сухопарый, ширококостный, с лицом, на котором странным образом уживались колючие светло-серые глаза, гусарские усы и таящаяся под ними обаятельная улыбка, Краевский имел довольно противоречивую репутацию щедрого покровителя изящной словесности и безжалостного эксплуататора сотрудников своих изданий. Кроме того, многим современникам не нравилось, с какой быстротой Краевский менял в зависимости от политической конъюнктуры не только собственные взгляды, но и позицию принадлежащих ему газет и журналов. Самые злые языки поговаривали о его тесных связях с цензурным комитетом и охранкой: мол, чего ещё ожидать от побочного сына внебрачной дочери бывшего московского обер-полицмейстера Архарова, взращённого и воспитанного своим незаконным дедом? Впрочем, скандальная репутация Краевского ничуть не мешала славянофилам и западникам, литераторам и газетчикам, студентам и обыкновенным любителям искусства запросто посещать литературные собрания в его в доме. Самые нелестные отзывы о хозяине для большинства гостей вполне компенсировались не переводящимся там шампанским, бордо, цимлянским и хлебосольным угощением, а также возможностью воочию лицезреть ту или иную литературную знаменитость, завязать нужное знакомство, скоротать время et cetera, et cetera[3].
– Господа, – чуть надтреснутым, но довольно бодрым голосом обратился Краевский к гостям, когда приветственные аплодисменты смолкли, – я счастлив видеть вас всех. Благодарю сердечно, что почтили мой дом своим присутствием. Смею заявить, что нынче вас ждёт приятный сюрприз… Но сначала позвольте поздравить нас всех с чудесным спасением отца народа нашего, августейшего Государя императора Александра Николаевича. – Он выдержал короткую паузу, перекрестился и добавил со значением: – Возможно, не все знают: вчера, в четыре часа пополудни, у входа в Летний сад в Его Величество стрелял некий нигилист Каракозов. Слава богу, негодяй промахнулся… Волей провидения оказался рядом шапочный мастер из Костромской губернии Осип Комиссаров. Этот истинный сын народа российского вовремя толкнул Каракозова под локоть. Жандармы едва отбили злодея у толпы, готовой растерзать его…
В гостиной поднялся невообразимый шум. Многие вскочили с мест. Раздались крики: «Ура!», «Да здравствует Государь-освободитель!», «Браво Комиссарову!», «Комиссаров – да это же новый Сусанин!», «Слава спасителю Государя и Отечества!»… Кто-то запел «Боже, царя храни…», его поддержали несколько голосов, но стройного хора так и не вышло. Опять зазвучали здравицы в честь императора и спасшего его крестьянина.
Князь Панчулидзев, коренастый молодой человек лет двадцати пяти, в изрядно поношенном, но ладно сидящем на нём длиннополом сюртуке, верноподданнически кричал «ура» вместе с остальными, когда почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он обернулся и увидел наискосок от себя молодую девицу, дерзко разглядывающую его с головы до ног.
Девица сидела на стуле, закинув ногу на ногу и явно демонстрируя своё презрение к бушующим вокруг эмоциям. Она была хороша собой и знала это. Её шёлковое модное платье цвета морской волны, с замысловатой отделкой из множества рюшей и складок, небольшая бархатная сине-зелёная шляпка с искусственной розой на тулье отлично гармонировали с волосами цвета спелой ржи и огромными, как показалось Панчулидзеву, в пол-лица, глазами какого-то непонятного цвета. Этот наряд резко контрастировал с чёрными строгими платьями курсисток, обычно посещавших салон Краевского.
– Рано радуетесь, господа! Это только начало… – глядя прямо в глаза Панчулидзеву, негромко, но отчётливо проговорила она. При этом её бледное красивое лицо исказила нервная гримаса, отчего (князь тут же поймал себя на этом) оно не сделалось менее привлекательным.
– Что вы такое говорите, сударыня? Как можно такое говорить в подобный момент! – сверкнул глазами Панчулидзев, мысленно ругая себя за то, что не сдержался и вообще заговорил с незнакомкой.
– А вы сдайте меня сатрапам на Гороховую или на Фонтанку[4]… Вы ведь об этом сейчас подумали! – с явной издёвкой посоветовала она. – Впрочем, вашего идола и это не спасёт… Выстрел Каракозова отзовётся в самых глухих уголках России. Самый тёмный и забитый мужик теперь задастся вопросом: «Почему в царя стреляли? И главное – за что?» А это, это призовёт мужика к топору…
«Какая-то безумная социалистка, революционерка, место которой на седьмой версте, в Удельной[5]…» – не на шутку рассердился Панчулидзев. Даже красота её вмиг утратила для него свою прелесть. «Уж лучше б она вовсе рта не раскрывала», – подумал он. С его уст готовы были сорваться в адрес несносной девицы самые резкие и обидные слова, но привычка говорить sine ira et studio[6] – словом, то, что называют если и не светским, то добрым домашним воспитанием, заставили его промолчать и отвернуться.
К тому же его окликнул сын Краевского, Евгений, с которым Панчулидзев учился в Санкт-Петербургском университете. Евгений был ровесником князя, но в отличие от него университет всё-таки окончил и даже успел побывать за границей, где обретался сотрудником в модном французском журнале. Вернулся оттуда закоренелым славянофилом и теперь помогал отцу в издании «Голоса».
– Князь Георгий, что скажешь обо всём этом? – Евгений тронул приятеля за рукав, приглашая присесть рядом.
Панчулидзев заговорил с ним, продолжая спиной чувствовать дерзкий взгляд девицы.
– Что тут можно сказать? Всё это следствие идей наших доморощенных либералов. Ты же понимаешь, вся эта свобода слова, заигрывание с Западом ни к чему иному привести просто не могли… – внутренне ещё не вовсе успокоившись, с расстановкой произнёс он, опять же поймав себя на том, что старается говорить так громко, чтобы неприятная девица его услышала.
– Судишь здраво, князь, как и пристало настоящему патриоту… Я с тобой полностью согласен. Однако думаю, что беда нашего отечества ещё и в том, что рыба гниёт с головы… – Евгений понизил голос. – Посмотри, как упомянутые либералы вьются вокруг великого князя Константина Николаевича, прости меня Создатель, точно мухи вокруг тарелки с мёдом… И подумать только – его высочество, председатель Государственного Совета, родной брат венценосного Государя им потакает… Я тебе ещё больше скажу, как он, будучи наместником царства Польского, заигрывал с поляками! Этими вечными врагами престола российского… Оттого, поверь мне, князь, там стрельба и началась… Думаю, что и к пресловутому Каракозову польский след тянется… – ещё более приглушил голос Евгений и тут же, забывшись, воскликнул: – Но народ-то наш каков! Каков наш люд православный, а! Скажи, разве не молодчина этот шляпочник Комиссаров! Он самый что ни на есть национальный герой!
Панчулидзев едва заметно улыбнулся восторгам приятеля.
Евгений продолжал:
– Послушай, князь, анекдот по случаю. Нынче наши хваты уже сочинили. Встречаются два немца из Немецкой слободы: «Вы слышали, Ганс, в русского царя стреляли?». – «Да, Курт, слышал. А не знаете ли, кто стрелял?» – «Говорят, русский дворянин». – «А спас кто?» – «Говорят, русский крестьянин». – «Чем же его наградили за это?» – «Сделали дворянином»…
– Прошу вас, тише, господа! Прошу садиться! – призвал к порядку хозяин дома.
Гости расселись. Шум постепенно утих, и старший Краевский со значением произнёс:
– Слово имеет его превосходительство Фёдор Иванович Тютчев! – и первым с воодушевлением ударил в ладоши.
Действительный статский советник и камергер, председатель комитета цензуры иностранной литературы и член совета Главного комитета по делам печати Тютчев, сухопарый, с изнемогающим, скорбным лицом и седыми всклокоченными волосами, порывисто вышел вперёд и сдержанно, не меняя выраженья лица, попенял Краевскому:
– Полноте, Андрей Александрович! Не будем чиниться… Какие могут быть «превосходительства» среди столь почтенной и образованной публики? Вот если бы всеблаженной памяти Александр Сергеич Пушкин был здесь… К нему стоило бы так обратиться… – и безо всякого перехода сухим, отрывистым голосом начал читать стихи по случаю:
Так! Он спасён! Иначе быть не может!
И чувство радости по Руси разлилось…
Но посреди молитв, средь благодарных слёз
Мысль неотступная невольно сердце гложет:
Всё этим выстрелом, всё в нас оскорблено,
И оскорблению как будто нет исхода:
Легло, увы, легло… –
тут голос его дрогнул, но Тютчев совладал с собой и окончил стихотворение вдохновенно и с пафосом:
Легло, увы, легло позорное пятно
На всю историю российского народа!
Раздались вежливые хлопки. Тютчева как главного цензора большинство присутствующих недолюбливало. Либеральная часть гостей и сторонники чистого искусства вовсе не рукоплескали.
Евгений Краевский склонился к уху Панчулидзева:
– Сдал, сдал почтенный Фёдор Иванович… – громким шёпотом посетовал он. – Всё не может оправиться после смерти своей любезной Денисьевой… А ведь почти полтора года прошло… Ad notam[7], я несколько лет тому назад в Баден-Бадене столкнулся с ними лицом к лицу… Елена Александровна уже сильно больна была, но должен заметить тебе, князь, такая красавица… аж дух захватывало!
– Читал ли ты последнюю статью господина Тютчева в «Русском вестнике»? – поспешил сменить тему Панчулидзев, не любивший светских сплетен и воспитанный в духе строгости и целомудрия.
– Какую статью? Не ту ли самую, где Фёдор Иванович говорит, что в современной России свершилась коалиция всех антирусских направлений?
– Да-да, о ней говорю. Ну, как тебе, Евгений, сия крамольная мысль почтенного пиита? А редактор господин Катков?.. Ведь ежу же понятно, на что автор статьи намекает… А Катков не убоялся опубликовать! Что скажешь обо всём этом?
Евгений зашептал ещё более горячо:
– Факт очевидный и осязательный. Россия как была одна супротив всей враждебной ей спокон веку Европы, так и остаётся до сих пор. А теперь ещё свои доморощенные европейцы, все эти coquins méprisables[8]… Вчерашнее покушение – только следствие… Остаётся одно упование на русский народ-богоносец!
Пока они перешёптывались, Тютчева сменил новый оратор – редактор «Русского инвалида» генерал-майор Дмитрий Ильич Романовский. Он поистине генеральским, медвежьим басом объявил, что завтра в Английском клубе будет дан торжественный обед в честь спасителя Государя, новоявленного потомственного дворянина – Осипа Ивановича Комиссарова-Костромского и что всем действительным членам клуба надлежит непременно быть на сём торжестве при полном параде и орденах.
Снова раздались рукоплесканья и крики «ура», правда, не такие дружные, как вначале.
– А теперь, господа, обещанный сюрприз! – провозгласил Андрей Александрович Краевский. – Встречайте, достославный певец русского народа, наша всеобщая гордость – Николай Алексеевич Некрасов.
Все взгляды устремились на дверь за спиной Краевского. Она распахнулась. Быстрой нервической походкой вошёл Некрасов. Под громкие аплодисменты в сопровождении четы Панаевых он подошёл к Краевскому и горячо пожал ему руку. Поклонился присутствующим. Панаевы уселись в первый ряд, где для них нарочно были оставлены свободные стулья. Овация смолкла. Некрасов развернул лист бумаги, окинул присутствующих страдальческим взглядом и с каким-то душевным надрывом прочёл:
И крестьянин, кого возрастил
В недрах Руси народ православный,
Чтоб в себе весь народ он явил
Охранителем жизни державной!
Сын народа! Тебя я пою!
Будешь славен ты много и много…
Ты велик – как орудие Бога,
Направлявшего руку твою!
– Браво! Браво! – едва он окончил читать, вскричал Евгений Краевский и первым вскочил с места.
– Ура Некрасову! Слава, слава народному поэту! – раздались другие голоса. Среди восторгов публики Панчулидзев явно расслышал негромкое слово: «Позор…»
– Позор, позор! И это заступник русского народа, совесть нации, властитель дум! – зло шипела сзади девица. Тут же резко скрипнул стул, зацокали лёгкие каблучки.
«Слава богу, ушла…» – со смешанным чувством облегчения и непонятного волнения подумал Панчулидзев.
– Некрасов теперь будет квартировать у нас, – с гордостью сообщил Краевский, опускаясь на своё место и снова наклоняясь к уху Панчулидзева. – Батюшка вовсе помирился с ним. Теперь даже ведёт переговоры о передаче под начало Николая Алексеевича наших «Отечественных записок»…
Панчулидзев при этой новости тут же забыл о противной девице.
– А как же его «Современник»? – взволнованно спросил он.
– Увы, дни «Современника» уже сочтены. Ещё бы! Два цензурных предупреждения за год. Боюсь, тут даже господин Тютчев ничем помочь Некрасову не сумеет. Я не говорю уже о Полонском и Майкове: они цензоры рангом пониже… Пойдём скорее к Некрасову, расспросим о журнале…
Евгений встал и ринулся к смущённому Некрасову, уже окружённому поклонниками. Панчулидзев устремился следом. Он надеялся не только пожать руку великому поэту, но и узнать о судьбе своей рукописи, которую занёс в редакцию «Современника» в конце прошлого года. Некрасов тогда принял его очень радушно. Пробежав взглядом несколько страниц повести Панчулидзева и узнав, что это его первый опыт, похвалил язык и отметил удачные находки в сюжете, пообещал непременно лично прочесть рукопись до конца…
Пробиться к Некрасову на этот раз Панчулидзев не смог. Старший Краевский, спасая почётного гостя от возбужденных почитателей, вскоре увёл его, Тютчева и Панаевых в свой кабинет.
Остальные участники утренника разделились: часть отправилась по домам, другие потянулись к буфету, намереваясь продолжить общение в компании с Бахусом.
Панчулидзев дружески попрощался с Евгением Краевским и пошёл к выходу. В парадном он неожиданно столкнулся с давешней девицей.
Девица с помощью слуги надевала просторный доломан. Она кокетливо улыбнулась и спросила как ни в чём не бывало:
– А вы и в самом деле – князь?
Панчулидзев растерялся от такой бесцеремонности и столь неприкрытого кокетства. При этом он снова отметил про себя, что девица чрезвычайно привлекательна и гармонично сложена. Ещё не определившись, как ему вести себя с нею, он сказал сдержанно и с достоинством:
– Да, я – князь Панчулидзев. С кем имею честь говорить?
Девица ответила не сразу. Она задумалась, смешно наморщив лоб, сразу сделавшись похожей на капризную девочку:
– Странно, князь, мне кажется, я слышала вашу фамилию прежде… Да, да, где-то слышала… – она помолчала одно мгновение и тут же простодушно задала новый вопрос:
– Скажите, а откуда вы родом, князь?
Панчулидзев набычился: «У этой барышни определённо есть способность выводить людей из себя».
– Позвольте, сударыня, это выходит за всякие рамки. Кто вы сама такая? У вас есть какое-то имя? Я не привык говорить, не зная, с кем имею дело, – как можно суровее и назидательнее проговорил он.
Она, словно и не заметила его недовольства, грациозно сделала книксен:
– Зовите меня мадемуазель Полина, – и безо всякого перехода попросила: – Проводите меня, ваше сиятельство, коль скоро мы уже знакомы…
Панчулидзев машинально кивнул, даже не успев удивиться собственной сговорчивости. Спохватившись и вспомнив то, что говорила девица в зале, он добавил всё ещё сурово:
– Извольте, мадемуазель, но при одном условии – мы не станем говорить ни о какой политике…
Она задорно рассмеялась:
– Боюсь, что о политике говорить у нас с вами и в самом деле не получится. Ну, полноте, не дуйтесь на меня, князь, за мои давешние слова. Я согласна и принимаю ваше условие… Хотя, как известно, дамам условия не ставят…
Они вышли на Литейный проспект и направились в сторону Невского.
Полина болтала без умолку, но, как ни странно, её беспрерывное щебетанье не вызывало в Панчулидзеве былого раздражения.
Ярко светило солнце. В небе ни ветерка, ни облачка. Всё говорило о том, что стылая, ветреная зима уже позади, что вот-вот набухнут почки, округа расцветёт и заблагоухает в преддверии чудесных белых ночей…
– Я вовсе не имею ничего против господина Некрасова, – объясняла она. – Напротив, сплав некрасовской поэзии кажется мне необычайно крепким и своеобычным. Он удивительно многогранен: рядом с сюжетной реалистической балладой – исповедь, тут же – фельетон, который хоть сегодня публикуй в ежедневной газете. Послушайте, как это современно:
Грош у новейших господ
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона…
Наш идеал, – говорят, –
Заатлантический брат:
Бог его – тоже ведь доллар!
Правда! Но разница в том:
Бог его – доллар, добытый трудом,
А не украденный доллар…
– Вы знали эти стихи прежде, князь?
Панчулидзев отрицательно покачал головой.
Полина затараторила дальше:
– Ах, как это точно и справедливо сказано: доллар, добытый трудом, а не украденный доллар! Нам учиться, учиться всему надо у Северо-Американских Соединённых Штатов. Там не только упразднили рабство, но и все, буквально все умеют деньги зарабатывать…
Панчулидзев поморщился, не разделяя столь бурные восторги, но Полина была поглощена своими рассуждениями:
– А знаменитая американская Декларация независимости, а их билль о правах – это же настоящая конституция! Ах, какой прогресс! Ах, как нам не хватает чего-то подобного… – тут она осеклась, вспомнив обещание не заговаривать на политические темы, но поскольку Панчулидзев не проронил ни слова, продолжала: – Вы уже слышали, князь, что в Кронштадте ждут американскую военную эскадру? Вы знаете, что президент Эндрю Джонсон направил к нам своих моряков с дружественным визитом?..
Она резко остановилась, повернулась к нему. Её серо-зелёные глаза с тёмной окантовкой и золотистыми вкраплениями вокруг чёрных зрачков как будто светились изнутри. Панчулидзеву почудилось, что он тонет в них, словно в южном, прогретом море.
Полина довольная произведённым эффектом, улыбнулась краешками припухлых губ и попеняла:
– Ах, князь да, вы вовсе ничем не интересуетесь. Неужели вы и «Что делать?» Чернышевского не прочли?
– Отчего же, прочёл, – очнувшись от грёз, ответил Панчулидзев. – Как помнится, публикация в «Современнике» с третьего по пятый сборник шестьдесят третьего года…
Полина спросила с явным вызовом:
– И каков же ваш суд?
– Мне показался сей роман изрядно схематичным и заурядным с точки зрения художественных достоинств… Нечто вроде прокламации… – Панчулидзев говорил спокойно, хотя при одном упоминании о творении ссыльного Чернышевского на него, как всегда, накатило раздражение, как от столкновения с чем-то вредным и даже постыдным.
Тут Полина вспыхнула и дала полную волю своему негодованию. Она выпалила, что Панчулидзев ничего не понимает в высокой словесности, что ему надобно больше читать книг, подобных книгам Чернышевского, и что такие люди, как он, Панчулидзев, и являются главным препятствием на пути всего отечественного прогресса и процветания.
В гневе она была ещё красивей. Панчулидзев опять, к своему удивлению, не рассердился на неё.






