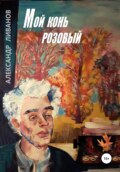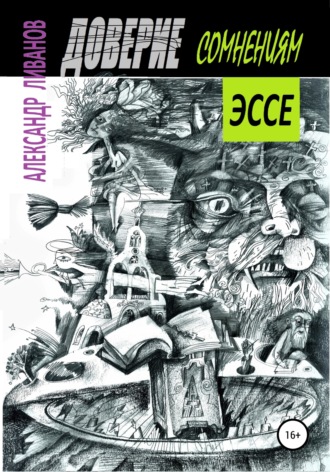
Александр Карпович Ливанов
Доверие сомнениям
«Уж коль читать, так не одного же Есенина, на которого советую Вам взглянуть со стороны классической нашей поэзии, взглянуть, так сказать, глазами Пушкина, Лермонтова, Некрасова, чтобы убедиться, что поэт он, Есенин, в сущности, посредственный. Не влюбляйтесь, пожалуйста, в его кокетливое, самолюбивое нытье (ах, какой я красивый и какой трагичный!..). Да он и не столько пьян, сколько притворяется, что опять же противно».
Но ведь Есенин (пусть и не оценил значения, исторического сдвига) искренне оплакал «Русь уходящую», как в деревне, так и в городе!.. Этого не мог бы сделать поэт «посредственный». Да и мог ли так долго быть нужен душе, уже и новых поколений, нового, небывалого исторического опыта, «посредственный» поэт. И все же – авторитет слова Твардовского, который, видимо, не мог простить даже Есенину его «попутничества», его любви к прошлому – в ущерб любви к будущему…
И все же, и все же – в мнениях подобного рода, заметил я, у А.Т. всегда есть своя «За далью – даль… А там еще – иная даль». Затем, была у него во всем этом постоянная государственная забота о литературе нашей! Отсюда – масштабность его мыслей, их неожиданные «коэффициенты» в смысле чувства произведений «преходящего момента» – и с «моментом вечности». Словно из будущего, из окончательного – народного взгляда на писателей, литературу, явления в ней смотрел он и это было порукой его безошибочности. Есенин, Пришвин, Паустовский, к многим другим он относился неожиданно строго – и это было не просто понять…».
Дальше у Кондратовича шли записи мыслей Твардовского о Бунине и Есенине, о Цветаевой и Мандельштаме. Запись о сборе редакции по обсуждению романа Троепольского…
Все это было интересно, но мне хотелось до конца проследить судьбу романа моего однокашника по Литинститутской альма-матер Николая Воронова «Юность в Железнодольске». Уже пролистал полтетради – казалось оборвался раз и навсегда этот своеобразный роман о романе, как сам Твардовский сказал. Впрочем, мне всегда хотелось именно такой роман написать – о всех превратностях судьбы, о всех злоключениях автора и его рукописи до того, как ей стать романом! Сверхзадача казалась мне не по плечу. И вот впервые мне подумалось, что я все же смог бы; что стоит лишь начать. Хотя бы об этом романе «Юность в Железнодольске»! Но все же это было ощущением минут. Всплеске уверенности, и снова сомкнулась гладь сомнений. Может, всего лишь вспышка вдохновенности, из тех, которые навещают поэтов, но так мало сулят труду прозаика!..
Я уже готов был закрыть тетрадь, когда снова мелькнули имя Воронова и название романа.
«Застал А.Т. за просматриванием корректуры номера. Я уже готов был прикрыть дверь, чтоб не помешать, когда А.Т. сказал – «заходи». Отложив корректуру, он стал изучать мое лицо. Я знал эту манеру его – додумывать таким образом те мысли, которые он собирался поведать мне. Точно соизмерял их со мной, с моим ресурсом понимания. Или даже так: с ресурсом понимания момента…
– Понимаешь, Алексей Иванович… Писателей можно условно поделить на… образных изобразителей (скажем так), и на интеллектуальных изобразителей. Тоже – скажем так. В чистом виде, конечно, редко встретить того или другого. Скажем, к первым можно отнести Шолохова, ко вторым Леонова. Это я по крупному счету. Сам здесь можешь выстроить два ряда, на свое усмотрение. Не о наличии, или отсутствии прямой философичности речь! О самом художественном методе. Скажем, без этой, «интеллектуальной изобразительности», не обходился, например, Грин. Ты понял – о чем я? Посреди написанного автор как бы задумывается, отвлекается ради общих философских раздумий. И о написанном, и о жизни. Забвение и себя, и читателей… Так вот, Воронов – хоть учился в Литинституте – ничему ни у кого, к счастью, не научился! В том смысле, как и Шукшину жизненность «помешала» выучиться кино во ВГИКе. Один в своем роде, – сравнения ничего не дадут здесь… Скажем, такое место. «С тех пор как я начал помнить собственные чувства, самым важным и постоянным моим чувством было то, что я сохраняю свою неотделенность от матери даже в разлуке. Во время побегов из дома единственное, от чего я страдал, было то, что я поступал вопреки неразрывности, которая существовала между нами. Но все-таки и в бегах ни движение, ни расстояние не прерывало нашей взаимосвязи. Должно быть, из-за этого я страдал сильнее других мальчишек от тоски и от того, что ввергнул мать в ничем не заслуженные тревоги, какие могут подорвать ее жизнь»…
Чувствуешь – о чем я? Ведь это не просто величаво-торжественно и вместе с тем скрытно-эмоциональная тирада-заставка для начала главы. Это философия? Образно-философская мысль? Наука? Да это, брат, самая что ни на есть поэзия!
– У Толстого то и дело встречаешь, – неуверенно заметил я. А.Т. не дал мне продолжить.
– Но здесь совершенно самостоятельно! «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»? Скажем, это место. На что только не способна художественная мысль! Именно высокогорная поэзия, толстовская пророческая вещательность – как бы поверх голов читательских, поверх рукописи, дальше своего момента времени…
Молодец он, Воронов. Сколько таких мест! Но, посмотри, об этом же, о чувстве матери в нас, на всю жизнь, кто только ни писал, – а вот нашел свою мысль и художественно точную, и точно научную! Тут и для психологов пожива есть. Истинная мысль, найдя истинную форму в прозе, – и без стихов – становится поэзией! У нее тут же и своя музыка, свое органное звучание… Трудное, голодное, военно-тыловое и безотцовское – заводское – детство ремесленника досталось Воронову – оно и стало его писательским богатством. Заметил я здесь два рода закалки. Либо – на всю жизнь напористый эгоизм, который у нас даже прикрывается подчас общественником, либо – на всю жизнь строгая, требовательно-понимающая, активная любовь к людям… К счастью, у Воронова второе… Есть такие мальчики в каждой школе, в каждом селе, которых все любят – и учителя, и однокашники, и сельчане, хотя сами мальчики эти меньше всего добиваются любви этой. Не обязательно, чтоб были отличниками в учебе, чтоб являлись признанными коноводами в играх сверстников, чтоб, наконец, нарочитостью тимуровца обратили на себя внимание взрослых. Нет, заданности или нарочитости меньше всего в них. Подчас и характер не из легких, и послушанием не отмечены, и поступки иной раз удивляют всех, а кончается тем, что такой мальчик, затем – подросток все равно заслуживает всеобщую любовь! Не встречал такое, Алексей Иванович?
Не будучи хулиганом, такой мальчик, а затем уже и подросток, подерется с отпетым хулиганом, чтоб защитить девочку, младшего или слабого. Не будучи вором или там блатогоном, он себе поставит некую «сверхзадачу» разыскать, или даже уворовать у вора, обыграть игрока, перехитрить жулика, чтоб украденное, умыканное, вернуть владельцу. Такой мальчик живет какой-то своей, заполненной всклень2 жизнью, из дел, забот, действий, весь натянут, как струна, сосредоточенно-подвижен, живой весь! Чаще всего он – из семьи многодетной, небалованный родительской лаской, наоборот, сам опора для младших в семье, для сестренок и братишек. Он и в играх азартен, находчив, но как-то играет, как бы шутя, как бы отдавая дань своему возрасту, сам же то и дело тянется к делам взрослых, он в них толков, нужен – его не только не прогоняют, как остальных мальчишек – «Ступайте отсюда! Вам здесь делать нечего!» – его зовут, с ним обращаются, как с равным, для него всегда находится какое-то особое дело, которое только ему можно поручить, чтоб было сделано! Мальчик такой вездесущ, он всегда там, где что-то делается, сбывается, свершается, где люди, заботы и дела их. Он поэтому всегда все знает точно, подробно, по-взрослому, и говорит, и мыслит он как-то по-взрослому, толково – это ранний опыт труда, мышцы и мысли, рук и души! И сельчанам, и учителям, и родителям долго невдомек, что мальчик во власти любви к людям, что уж таким сердцем, такой душой родила его мать, что растет из него человек с народным – самозабвенным – характером, и в этом вся тайна, вся загадка мальчика!
Тем скорее зреет – не годами, а этим, народным опытом – такой мальчик, что вокруг него живут люди в напряженном труде, живут общими интересами народа, хотя об этом не говорят, подчас не думают, отправляясь по гудку на завод, чтоб плавить сталь, точить снаряды, чтоб одолевать холод и голод, но выполнить дневную норму, долг перед своей рабочей совестью, – как это было в глубоком тылу, на заводах, в годы войны против злейшего врага человечества – против фашизма… Понимаешь, Алексей Иванович. Об этом всем думаешь, когда читаешь роман Воронова «Юность в Железнодольске». Именно таков главный герой романа Сергей Акимов, сперва мальчишка, затем подросток-ремесленник, наконец, юный рабочий металлургического комбината. Удивительно и то, что – не из того ли народного инстинкта? – Сергей так рано сумел избрать себе образцом человека, когда-то такого же мальчишку из большой рабочей семьи, когда-то опору младших, совесть ребячьей ватаги, без шума и показухи, готового на подвиг во имя справедливости, наконец, ратным подвигом завершившего жизнь на войне с фашизмом. Имя этому герою Костя Кукурузин. Так родители, рабочие, не словами, а личным примером, воспитывают нравственность и гражданственность в подрастающем поколении. Два героя, а знаю – таково детство автора!
Таких ребят, как Сергей Акимов обычно называют «сорванцами», «пострелами». В самом деле – это не просто живость натуры, любознательность, – это раннее формирование личности героя, в нем уже действует ядро личности. И образовала его жизнь людей – трудная, сложная, разнообразная, образовали судьбы семей, тесно сгрудившихся в бараках комбината, общность их единой судьбы, людей из вчерашней деревни, пополнившие рабочий класс, и сразу же, в войну, взявшие на свои плечи все тяготы страны, комбината, «все для фронта»… Помнишь, как Сергей появляется вдруг, – где? – взобрался на главный пост прокатного стана, где мама работала оператором. Захватывающая картина продвижения сляба3 по рольгангам! Вот она школа любви и мужества. А помнишь, как Костя Кукурузин ныряет в пучину, чуть ли ни кровь из легких, достает часы барыги, чтоб продать их, накормить всю ораву ребят? Триста граммов хлеба, иждивенческие карточки – голод. Как Сергей Акимов продает на рынке пайку хлеба, чтоб купить Васе, попавшему в колонию, ватные штаны: у него отмороженные ноги. А потом отдает пайку незнакомой ремесленнице, у которой вытащили карточки и «уже два дня ни маковой росинки»… Или как вся ватага спасает от смерти казаха из трудфронта, который от голода чуть не замерз на улице. Весь барак, подросток и женщины – что за женщины в романе! Что за терпение, самопожертвование, стойкость в труде для победы – оттирают снегом казаха, пока не ожил!
Когда редактор превращается в читателя, забывает в себе редактора, – по-моему в этом лучшая похвала писателю!
Зазвонил некстати телефон. Я пожалел, что А.Т. уже не вернется к нашему разговору, попытался сам его вернуть, по горячему следу, едва он положил трубку.
– Александр Трифонович, – сказал я, – мне Воронов показал письмо Катаева по поводу «Юности в Железнодольске». Я снял копию. Не хотите посмотреть? «Ну-ка, ну-ка! Интересно!» – протянул он руку за письмом. Я следил за выражением его лица. Там, где на нем появлялась улыбка, я знал – какого места письма она касалась. Письмо было на страницу, я его почти помнил наизусть.
«Дорогой Коля! Или, если Вам больше нравится, Николай Павлович, только что получил Ваше письмо из Риги. С 7 марта нахожусь на излечение в Кунцевской больнице – у меня давление, голова кружится и т.д. Скорее здесь не только лечение, но и профилактика.
Ваше состояние понимаю вполне и должен Вам сказать следующее:
«…Вы написали выдающуюся книгу «Юность в Железнодольске». Это не комплиментность и не преувеличение, а так оно и есть. Я считаю Вас выдающимся писателем. Если оставить в стороне те придирки, которые Вам учиняют и которые никакого отношения к искусству не имеют – по моему разумению! – то могу сказать, что с художественной стороны всё почти безукоризненно. Какие дивные описания! Какая точность, свежесть, правдивость, какая душа и сердце! Не имеет смысла перечислять все эпизоды, которые могли бы украсить книгу любого первоклассного писателя, включая и самых великих. Болезнь не позволяет мне написать более подробно, но смысл в том, что Вы высокий прекрасный писатель, художник, гуманист, и я счастлив, что Вы когда-то немного учились у меня нашему прекрасному писательскому ремеслу. Могу поздравить нашу русскую советскую литературу с появлением выдающегося писателя Н. Воронова.
Валентин Катаев.
К 10 числам буду уже в Переделкине. А Тане поцелуйте руку и покажите это письмо. Она может Вами гордиться. В.К.
5.4.1969.»
– Замечательное во всех отношениях письмо! Хорошо, что сняли копии. Ведь такая нужная, авторитетная рецензия. И платить редакции не надо, и упрашивать! Вот жаль лишь – «не имеет смысла перечислять все эпизоды». Хоть бы на некоторые указал! Всегда это любопытно: сравнить со своими, которые сам выделил. Эта рецензия тем особенно ценная для нас, что Катаев писатель совсем-совсем иного типа! А вот же – «иной», а понял, оценил «иного». Это очень дорого для нашей литературы! Я здесь усматриваю нечто более значительное! Закономерность, вытекающая из нашего образа жизни… Вспомните – кузнецы и серапионы, опоязовцы и рапповцы, лефы и никитинские субботники, имажинисты и пролеткульты – и никто никого не хотел понимать! Мы говорим «бесклассовое общество», «единая семья народов», и уже порой чувств никаких не изведав при этом. Столкнешься с таким, как-то сразу чувствуешь – как далеко мы ушли! И жизнь, и народ наш, и литература! Ни тебе эстетства, ни снобизма, ни отвлеченной книжности и интеллигентщины… Чувство литературы как общенародного дела! Уже никто не думает, что булки с дерева, молоко из сгущенки. Все живут общенародными интересами! «Высшее непонимание» между писателями сменило высшее – художническое, из общенародного масштаба – понимание жизни и литературы. Новый тип писателя! Социализм – породнение и взаимопонимание народов!
Порадовал меня Катаев – и пониманием своим, и щедростью. Вот, что такое «семья единая», что такое наш Союз писателей! Помнишь, Ленин когда-то писал: «Долой писателей сверхчеловеков!». Это против эгоизма и антинародности в литературе – прежде всего, о взаимопонимании писателя и народа… Мы тут немало добились, не правда ли, Алексей Иванович? А чиновники, «управляющие» литературой, чиновники и карьеристы с писательским билетом… Это – никуда не денешься. Надо бороться и научиться побеждать! Коммунисту, по-моему, нельзя без маневра! Что ж, Алексей Иванович, можно считать, битву за Воронова и его роман вели мы не напрасно. И победа наша – победа читателей… «Придирки никакого отношения к искусству не имеют…». Если бы так… Увы, имеют, и еще какое! В смысле, что мешают, портят, губят… Всегда так было. Не успеет родиться художник – а чиновник, точно лихой человек с кистенем, уже ждет его наперехват… Художнику, как никогда, нужно теперь быть бойцом. Потому, что дело его, как никогда, народное дело!..
И словно выверяя в уме сказанное, А.Т. помолчал, глядя в себя, в какую-то лишь ему видимую точку. Он вернул мне письмо Катаева. Дальше мы говорили о том, что нужно заключить договор с Троепольским…».
«Роман о романе» – кончился. Сколько ни листал дальше тетради – все было о другом. Интересном – но другом. Жизнь не стоит на месте.
Я подумал, что мой долг (пусть в любой форме!) написать о тетрадях покойного Алексея Ивановича Кондратовича. Не должны они, не могут пропасть втуне!.. В любом случае. Будет, или не будет назначена комиссия по литературному наследию критика… В любом случае – я обязан написать. Все отложу. Как это у Фадеева, у друга Твардовского сказано?: «…нужно было жить и исполнять свои обязанности»? Хорошо сказано. По сути – программа жизни, годная для каждого человека. И просто – и величественно…
О моменте красоты
От древности до наших дней – чтоб родилась великая гуманная мысль (в Древнем мире художественная и философская мысль еще не слишком разграничивались), видать, требуется и великое «во имя». По-видимому, нужно, чтоб – помимо всего прочего – были более благополучный и менее благополучный классы, чтоб первый, лучшие его представители, восставали против бесправия второго, сострадали ему. Знать, великая литература рождается великим страждущим чувством.
Скажем, Древняя Греция с ее первобытной демократией (и все же, демос – против олигархии), просуществовав около пяти веков, Древний Рим с его первобытной республикой (рабы и плебеи против патрициев), просуществовав около четырех веков, причем, почти одновременно, дали человечеству куда больше для гуманного мышления, чем, скажем, дала потом Византия с ее менее резко выраженным классово-сословным антагонизмом (не называя себя ни «демократией», ни «республикой»), просуществовав около одиннадцати веков!.. Не Эпоха Возрождения родила гуманизм, как принято считать, она его утверждала. Корни его столь же древние, как сам род человеческий…
Думается, одной из причин существования в России великой классики, ее общечеловеческого гуманного пафоса, в том, что у нее было это великое «во имя»!.. Сперва против самодержавия и крепостничества, затем против самодержавия и зарождавшейся власти денег, и всегда против бесправия и небывалых страданий самого массового и угнетенного класса в первую голову – крестьянства… Думается, нигде крестьянство не было так обездолено, как в России. Достаточно вспомнить, что Запад фактически не знал крепостного права над своим крестьянством, не знал и великую совестливость нашей литературы.
В нашем обществе давно уже нет классового антагонизма и прежнего – святым состраданием своим – «во имя». Но, к счастью, все же сохранилось от классики традиционное служение у нашей литературы – «во имя человека»! И пусть современные наши писатели сейчас не создают – каждый сам по себе – литературной эпохи, зато они создают образ небывало усложнившегося времени!.. А там, движущаяся история литературы многое уточнит в свершившейся истории литературы. Уточняется и традиционно почитаемая классика, многое значительное предстает из забвения. Начертательность процесса – и неоднонаправленная, и не прямолинейная!
Когда я думаю об Америке, о столь хваленом (самим собой) «американском образе жизни», мне каждый раз представляется наша жизнь в годы НЭПа. Вернее, та жизнь, которую тщился укоренить НЭП. Почему-то верится мне, что НЭП – модель сущности «американского образа жизни» – верна в основе своей. Модель общества эгоизма, «свободной инициативы» и потребления, денежного престижа и бездуховности, оргий мещанского засилья и обслужной, «коммерционный», культуры… И толпы нищих и бездомных, слепцов и погорельцев, батраков и городских безработных, ищущих тщетно возможности заработать на хлеб. Не по книгам, не понаслышке знаю это время…
…Мне было десять-одиннадцать. Среди НЭПовской роскоши, ресторанов, пролеток, мещанской полнокровности и денежной всепозволенности, среди бойких торгашей, их упитанных жен и детей, одетых «чисто» – и, главное, при пионерских галстуках! – я был всегда голоден. Опять мир делился на бедных и богатых… Мир моего детства.
Я знал множество способов, как заработать на пятикопеечную «франзолю» (французскую булку), на ломоть черняшки с солью, но подчас все способы «отказывали». Камышовые палочки, из херсонских плавней, вдруг переставали покупать, надоели – намозолили глаза избыточно-назойливым предложением, нас, мальчишек, гуляющие франты прогоняли с тротуара пинком в зад или затрещиной взашей, папиросы теперь продавали лишь блатняги, перехватившие у нас монополию с нашими «капиталами». Понятия «рэкет» тогда еще не было, нашими леденцами все брезговали: мы ими торговали от цыган-изготовителей…
Тогда я шел на самое унизительное, хотя и самое верное. Я шел на рынок. Увязывался за какой-то толстухой, раскормленной нэпманшей. Я их узнавал за километр. Я предлагал свои услуги: поднести с базара домой кошелку. Из кошелки выглядывала – пища, от одного взгляда на которую у меня кружилась голова. Я боролся с вожделением. Старался не смотреть на полукруг толстой и жирной колбасы, на печенье и драже, на персики и клубнику… Я перегибался в противоположную от груженой кошелки сторону, – тяжело дышал – и развлекал «мадам». Исчезло – «барыня», появилось «мадам»! Я развлекал ее рассказом. Это тоже могло быть учтено при оплате. Случалось, что художественная литература, как довесок к кошелке, вытягивала гривенник вместо пятака. А то вдруг в дом пустят, поесть даст мадам?..
«Тебе, мальчик, не тяжело?» «Нет, что вы, мадам!» Я пыхтел и рассказывал что-то из прочитанного. Начитанность, заметил я, почиталась, рассеивала сомнение на счет моей возможной причастности с урками, к шпане, к блатнягам. Что ж что у меня потрескавшиеся, в цыпках ноги? Я все же школьник!
– И вот Сильвио решил, что он будет с ним стреляться! Выстрел остался за ним!.. И он ждал удобного момента… Он хотел отомстить этому графу, которому во всем везло в жизни!.. Он был счастливчиком, этот граф! У них ведь, у дворян, – честь была превыше всего! Превыше жизни и смерти! Чуть что – стреляться! На дуэль!
– И что же, мальчик – это хорошо, ты считаешь? Или плохо?..
– А?.. Так я еще не кончил, мадам! Они все же стрелялись! Послушайте! По-моему, фикстулили4 этой честью! Вроде уркачей – очень уж о себе воображали! Не то, что революционеры, за свободу – за баррикаду! Да! Так дослушайте про Сильвио! Во дяденька был – на большой с присыпочкой!
– Ладно, рассказывай. Ты, вижу я, умный мальчик. Но мы уже пришли. Вот получай пять копеек. На мороженное. Или на иллюзион! Ступай, мальчик! А то во дворе – злая собака. Видишь, на воротах?
– Спасибо… До свидания, мадам… Вижу на воротах…
Все же – пять копеек, не гривна! Медь, а не серебро! Жадина – а не мадам! «Иллюзион»… Будто не знает, что билет стоит как раз – гривенник! Да и до него ли мне? В животе урчит – есть хочется. Всего лишь на франзолю заработал… Главное – такое пренебрежение к Пушкину! Пусть и в моем изложении. Но разве я не старался? О, буржуазка недорезанная! «Тебе не тяжело, мальчик?..».
Я с ненавистью смотрел на уходящую даму «мадам», на ее плавно и самоуверенно колыхающиеся круглые бедра, на жирный загорбок вместо затылка, на пронизанный шпильками пук подвязанных золотистых волос, напоминающий подвязанный конский хвост битюга, наконец, на широкополую шляпу-панаму с голубой лентой… Почему, почему – я «умный мальчик», – а стою только пятак, а она, эта розовая бочка с потрохами, которая даже «Выстрел» Пушкина не читала, ест сытно и жирно, все-все на свете – для нее, а в сумочке ее, расшитой бисером, – не то, что серебро, бумажные купюра, которые мне и не снились?..
Железные ворота с острыми шипчиками сверху. Точно зáмок за ними? Какой-то сюжет Вальтера Скотта? На воротах – табличка. На ней голова собаки с разъявленной пастью, с белыми клыками. «Во дворе злая собака». Где́ я – и где́ «мадам»? Неужель мы в одном мире?..
Обида – за пятак вместо гривенника, за невнимание к Пушкину, за что, что «розовая бочка с потрохами» так уверенно проносит себя «по волнам жизни» – растет во мне, душит меня (не это ли есть «классовый инстинкт пионера»?). Рифленым ребром пятака я, после слов на жестянке «во дворе злая собака», царапаю: «и злые люди»!
О Хемингуэе, о Фицджеральде встречаешь подчас весьма объемные добросовестные исследования. Но, как иголку в стоге сена, не найти в них ту простую мысль, что трагедия художников, как всегда, и в этом случае, в отсутствии – «во имя»! Они ведь познали успех, утвердились как мастера, но на что употребить себя дальше не ведали. Дарование – без «во имя» – убивает художника! Выжить здесь дано слабому, неорганичному, адаптирующемуся дарованию, или беллетристу, которому органичное дарование не далось. Между тем подлинное – органичное – дарование растет, крепнет, и неизбежно (как однажды хищник – прыгнув на горло дрессировщика!) вопрошает роковое: «зачем?». Речь о духовных целях в жизни общества…
По существу, (каждый их них по-своему) оба всю жизнь искал это «зачем?». Искали и во внешней действительности, и в своей личности, и в своем художническом осуществлении. Хемингуэя поиск бросал от Интернациональной бригады в Испании до рыболовных и охотничьих «страстей-наполнений» (нечто среднее между Конрадом и Джеком Лондоном), Фицджеральда – от чтения Маркоса до Голливуда… Но снова и снова перед ними представала действительность, «американский образ жизни», оптимизм торгашества, мещанско-буржуазное предпринимательство с его эгоизмом. Действительность, исключающая по существу своему художника! Никакой, стало быть, особой трагедии, кроме все той же – Художник и Американская действительность: их несовместимость… Художнику нужны сокровенные, духовные цели в обществе!
И зря исследователи драматизируют обстоятельства внешней жизни и творчества, пытаются из них сложить: «причину». Трагедия вырастала из общей бездуховности общества, из его жизни в никуда, это она прыгала на горло художника! «Железный Миргород», от которого спасался бегством на родину Есенин, задушил своих талантливых и честных художников слова. Знать, для художника – дух властвует над материей!
Дружба молодости между Фицджеральдом и Хемингуэем, кончилась, как известно, последующим довольно резким отчуждением. Думается, тут главным было, больший социальный опыт Хемингуэя, с одной стороны, и то, что Фицджеральд, с другой стороны, почти до конца дней пытался внушить себе, что как художник сумеет одолеть духовную отчужденность общества, даже сумеет адаптироваться к его бездуховности.
Тридцатилетний Фицджеральд, например, писал: «А вам не кажется, что американские миллионеры с их деньгами умеют повеселиться на славу?.. Представьте себе, что вы можете купить все, что душе угодно… Как я люблю все яркое и дорогое!».
Думается, Фицджеральд тут больше надеется «уговорить себя» в своей буржуазности, чем в самом деле имел склонность к ней. С современной ему капиталистической цивилизацией он не просто боролся, он пытался ее «укротить», «приспособить» – даже «клал голову в пасть», как тот же дрессировщик, с беззаботным видом будто бы, это делает на глазах публики с хищником…
Недаром, знать, он пытался совместить призвание художника с «коммерческим писательством», недаром известный прогрессивный американский критик Брукс как-то напрямик спросил Фицджеральда: «А не поглотила ли вас капиталистическая цивилизация, причем так ловко, что вы и не заметили?».
Но первым это заметил друг Фицджеральда – Хемингуэй, не просто переживший своего старшего друга на два с лишним десятилетия, но успевший пережить главное разочарование в капитализме, в недрах «материального успевания», которого, вслед за империализмом, созрел фашизм. Фицджеральд слишком долго не расставался с надеждой на «улучшенный капитализм», на новую его «молодежную стадию». Иллюзии эти оборвались вместе с жизнью именно в канун Второй мировой войны. Не случайно трудно говорить об одном писателе, не обращаясь ко второму. Дело не в дружбе, – два художника как бы шли в творчестве своем по общим ориентирам – глубокого разочарования в буржуазных ценностях, из сознания тупика и крушения главных принципов материального преуспевания, из острых поисков прочных истин о мире и человеке. Но Хемингуэю удалось уйти дальше по этим ориентирам, обрести новый опыт жизни и творчества, что и ускорило его трагичный конец.
Герои их книг борются с действительностью. Но и сами художники – их жизнь, – может, самая яркая и убедительная книга о той же борьбе, где победа, в такой действительности, возможна лишь нравственная… Жизнь каждого истинного художника поэтому не просто поучительна – она неотделима от художественного мира его книг, она придает им логическую законченность.
Отметим еще одну любопытную черту из биографии Фицджеральда: – в чем он пытался «уговорить» себя, найти «примирение» с главным моральным принципом капитализма, его «успехом» в годы «просперити», – от этого он на протяжении семи последних лет, он «певец потерянного поколения», со всей страстью пытается сберечь дочь в обширной переписке с нею! В этих письмах, в главах недописанного романа «Последний магнат» – неутихающая борьба писателя за то, чтоб новое поколение американцев не было потерянным для истории…
Еще раз вчитываюсь в страницы биографии Френсиса Скотта Фицджеральда. Самого знаменитого романиста эпохи американского просперити, «эпохи джаза», то есть двадцатых годов. И самой, пожалуй, драматичной фигуры их литературы. Жена, еще совсем молодая женщина, кончает свои дни в психиатрической клинике, единственная дочь учится в далеком городе, в отцовских письмах то и дело назидания, мольбы, воспитательные филиппики – о необходимости быть экономной, о разумности перевода в менее респектабельный, низкооплачиваемый колледж. Сам Фицджеральд так изношен и «испит», что умирает от инфаркта в возрасте сорока четырех лет…
Вроде бы не знал нужды писатель, даже в самые кризисные для творчества годы он зарабатывал подчас по две тысячи долларов в неделю в Голливуде… И все же – душевная болезнь жены, нескончаемы нервные расстройства, «запои», инфаркт, наконец… И все вроде бы не столько из творческих, сколько из бытовых неудач!
И вот, начинаешь понемногу понимать причину истинного безумия этого «безумного мира», имя которому: Америка! Благополучия самого по себе там нет, оно всегда относительное, всегда требуется иметь больше, чем имеешь, всегда человек ставится перед необходимостью изнурять себя, надрывать физические и духовные силы в неостановном «делании денег»! Общество, его уклад, его мораль – все, как бич, всех стегает, гонит в этом марафоне успеха. Остановиться невозможно! Поистине – «безумный, безумный, безумный мир!». И если воспитание, если склонности и привычки – останутся все теми же, буржуазными, здесь и талант не спасение, он затягивается на коммерцийный круг жизни, и еще скорее губит человека! Такова подоплека мишурно-бутафорного рая на земле: Америки. Такова по существу ее липовая романтичная реальность. Фицджеральд видел разительные противоречия в американском образе жизни, писал об этом, но так и не успел прийти к понимаю его – неестественным. Подчас он называл себя – «марксистом». Разумеется, дело даже не в том, сколько прочел и освоил писатель из Маркса. Главное, думается, в том, что он, при всем незаурядном даре своем, все же был очень далек от тех, кто создает все блага жизни, кто в этом процессе и дальше всех уходит в самом понимании жизни и ее сложных основ, был далек от человека труда и его миропонимания. То, что давало ясность мысли, нравственную опору всегда оберегало от духовной драмы Сент-Экзюпери и довольно часто Хемингуэя, того, к сожалению, не было в Фицджеральде.