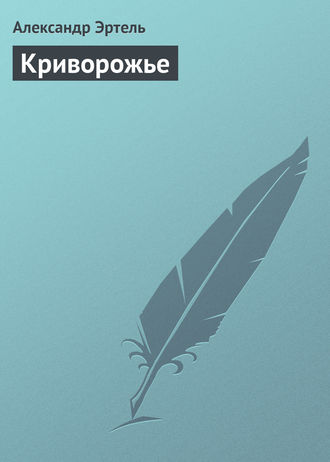
Александр Эртель
Криворожье
– Где же?
– Ну, где-нибудь, ну, положим, в земле Войска Донского; это будет земля Войска Донского, – он указал на конец своего прекрасно вычищенного сапога. – Я, разумеется, за идею. Масса, так сказать, должна быть вдохновлена. Итак, я всепокорнейше обращаюсь к Иван Сергеичу и к Алексей Сергеичу. Действуйте, Иван Сергеич и Алексей Сергеич! – говорю я… И тот и другой набирают массу славянофилов и прибывают в стан. Там уж повсюду, знаете ли, хоругви, эстрады («вышки» – в скобках перевел Семен Андреич), колокола, крики «ура» и «живио». Прекрасно. Начинаются речи. Идея проникает солдатские организмы. Представьте себе, армия движется одним чувством идти и умереть. Пользуюсь моментом. Эйн, цвей, дрей, налево кругом, ма-арш!.. Не забывайте, что это Дунай, – еще раз напомнил мне Гундриков, указывая на колено. – Армия идет, Комаров идет, Черняев идет, Иван Сергеич и Алексей Сергеич говорят речи, музыка гремит «Славься сим Екатерина» (непременно «Славься сим», – настоятельно повторил он), – хоругви развеваются по ветру, солдаты ликуют… Дунай! Черняев перешагнул, Комаров в резерве. Турки бегут. Австрия разбита (о, эта Австрия большая каналья). Славяне освобождены. Акт присоединения торжественно совершается в святой Софии. Иван Сергеич – наместник Болгарии, Алексей Сергеич – сатрап Македонский… Помилуйте-с, превозвышенные дела!
Пекло так сильно, что мне и возражать не хотелось. Я промолчал. А между тем Гундриков горячился. Он засел на любимого конька и теперь летел на нем, не смущаемый жарою.
– Помилуйте-с, что же это такое! – восклицал он. – Двадцать лет, целых двадцать лет мы сидим дома… Ведь у нас совсем и слава извелась… Да, положительно перевелась слава. Что мы, в самом деле, или уж взаправду мужицкое царство? Нет, не мужицкое мы царство, а царство военное-с, и на этой точке стоять должны твердо…
– Что же по-вашему – воевать?
– Воевать! – воскликнул Семен Андреич. – Всенепременно воевать!.. С нашим народом да не воевать? Помилуйте-с… С нашим народом и дел других подходящих нету, кроме как воевать… Представьте себе, что такое наш народ? Да железо, кремень, устой гранитный!.. Вспомните, что Наполеон о солдате-то нашем сказал? а!.. А вы толкуете…
И, помолчав, продолжал даже с некоторой сладостью:
– Нет, Николай Василич, наш народ знать надо-с!.. Ох, до тонкости нужно знать наш народ!.. Суворовы, Филареты[4], Погодины[5], – это, батенька, не шутка. Наполеон говаривал, что-де поскребите русского, татарин будет. Нет, брат, поскреби-ка его, попытайся – ан и увидишь, герой в нем сидит… В каждом русском, в каждом мужике сиволапом герой сидит!..
В это-то время мы поравнялись с тем кабаком, у дверей которого пьяный мужик орал песню.
– Вот вы глядите на него, – указал мне Гундриков, – пьян до того, каналья, на ногах чуть держится, а дайте-ка вы ему штык в руки да закричите «ура»? – он вам не токмо турка, черта протурит в Азию… Ведь чем он дорог, русский человек? Простотой своей, батенька, дорог. Теперь возьмите вы солдатскую точку зрения. Представьте вы солдата-немца. Хорош солдат-немец, да привередлив больно. И елку ему, шельме, устрой, и сапоги с подметками предоставь, и колбасой его, ракалиона, начини… Совсем неподходящий человек!.. Ну, и представьте себе – француз. Француз тоже прихотливый человек. А ведь нашему-то чем меньше жратвы давать, тем он ядовитей становится!.. Соли у него нет – порохом солит, мяса нет – конину кушает. Сухарь ежели с песком у него – он храбр, а ежели окончательно гнилой – он еще храбрее. Вот ведь чем дорог-то он, русский человек, – логикой-то своей он дорог! Совсем необыкновенная у него логика. Так с этаким человеком да не воевать – помилуйте-с!.. Я и говорю: воюй, покуда не изнежился он, покуда сапог да колбасы не запросил… и это пуще всего!..
И на этот раз не возразил я Семену Андреичу.
– Или опять, говорят иные, немец умен, – продолжал он, как бы внутренне раздражаемый моим молчанием, – о господи ты боже мой! а русский-то – или вы забыли? Представьте себе сметку русскую, представьте вы изворотливость нашу, наше знаменитое «себе на уме»!.. Да недалеко нам за примером ходить, возьмем мы в пример вот мельника этого, к которому едем, человек он скотоподобнейший, а такую штуку удрал – Ньютон позавидует…
– Какую же штуку?
– А простую штуку. Вот ныне у нас как есть настоящий голод, а в прошлом году родилось просо. Представьте вы себе: ничего не родилось-одно просо родилось. Ну, и начал он по осени просо это скупать. Больше ничего, как скупать! Дела все бросил, а одно – скупает просо и шабаш. Ну, и дешево скупил. А нынче с весны пшено стал работать. Штука простая. Ну, и представьте себе, что он с этого проса нажил?
Гундриков смерил меня торжествующим взглядом.
– А двадцать пять тысяч, батенька, нажил, да еще, пожалуй, десять наживет. Вот оно как… У других мельницы стоят – работы нету, а он прошлогоднее просо рушит себе полегоньку да сплавляет в Москву. Больше и делов у него никаких нет – рушает и сплавляет. Штука простая… Пятьсот рублей от вагона берет!.. Так-то, батенька вы мой. Вот какие у нас народы!..
Он помолчал в некотором раздумье, но затем снова как бы спохватился:
– Да его ли одного взять… А Чумакова, Праксел Алкидыча, вспомните, министр ведь, положительный министр. Да все они министры, – в каком-то восхищении воскликнул Гундриков, – и не кулаками обзывать их, а именно министрами… Какой он кулак, помилуйте-с! Он умственный человек. Он, ежели дать ему простор, Бисмарка[6] за пояс заткнет… Он, ежели ему удержу нету, не токмо Турцию, всю Европу в катух[7] оборотит. Он и немца вашего выжмет, это будьте спокойны!..
Тут Семен Андреич снова как бы спохватился и голосом, даже звенящим от радости, произнес:
– Да вот опять недалеко ходить – Малафейка кабатчик. Я вот вам расскажу про этого Малафейку! Повадилась к нам берлинская немчура ездить свиней скупать. Ну и, представьте себе, влез к этой немчуре Малафейка в доверие. Переводчик у них есть, а местов они наших не знают: где свиньи, где что… Малафейка их и водит по местам. С них за комиссию рубль, с продавца за комиссию два. Ну и повел он дело это так оборотисто, что берлинцы-то ездить к нам перестали, а Малафейка землю купил да по второй гильдии записался. Вот оно как бывает, батенька, а вы говорите – немец! Далеко немцу до нашего брата серячка…
Для деликатности я почел, наконец, долгом помычать. При некотором желании мычание это могло быть принято и в смысле одобрительном. В этом последнем, по всей вероятности, принял его и господин Гундриков. Он сладко и свободно вздохнул, расправил колено, изображавшее Дунай, и в виде заключительной сентенции произнес:
– Ну, я и говорю, дайте вы этому самому Малафейке простор, разрешите вы ему распоясаться, представьте себе: распоясался Малафейка – так он вам не токмо Махмутку-султана, Меттерниха[8], если бы жив был, с костями слопает.
Наконец мы приехали.
Собственно Криворожьем называлось село; мельница же, куда мы и держали путь наш, была за селом у большого широкого пруда. Благодаря ли влажности, непрерывно проникавшей воздух около воды, но, подъезжая к мельнице, мы, как бы по уговору, испустили радостный вздох. Посреди спаленных нив и тоскливых деревень с полузасохшими ракитами мельница казалась каким-то раем. Густые купы ветел окружали ее со всех сторон и длинным рядом тянулись по плотине. Красные крыши мельничных построек весело выделялись среди сочной и темной зелени этих ветел. Вода подступала к самым постройкам и, горячим блеском сверкая на солнце, под тенью густой листвы отливала изумрудом. Здесь и там, около берегов и посередине пруда, с сонной неподвижностью зеленел камыш.
На мельнице было тихо. Только вода из скрыни, с каким-то меланхолическим журчанием падая на колесо, нарушала эту тишину, да изредка в одном из амбаров глухо стучали толкачи, через долгие перерывы тяжко низвергаясь в ступы.
Не было видно ни души. Правда, при нашем въезде на двор мельницы и при дребезге нашего экипажа высунулась какая-то голова из дверей одного амбара и загремела цепью лохматая собака, но голова снова спряталась, а собака, погремев цепью, отчаянно зевнула и опять скрылась в свое логово.
Тень старых, развесистых ветел скрывала весь двор мельницы. Было свежо и даже несколько сыро. Мы с наслаждением вдыхали этот прохладный воздух, который нам, пекшимся на солнце в продолжение добрых двух часов, казался истой благодатью.
– Ла-за-арь! – наконец воскликнул Гундриков, не вылезая из тарантаса.
Никто не ответил на громкий возглас. Семена Андреича даже зло разобрало.
– Лазарь! Черт! Парамоныч! – закричал он. На этот раз из амбара вылез человек, весь обсыпанный мучною пылью. Он лениво почесал лопатками спину, оправил ремешок на спутанной голове и не спеша пододвинулся к нам.
– Вам кого? – вяло осведомился он. Независимый вид его и совершенное отсутствие какой бы то ни было почтительности почему-то рассердили Семена Андреича.
– Представьте себе, спрашивает, а? – обратился он ко мне, гневно разводя руками, и затем закричал: – Черта нам, дьявола нам нужно, понимаешь, а? свинья, – кому говоришь, кого спрашиваешь? Лазарь где? Где Лазарь?
Пыльный человек слегка подтянулся, но особой предупредительности не обнаружил.
– Это, то ись, вам Парамоныча надоть? – спросил он.
– Да, то ись, Парамоныча нам, – саркастически ответил Семен Андреич, еле сдерживая негодование.
– А Парамоныч в роднике сидит, – равнодушно ответствовал пыльный человек.
– Купается?
– Чай пьет.
– Вот свинья! – сорвалось у Гундрикова.
– Зачем же его в родник-то занесло? – спросил я.
– Жара, от жары спасается.
– Ну, а супружница где?
– Устинья Спиридоновна?
– Да.
– И Устинья Спиридоновна в роднике.
– И она чай пьет?
– И она кушает.
– Ах, дуй вас горой! – плюнул Гундриков и полез из тарантаса.
– Стало быть, и она в воде? – спросил я.
– Как способней. Больше на бережку.
Успокоенные этим «больше на бережку», мы расспросили, где родник, и, отдавши Григорию необходимые инструкции, отправились туда. По уходе нашем со двора мельницы там послышались голоса. Я остановился и прислушался. Один из голосов принадлежал бабе и, видимо, был встревожен.
– Мартишка! – взывал он торопливой скороговоркой, – ай управитель приехал?
– А шут их тут! – флегматично ответствовал пыльный человек, оказавшийся Мартишкой.
– У, оморок!.. Из себя-то пузат?
– Пузо – ничего.
– Сердит?
– Серчал. Ругается здорово.
– Ну, он и есть. Ахти мне окаянной – утятина-то у меня перепрела!.. Куда поперся-то?
– К роднику.
– Один?
– Двое.
– А-а-а… Кто же другой-то буде?
– А шут их тут…
– Какой он из себя-то – рыжеватый? – горячо подхватил бабий голос.
– Рыжеватый-то он рыжеватый.
– Длинноватый?
– Тоже как будто есть…
– Ну, знаю, знаю. Это дьякон с Лущеватки! – затараторила опрометчивая баба.
– Еще чего? – угрюмо оборвал Мартишка бабу и затем, посулив ей некоторую неприятность, медленно поплелся в амбар. Его, видимо, разозлило легкомыслие бабы. Впрочем, не доходя до амбара, он остановился и в свою очередь покликал ее:
– Степах!
– Чего тебе?
– Так перепрела, говоришь?
– Утятина?
– Утятина.
– Ох, перепрела!
– Тэ-эк…
Они немного помолчали.
– Степах! – произнес Мартишка, вдруг ниспуская голос свой до тонов слабых и мягких.
– Ну?
– Ты ее тово… Волоки-ка ее в амбар.
– Утятину? – удивилась Степаха.
– Утятину…
– Ах, нечистый тебя расшиби!
Послышался тихий, раскатистый смех. Степаха, захлебываясь этим смехом, еще раз в изнеможении повторила: «Ах, нечистый тя… Ишь что обдумал!..» и затем все смолкло.
Родник, где утешался чаем Лазарь Парамоныч, отстоял от мельницы минут на пять ходьбы. Кругом скрытый густыми деревьями, он долго был не виден нам. Мы шли, шли по бережку ручья, вытекавшего из-под мельничных колес и, наконец, стали в тупик.
– Откликнись, Лазарь, где ты? – несколько раз взывал Гундриков, и, кажется уже на пятый возглас, Лазарь откликнулся. Руководимые откликом этим, мы тотчас же пришли к роднику. Оригинальная картина предстала пред нами. Родник был превеселое место. Вообразите вы полукруглую котловину, примыкающую к ручью. Берега этой котловины круты и обрывисты, и только внизу, у самой воды, окаймлены пологой почвой, усеянной свежею травкой и цветами. Песчаное дно котловины, выше колена покрытое дивно прозрачной водой, белизною подобно снегу и мягкостью напоминает бархат. Громадные белые камни, похожие на стволы, лежат в воде. Из-под них стремительно бьют ключи. Кругом котловины зеленеют молодые кудрявые дубки, а противоположный берег обступают густые ивы.







