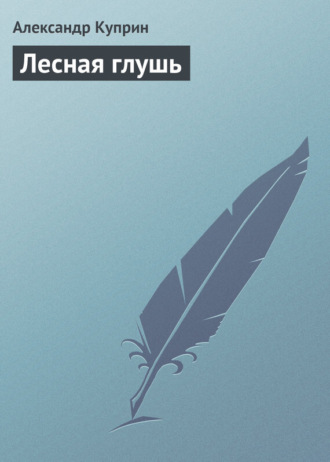
Александр Куприн
Лесная глушь
Вокруг меня со всех сторон еще токовали невидимые мне тетерева, но все тише, все слабее. Наступало затишье, которое бывает всегда между первым и вторым током… Заря разгорелась в полнеба. Солнца еще не было видно, но верхушки высоких деревьев уже подернулись точно золотой пылью…
Через час мы возвращались домой. Талимон, который стрелял два раза – один раз передо мною, а другой во время второго тока – убил двух тетеревов, я одного, а сотский возвращался с пустыми руками и потому заметно дулся и не хотел глядеть на дичь. Талимон из крыльев каждой птицы выдернул по два пера, просунул их толстыми концами в носовые отверстия тетеревов, тонкие концы связал и нес таким образом дичь, как бы на петлях.
Нам оставалось до деревни не более полуверсты, и мы подходили уже к большому деревянному кресту, стоявшему на пересечении зуленской и печаловской дорог. Эти кресты, с прибитыми на верху их, сделанными из дерева орудиями страданий Христовых – копьем, лестницей, молотком и тридцатью сребрениками, – всегда можно увидеть на перекрестках полесских дорог. Снизу на эти кресты молодицы и девки вешают сшитые ими по обету пестрые фартуки и полотенца, что придает кресту своеобразный – дикий и живописный вид.
Когда мы поравнялись с крестом, то все трое заметили фигуру какого-то человека, бежавшего нам навстречу из деревни. Талимон своим зорким глазом первый узнал его и сказал, обращаясь к сотскому:
– Это ваш Грицко бежит, сотник.
Действительно, это был Грицко, сын сотского, малый лет восемнадцати, уже женатый, большой весельчак, вечно скаливший свои огромные, белые, как у молодой собаки, зубы.
– Тату! Тату! – закричал он еще на ходу. – Бежите скорей… у нас на селе беда!..
– Что там за беда? – недовольным голосом отозвался сотский. – Яка така беда?.. Грицко добежал до нас и продолжал, с трудом переводя дух:
– Великая беда, тату… чоловик один… жинку свою убил…
Мы переглянулись, и одна и та же мысль мелькнула у нас в глазах. Мне показалось, что Талимон побледнел.
– Ат! Что ты брешешь! – воскликнул сотский, делая строгое и важное начальническое лицо. – Какой чоловик? Когда убил?..
– Александр, тату. Ониськин чоловик…
– Да когда? Когда, я тебя спрашиваю? – закричал сотский. Он прибавил шагу, и Грицко едва поспевал за ним, пускаясь по временам вприпрыжку. Мы с Талимоном тоже пошли скорее.
– Ах, боже мой, боже ж мой, – растерянно причитал Грицко. – Вот только, только – и часу не будет… Сам пришел под хату к Кузьме Борийчуку, вызвал Кузьму и каже: «Вяжите меня, бо я свою жинку забил геть до смерти!., секирой…» Я и Ониську бачил, тату… Ку-у-да!.. Вже и не дышит… Мозги вывалились… Люди говорят, что он фершала с ней застал…
Подходя к деревне, мы еще издали увидали большую толпу, собравшуюся на монопольной лужайке. Все галдели разом и без толку. Бабы, подперши ладонью левой руки щеку, а правой поддерживая левую за локоть, стояли сзади мужиков, в этих неизменных позах русского женского горя, и всхлипывали. При нашем приближении толпа расступилась на обе стороны, образовав род широкой дорожки. В середине круга на деревянном обрубке сидел Александр. Он был без шапки, с бледным, испачканным чем-то темным – может быть, даже кровью – лицом. Увидя нас, он поднял голову и вдруг улыбнулся. Странная это была улыбка – мучительная, болезненная, невыносимо тяжелая… Я поспешно прошел мимо, дальше от этой ненавистной мне толпы, которая всегда с такой омерзительной жадностью слетается на кровь, на грязь и на падаль…
Уже подходя к своей квартире, я слышал, как сотский безобразно орал пронзительным начальническим фальцетом:
– Ты людей убивать, сукин сын! Я тебе покажу, ирод проклятый. Грицко, бежи за веревками… Я т-тебе пока-жу-у!..







