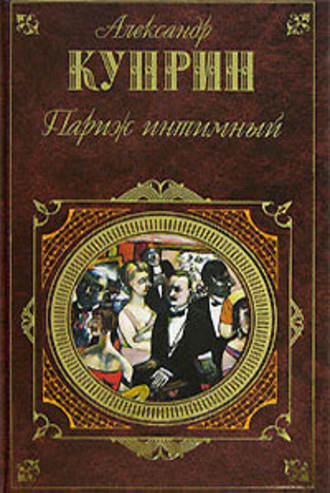
Александр Куприн
Жанета
VI
Профессор вытягивает перед собой небольшую, но мясистую ладонь правой руки, всю исчерченную, изрезанную, изморщенную множеством переплетающихся линий, бугров и трещин. Такая рука, вылитая в бронзе, есть только у Бальзака, в музее его имени в Париже, на улице Raynouard, рука великого человека, все знавшая, все испытавшая, все ощупавшая, все испробовавшая, все измерившая и взвесившая и тем не менее прекрасная и живая даже в металле.
Профессор Симонов любит Бальзака больше всех иностранных авторов и нередко посещает его скромный музей. Но ему и в голову никогда не приходило сличить его руку со своей. Всего больше в этом простом и маленьком хранилище занимает профессора висящая на стене рамка, в которую вставлен четырехугольный лист ватманской белой бумаги с красивой надписью, сделанной самим Бальзаком:
Ici
Un
Rembrandt [10]
Эта наивная любовная надпись всегда умиляла профессора почти до слез, а потому он никогда не брал с собою в музей скептического и слишком земного Николая Евдокимовича.
Профессор долго и внимательно смотрит на свою бальзаковскую ладонь, слегка улыбается нежной старческой улыбкой и беззвучно говорит:
– Вот здесь, вот именно здесь, заблудилась ее крошечная, так мило жесткая и грязная ручонка. И как она потом нетерпеливо карабкалась, чтобы выбраться на свободу. Ну совсем точно маленький, вольный, подвижной зверенышек. О, чего же стоят все утехи, радости и наслаждения мира в сравнении с этим самым простым, самым чистым, божественным ощущением детского доверия.
Чтобы яснее вызвать образ маленькой чумазой Жанеты, профессор на минуту плотно зажмуривает глаза и вдруг слышит язвительное ворчание Николая Евдокимовича, этого вечного брюзги, нестерпимого указчика и надоевшего близнеца:
– Ах, господин профессор, господин профессор. Сколько мы с вами за нашу долгую жизнь рассыпали фантастических глупостей по всем долготам и широтам земного шара. И вот, извольте: на почтенном закате дней своих вдруг взять и ошалеть от восторга при виде какой-то грязной, замурзанной шестилетней уличной девчонки, похожей на желторотого птенца. Вот уже третий день идет, как мы крутимся около газетного киоска и без толку покупаем утренние, дневные и вечерние журналы в надежде вновь увидеть, хоть мельком, измазанную детскую мордашку и поймать ее лукавую улыбку. И на свою правую ладонь мы не устаем смотреть с блаженным умилением буддийского святого, взирающего на свой пупок.
Ну да – все это мило, хорошо и трогательно, тем более что вы человек с душою абсолютно, химически, чистой. Но согласитесь, господин профессор, с тем, что наше буколическое увлечение, пожалуй, может показаться нелепым и смешным, если на него посмотреть со стороны зорким и скептическим взглядом.
– Ну и пусть кажется. Какая мне забота до дураков и бездельников и до их свинского воображения? Мои годы, мои седины, моя безукоризненная жизнь – вот моя порука! Свиньей, вроде тебя, мрачной и гнусной свиньей, будет тот, кто усмотрит грязь в том, что меня чуть не до слез умилила эта забавная, чудесная, славная девчурочка. И все тут. Баста!
«Все тут, и баста, все тут, и баста», – шипят качающиеся, переплетающиеся ветви.
Николай Евдокимович сдается:
– Да ведь я что же, господин профессор? Я оскорбительного для вашей чести ничего не говорю. Я только хочу сказать, что у каждого народа есть свои нравы, обычаи, навыки, суеверия и приметы, которые куда как мощнее писаных и печатных законов. И вот тут-то иностранцу, да еще бездомному эмигранту, укрывшемуся от позора и смерти под дружеским, верным и сильным крылом, должно с этими неписаными адатами обращаться как можно осторожнее и деликатнее.
– Перестань, старая шарманка, – раздраженно восклицает профессор, и трепещущие листья повторяют за ним: «Старая, старая шарманка!» Но давнишний лабораторный служитель не сдается.
– Да вы же сами помните, господин профессор, как вы выразили перед хозяйкой киоска свой милый восторг перед ее очаровательной дочкой Жанетой. И как она в ответ на это зачертыхалась? В ее чертыхании вовсе не было зла против вас или Жанеты. Нет, здесь заговорила бессознательная, инстинктивная, многовековая память о борьбе со злыми ларвами в языческие времена и с мерзкими кознями дьявола в эпоху первого, грубого христианства. Эта почтенная женщина, видите ли, услышав вашу горячую похвалу ее дочке, бессознательно испугалась, – а вдруг у вас дурной глаз. А вдруг вы Жанету сглазите. А вдруг дьявол услышит вашу искреннюю похвалу милой девчурке и от злой ревности возьмет и испортит ее: сделает ее кривобокой, или наведет на ее лицо какую-нибудь гадкую сыпь, или скосит ей глаза. А что касается дурного глаза, то разве не вы сами, господин профессор, девять лет назад поместили в одном теософском английском журнале полунаучную, полумистическую статью под псевдонимом «Немо», в которой интересно и весьма обстоятельно доказывалось, что из множества эманаций, выделяемых человеческим организмом, едва ли не самыми мощными флюидами являются флюиды, излучающиеся из человеческого зрачка, столь близко расположенного к мозгу. Через глаза передаются гипнотические волны, и не зрение ли, соединившись с воображением, ткет глубокой ночью цветистые, многообразные сны? И наконец, вовсе не выдумка безответственных романистов (как вы сами говорили) способность человеческих глаз к удивительным световым эффектам. Да, действительно, глаза человека, в зависимости от душевных эмоций, могут сиять, блестеть, вспыхивать молнией, жечь, пронизывать, наводить ужас и повергать ниц. И эту чудесную силу их открыли еще бог знает в какой глубокой древности всё видевшие, всё замечавшие и запоминавшие народы, самые наименования которых стерлись из истории, но которые оставили после себя несокрушимые устные предания. Романисты только ограбили неведомых предков без пользы для себя, между тем как у спокойного простонародья старая мудрость и великий опыт сохранились в темных приметах и суевериях. Вот и спрашивается теперь, господин профессор: правы ли вы были, рассердившись на экспансивную мамашу вашей ненаглядной Жанеты?
Профессор ударяет железным наконечником палки по дорожке, и гравий визгливо хрустит.
– Замолчи, несчастный попугай, собиратель старой рухляди, умеющий только превращать в ходячую пошлость все, до чего коснется рука твоя.
Ветер становится все более тяжелым и упругим. Дышать трудно даже в обильном зеленью лесу. Огромные, старые, вековые деревья, когда-то видевшие под своею сенью Виктора Гюго, Альфреда Мюссе, Бальзака и обоих Дюма, недоверчиво и устало поскрипывают и недовольно кряхтят. Небо потемнело, и по нему быстрыми взмахами летят группы странно больших, черных, зловещих птиц. Во всей природе какое-то мрачное ожидание. Профессора томит приближающаяся буря. А тут еще этот неугомонный филистер, скучный хранитель буржуазной морали, этот вечный суфлер и наставник, двойник, с которым никогда не расстанешься и который всегда будет тащить свободную душу профессора по истоптанным путям спасительной боязни, благоразумного умалчивания, политичного воздержания, всегдашнего согласия с большинством, повторения ветхих, заплесневелых истин, казенных улыбок и лицемерных похвал высокостоящим болванам. И профессор взрывается, подобно брошенной на землю петарде:
– Никого я не хочу ни знать, ни слушать! Что дурного или предосудительного в том, что всем моим сердцем и всеми моими мыслями завладела маленькая милая девочка, живой и нежный французский ребенок. Господи! Ведь я никогда не испытал и не перечувствовал и даже не надеялся когда-нибудь почувствовать тихой бескорыстной радости, которою так мудро и так щедро одаряет судьба дедушек и бабушек, когда все земные, пряные радости отлетают от них. Ах! Я не был дедушкой, не успел... Да, впрочем, что греха таить. Могу ли я, по чистой совести, похвастаться, что был когда-нибудь счастливым мужем или почтенным, уважаемым отцом, авторитетным главою дома, его основанием, его управителем и защитником?
Нет, вся его семейная жизнь сложилась как-то неладно, кособоко, нелепо, разрозненно и неуютно. Женился он приват-доцентом на бледной и капризной дочери видного профессора, университетского декана и академика, который сделал себе огромное имя, и независимое положение, и комфортабельную жизнь путями не особенно, по тому времени, прямыми: всегдашней готовностью идти навстречу воле и желаниям правительства, отрицательным отношением к студенческим массовкам, протестам и забастовкам, а также и суровой требовательностью на экзаменах. Он знал, конечно, что за глаза, в молодых радикальных профессорских кругах, его ядовито называли «кондитером» и «мыловаром». Но что ему было за дело до брехни неудачников, и бездарностей, и необразованных лентяев.
Он с привычным, нескрываемым удовольствием опускал в портмоне золотые, приятно тяжелые дарики, выдаваемые после каждого из торжественных заседаний Академии; со спокойным достоинством принимал казенные, весьма широко оплачиваемые научные поездки за границу и роскошные издания своих книг и без всякой тени заискивания расширял и поддерживал свои знакомства с питерской аристократией и с высочайшими особами. Студенты его ненавидели, но его лекции всегда наполняли аудиторию до самого верха, ибо он в совершенстве владел своим глубоким и гибким умом, был красноречив и обаятельно остроумен.
«Гениальная скотина», – назвал его однажды бесцеремонный и злой на язык великий циник граф Витте.
Брак Симонова с его младшей дочерью Лидией был чрезвычайно странен как по своей неожиданной быстроте, так и по полному отсутствию того томного ухаживания, которое составляет главную прелесть жениховского периода.
Поездка на Аптекарский остров профессорской компанией. Дурманящая белая ночь, легкое и веселое опьянение дешевым русским шампанским Абрау-Дюрсо, могучее дыхание полноводной Невы, смолистый ласковый запах березовых распускающихся почек, непринужденная игривость дружеского пикника. Играли в горелки. Лидия, со своим гибким и тонким станом, с матовым лицом и ярко-красными губами, летала, точно не касаясь ногами земли, похожая в загадочной полутьме на влюбленную колдунью. Никто не сумел бы понять, как это случилось. Догоняя Лидию, Симонов так разогнался, что чуть ее не опрокинул и для поддержания равновесия принужден был крепко обнять ее за талию и прижать к своей груди, так что почувствовал упругое прикосновение ее девических сосцов. И в этот же момент она поцеловала его в губы под защитою старого дерева.
Сначала молодой ученый был смущен и до румянца сконфужен ненасытной жадностью и чувственным бесстыдством этого пламенного и влажного поцелуя, но потом, со свойственным ему великодушием и уважением к женщинам, быстро решил в уме, что это просто первоначальная неумелость, неопытность, непривычность наивной и невинной девочки, вдруг вздумавшей подражать взрослым или разыгрывать сценку из только что прочтенного романа. Но, во всяком случае, этот поцелуй, огнем пробежавший по всем нервам Симонова, требовал, по его джентльменскому мнению, серьезной ответственности. Поэтому, возвращаясь с пикника на Разъезжую, Симонов, набравшись храбрости, с бьющимся сердцем, сделал Лидии форменное предложение вступить с ним в брак. Немного покоробило его спокойствие, с которым она дала свое согласие. Симонов ожидал услышать старинную, традиционную, многовековую фразу: «Поговорите об этом с папой и с мамой». Нет, она сказала просто, с вежливой приветливой улыбкой: «Я согласна. Вы мне давно нравитесь. Я не могу от вас скрыть, что приданое за мною не так уж велико, как это можно было бы предполагать, судя по нашей жизни, которая со стороны кажется очень широкой. Конечно, мои родители охотно возьмут на себя все расходы по бракосочетанию и по поездке за границу. Они же с удовольствием озаботятся тем, чтобы приискать нам на первое время уютную хорошенькую квартиру, с удобной мебелью и со всем хозяйственным обзаведением. Но я думаю, что больше пятидесяти тысяч папочка за мною не может дать. A это – немного по теперешнему времени, когда о шалаше и рае не вспоминают даже в шутку. Я свободно владею тремя иностранными языками: французским, немецким и английским, – и могла бы отлично переводить с них. Но вы сами знаете, как дешево оплачиваются переводы...»
Эта хладнокровная деловитость заставила Симонова на минуту съежиться, и он сказал с невольной неловкостью:
– У меня есть небольшое имение в Новгородской губернии. Если не ошибаюсь, сотни четыре десятин с небольшим. В Устюжинском уезде. Но еще больше я надеюсь на свой труд, потому что работать я люблю и умею, и никогда работы не боялся, и никогда от нее не отлынивал. Верьте мне, Лида: с вашей любовью и дружбой я вскоре займу положение, которым вы по справедливости будете гордиться. Вот вам моя рука в залог; пожмите ее крепко, как можете.
Бледное лицо девушки порозовело, когда она исполнила просьбу жениха. А потом она сказала:
– Если бы я не поверила вам, то неизбежно должна была бы поверить папочкиному мнению о вас. Вы ведь знаете, как он скуп на комплименты и на лестные отзывы, особенно в научной сфере. О вас же он заочно говорит, как о будущем светиле науки, как об отце будущей, новой, великой школы. Это его собственные слова. А теперь, если вы не раздумали, пойдем к нему наверх и скажем о нашем решении соединиться законным браком. Только я вас об одном попрошу. Наука так и останется наукой, но в делах коммерческих и денежных обращайтесь всегда за советом к папе. Имя его известно во всем цивилизованном мире. Но мало кто знает, что папочка со своим ясным, светлым и острым умом является первоклассным дельцом и безошибочным разместителем крупных денег в такие места, откуда они вскоре возвращались обратно в удесятеренном виде. Папочке бы быть русским министром финансов! – сказала Лидия с гордой похвалой...
Таким образом женился Симонов на Лидии Кошельниковой. Брак этот вышел не по расчету, не по страстной любви, даже не по мгновенному случайному увлечению, от которого внезапно кружится голова, заволакиваются туманом глаза, а мысли и слова теряют смысл и значение.
Впоследствии Симонов много раз возвращался памятью к этому странному времени жениховства и первоначального замужества и никогда не находил в них ни логики, ни оправдания, ни надобности: было холодное наваждение, была неуклюжая актерская игра в напыщенную влюбленность. Он слишком поздно разобрался в душе своей жены и нашел для нее типичное место, в котором, однако, не было ничего сложного, загадочного или необыкновенного. Просто: она была дочерью своей эпохи, когда молодые девушки либо мечтали о политике и курсах, либо напичкивались сверх силы Оскаром Уайльдом, Фридрихом Ницше, Вейнингером и половым бесстыдством. Лидия была из последних. Еще в институте для привилегированных девиц она ела толченый мел и пила уксус, для того чтобы тело не переставало держаться в воздушных, почти невесомых формах, а лицо под гримом постоянно носило томный отпечаток бессонных, безумно проведенных ночей, оставивших черные красноречивые круги под глазами.
В институте же, под наивной и невинной игрою в «обожание» старших подруг, она узнала первоначальные соблазны уродливой однополой любви, которой в то время предавались по распущенности и из-за снобизма юноши и девушки всех благородных учебных заведений. В супружеских интимных отношениях она не проявляла здоровой чувственности, была лишь холодно-любопытна, и вскоре эти отношения между молодыми супругами стали постепенно все реже и неодухотвореннее. Однажды Лидия сказала мужу:
– Ты знаешь. В конце концов немцы были и умны и практичны, когда признавали за «цвей киндер систем» право гражданственности. Это и необходимо и достаточно.
Симонов, как всегда, ответил спокойным согласием и нисколько не удивился тому, что, родив вторую, и последнюю, девочку, Лидия совсем отказалась от супружеских обязанностей, предоставив вместо них мужу полную свободу, в которой он, впрочем, совсем не нуждался.
Однако обязанность доставать деньги осталась за ним и с каждым годом настоятельно увеличивалась. За детьми Лидия никогда не ходила. Не любила и не умела этого. Около девочек были всегда кормилицы, няньки и бонны. Сама же мать только наряжала их, как кукол, и играла с ними, как с куклами, в течение десяти минут в сутки. Переводы с иностранных языков оказались милым вздором заневестившейся барышни. Знала она, правда, – и то с грехом пополам, – слов по сто на каждом из трех главных европейских языков, но для профессии переводчицы этот багаж был и скуден и легковесен. А главное, к занятию этому у Лидии не было ни призвания, ни терпения. Занимала ее больше всего легкая, суетливая, подвижная общественная благотворительность, устройство литературных и студенческих вечеров, лотереи, и базары, и прочие веселые пустяки с приглашением знаменитостей, с продажей шампанского и цветов и с постоянными предлогами заказывать новые модные костюмы.
Больше всего имела Лидия успех в только что народившихся, бесшабашных кружках новой литературы, поэзии и живописи, – у всей этой молодежи, носившей диковинные девизы кубистов, футуристов, акмеистов и даже ничевоков. Они в ней находили порочную прелесть верленовских изломов и манящую жуть сладострастия Пикассо. Впрочем, все эти божественно дерзкие переустраиватели мирового искусства никогда не задумывались над смыслом и значением тех умопомрачительных слов, которые они походя роняли, веско, гулко, бездонно-глубоко и абсолютно непонятно для непосвященных буржуев. Ничего! Им все благоговейно сходило с рук. Такое уж сверхчеловеческое поветрие носилось тогда, незадолго до ужасной войны, по обеим столицам России, что гении, пророки, ясновидцы, тайновидцы, предсказатели, медиумы, мировые мудрецы, Наполеоны и Заратустры рождались среди интеллигенции с быстротою грибов после теплого летнего дождя. Уважающему себя культурному и передовому человеку приходилось разрываться на части, чтобы не пропустить случая сбегать на поклон к новому блистательному светилу, только что вчера открытому. Москва, древняя, кондовая, купеческая, усестая Москва, которая прежде созывала гостей на обед с юродивым Корейшей, с протодьяконом Шаховцовым, который голосом своим тушил все люстры в зале, с полицмейстером Огаревым, с Шаляпиным или с борцом Поддубным, – эта наивная, сердечная Москва вдруг, очнувшись, поняла, что ей совсем уж невозможно жить без своего декадента. Поэтому она спешно заказала для своих домов декадентскую архитектуру, завела чертовски декадентскую и безумно дорогую литературу, а московские дебелые девицы бредили во сне: тятенька с маменькой, купите мне в женихи настоящего декадентского кентавра.
И покупали.
Чинный Петербург всегда был спокойнее, умереннее и хладнокровнее пылкой Москвы, к которой он еще со времен Петра Первого привык относиться свысока. Однако яростный напор новых течений во всех отраслях искусства мощно захватил и солидный Петербург, ставший к тому времени внезапно Петроградом. Первыми провозвестниками и глашатаями этой трескучей новизны стали торопливые карьеристы, малограмотные приват-доценты, читавшие «взгляд и нечто» на многочисленных женских курсах и пописывавшие критические статейки в сотнях журналов, которые ежедневно возрождались под самыми драконистыми заглавиями, чтобы через два-три дня тихо и бесследно опочить.
Лидия, со всегдашней своей страстью к шумливым, безвкусным и дешевым безделушкам, одной из первых записалась в горячие поклонницы всех этих «истов», в их верного друга, в их деятельную помощницу и пропагандистку. Они же называли ее своей мамой, своей музой, своим икс-лучом и аккуратно, целыми стаями посещали по пятницам ее несколько скучноватый, но услужливый и гостеприимный салон, где подавались очень вкусные сандвичи и отличное кавказское красное вино «Мукузань».
Симонов вначале не без интереса и любопытства посещал декадентские вечера своей жены. Как-никак, а, по словам Лидии, на них созревало и выковывалось то новое, могучее и гордое искусство, которому надлежало, растоптав в прах все жалкие, скучные и нудные потуги предшественников, засиять над миром неугасаемой огненной звездою.
Однако вскоре он стал потихоньку думать: «Тут, по совести, одно из двух: либо я отстал от искусства и ничего не понимаю, либо все эти футуристы и кубисты – просто-напросто охальники, симулянты, мистификаторы, шарлатаны и развязные наглецы и похабники...» Правда, в некоторых поэзах этих вчерашних новаторов звучала порою странная и дикая сила; правда и то, что дерзкие консонансы, заменившие у декадентов лакированную точность строгих рифм, были ясны и понятны для Симонова, хорошо изучившего остроту крестьянских поговорок и частушек. Но отсутствие прямого смысла неприятно раздражало его, как раздражала и их манера читать свои произведения в нос, нараспев, на мотив «Чижика», похоронного ирмоса или бульварной песни, не останавливаясь перед похабными словами. Еще экстравагантнее были футуристические музыканты и кубистические художники. Этих не понимали даже близкие сотоварищи. Впрочем, в этих сверхчеловеческих, орущих шайках быть непонятым почиталось первой ступенью к гениальности.
Эта здоровенная молодежь ела и пила с аппетитом волжских грузчиков, не переставая брала взаймы деньги и часто оставалась ночевать на диванах, на сдвинутых стульях и даже просто на полу. На это молодое разгильдяйство Симонов смотрел снисходительно и даже с молчаливым сочувствием. Профессорская жизнь еще не выжгла из его памяти студенческих годов в Московском университете, когда бесцеремонная молодежь охотно делилась и ночлегом, и обедом в столовке, и последней кружкой пива, и научными знаниями. Но один дурацкий случай вывел его из себя. Какой-то здоровенный, долговязый, весь в угрях декадент, в балахоне, наполовину желтом, наполовину голубом, с пучком укропа и с морковкой в петлице, только что окончил завывать свою новую поэзу, носившую претенциозное заглавие «Паванна», и стоял, окаменев от наплыва вдохновения, а вокруг него благоговейно безмолвствовали второстепенные поэты. Встретившись глазами с Симоновым, желто-голубой верзила спросил в нос:
– Ну, что же, Амфитрион? Кого вы теперь назовете прекраснейшими из всех русских поэтов?
Смущенный Амфитрион невольно повел глазами по той стене, где у него ровной линией висели застекленные портреты всех знаменитых русских писателей и поэтов, и застенчиво пробормотал:






