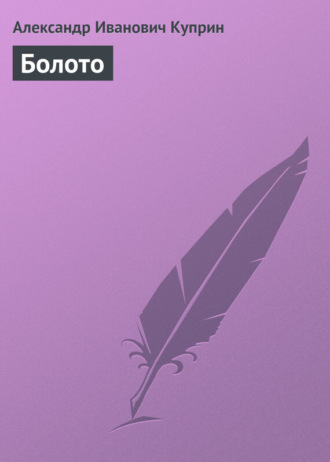
Александр Куприн
Болото
Он замолчал. Слышно было, как рядом, в сенях, Марья со звоном накладывала угли в самовар, как на печке громко дышали дети. Люлька продолжала скрипеть монотонно и жалобно. Сердюков вгляделся внимательнее в лицо девочки, сидевшей на кровати, и оно поразило его своею болезненною красотой и необычайным, непередаваемым выражением. Черты этого лица, несмотря на некоторую одутловатость щек, были так нежны и тонки, что казались нарисованными без теней и без красок на прозрачном фарфоре, и тем ярче выступали среди них неестественно большие, светлые, прекрасные глаза, которые глядели с задумчивым и наивным удивлением, как глаза у святых девственниц на картинах прерафаэлитов.
– Как тебя зовут, красавица? – спросил ласково студент.
Большеглазая девочка закрыла лицо руками и быстро спряталась за полог.
– Боится. Ну чего ты, глупая? – сказал Степан, точно извиняясь за дочь. Он неловко и добродушно улыбнулся, отчего все его лицо ушло в бороду и стало похоже на свернувшегося клубком ежа. – Варей ее звать. Да ты не бойся, дурочка, барин добрый, – успокаивал он девочку.
– И она тоже больна? – спросил Николай Николаевич.
– Что-с? – переспросил Степан. Густая щетина на его лице разошлась, и опять из нее выглянули добрые усталые глаза. – Больная, вы спрашиваете? Все мы тут больные. И жена, и эта вот, и те, что на печке. Все. Во вторник третье дитя хоронили. Конечно, местность у нас сырая, эта главное. Трясемся вот, и шабаш!..
– Лечились бы, – сказал, покачав головой, студент. – Зайди как-нибудь ко мне в Сердюковку, я хины дам.
– Спасибо, Миколай Миколаевич, дай вам бог здоровья. Пробовали мы лечиться, да что-то ничего не выходит, – безнадежно развел руками Степан. – Трое вот, конечно, умерли у меня… Главная сила, мокреть здесь, болото, ну и дух от него тяжелый, ржавый.
– Отчего же вы не переведетесь куда-нибудь в другое место?
– Чего-с? Да, в другое место, вы сказываете? – опять переспросил Степан. Казалось, он не сразу понимал то, что ему говорят, и с видимым усилием, точно стряхивая с себя дремоту, направлял на слова Сердюкова свое внимание. – Оно бы, барин, чего лучше перевестись. Да ведь все равно кому-нибудь и здесь жить надо. Дача, конечно, аграматная, и без лесника никак невозможно. Не мы – так другие. До меня в этой самой сторожке жил лесник Галактион, трезвый был такой человек, самостоятельный… Ну, конечно, похоронил сначала двоих ребяток, потом жену, а потом и сам помер. Я так полагаю, Миколай Миколаич, что это все равно, где жить. Уж батюшка, царь небесный, он лучше знает, кому где надлежит жить и что делать.
Марья вошла с самоваром, отворив и затворив за собою дверь локтем.
– Уселся, трутень безмедовый! – накинулась она на Степана. – Подай хоть чашки-то!..
Она с такою силой поставила на стол самовар, точно хотела бросить его. Лицо у нее было не по летам старое, изможденное, землистого цвета; на щеках сквозь кору мелких, частых морщин горел нездоровый кирпичный румянец, а глаза неестественно сильно блестели. С таким же сердитым видом она швырнула на стол чашки, блюдечки и каравай хлеба.
Сердюков отказался от чая. Он сидел расстроенный, недоумевающий, удрученный всем, что он видел и слышал сегодня. Мелочное, бессильно-язвительное недоброжелательство землемера, тихая покорность Степана перед таинственной и жестокой судьбой, молчаливое раздражение его жены, вид детей, медленно, один за другим, умирающих от болотной лихорадки, – все это сливалось в одно гнетущее впечатление, похожее на болезненную, колючую, виноватую жалость, которую мы чувствуем, глядя пристально в глаза умной больной собаки или в печальные глаза идиота, которая овладевает нами, когда мы слышим или читаем про добрых, ограниченных и обманутых людей. И здесь, казалось Сердюкову, в этой бедной, узкой и скучной жизни, был чей-то злой и несправедливый обман.
Землемер молча пил чашку за чашкой и жадно ел хлеб, откусывая прямо от ломтя большими полукруглыми кусками. Во время еды связки сухожилий ходили у него под скулами, точно пучки струн, обтянутых тонкою кожей, а глаза глядели равнодушно и тускло, как глаза жующего животного. Из всей семьи только один Степан согласился, после долгих уговоров, выпить чашку чаю. Он пил ее долго и шумно, дуя на блюдечко, вздыхая и с треском грызя сахар. Окончив чай, он перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся у него в руках крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в засиженную мухами жестяную коробочку.
Вяло и тоскливо тянулось время, и Сердюков думал о том, как много еще будет впереди скучных и длинных вечеров в этой душной избе, затерявшейся одиноким островком в море сырого, ядовитого тумана. Потухавший самовар вдруг запел тонким воющим голосом, в котором слышалось привычное безысходное отчаяние. Люлька не скрипела больше, но в углу за печкой однообразно, через правильные промежутки, кричал, навевая дремоту, сверчок. Девочка, сидевшая на кровати, уронила руки между колен и задумчиво, как очарованная, глядела на огонь лампы. Ее громадные, с неземным выражением глаза еще больше расширились, а голова склонилась набок с бессознательной и покорной грацией. О чем думала она, что чувствовала, глядя так пристально на огонь? Временами ее худенькие ручки тянулись в Долгой, ленивой истоме, и тогда в ее глазах мелькала на мгновение странная, едва уловимая улыбка, в которой было что-то лукавое, нежное и ожидающее: точно она знала, тайком от остальных людей, о чем-то сладком, болезненно-блаженном, что ожидало ее в тишине и в темноте ночи. И в голову студента пришла странная, тревожная, почти суеверная мысль о таинственной власти болезни над этой семьей. Глядя в необыкновенные глаза девочки, он думал о том, что, может быть, для нее не существует обыкновенной, будничной жизни. Медленно и равнодушно проходит для нее длинный день, с его однообразными заботами, с его беспокойным шумом и суетой, с его назойливым светом. Но наступает вечер, и вот, вперив глаза в огонь, девочка томится нетерпеливым ожиданием ночи. А ночью дух неизлечимой болезни, измозживший слабое детское тело, овладевает ее маленьким мозгом и окутывает его дикими, мучительно-блаженными грезами…
Где-то давным-давно Сердюков видел сепию известного художника. Картина эта так и называлась «Малярия». На краю болота, около воды, в которой распустились белые кувшинки, лежит девочка, широко разметав во сне руки. А из болота вместе с туманом, теряясь в нем легкими складками одежды, подымается тонкий, неясный призрак женской фигуры с огромными дикими глазами и медленно, страшно медленно тянется к ребенку. Сердюков вспомнил вдруг эту забытую картину и тотчас же почувствовал, как мистический страх холодною щеткой прополз у него по спине от затылка до поясницы.






