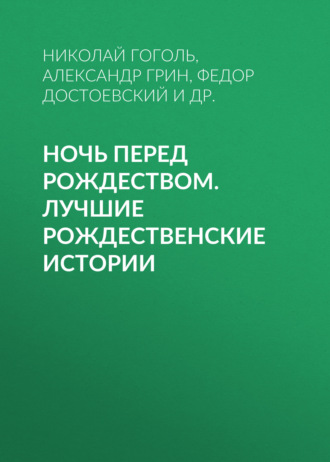
Николай Гоголь
Ночь перед Рождеством. Лучшие рождественские истории
Глава пятая
Вдруг, я и полсотни не сосчитал, раздался тихонечко стук в двери и что-то такое вползает, – шуршит этаким чем-то твердым. Тогда у них шалоновые мантоны носили, длинные, а шалон шуршит.
Без свечи-то темно у меня так, что ничего ясно не рассмотришь, что это за кукуруза.
Только от уличного фонаря чуть-чуть видно, что гостья моя, должно быть, уже очень большая старушенция. И однако, и эта с предосторожностями, так что на лице у нее вуаль.
Вошла и шепчет:
– Где ты?
Я отвечаю:
– Не бойся, говори громко: никого нет, а я дожидаюсь, как сказано. Говори, когда же твоя кукона поедет кофе пить?
– Это, – говорит, – от тебя зависит.
И все шепотом.
– Да я, – говорю, – всегда готов.
– Хорошо. Что же ты мне велишь ей передать?
– Передай, мол, что я ею поражен, влюблен, страдаю, и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя, например, завтра вечером.
– Хорошо, завтра она может приехать.
Кажется, ведь надо бы ей после этого уходить, – не так ли? Но она стоит-с!
– Чего-с!
Надо, видно, проститься еще с одним червонцем. Себе бы он очень пригодился, но уж нечего делать – хочу ей червонец подать, как она вдруг спрашивает:
– Согласен ли я сейчас с нею послать куконе триста червонцев?
– Что-о-о тако-о-ое?
Она преспокойно повторяет «триста червонцев», и начинает мне шептать, что муж ее куконы хотя и очень богат, но что он ей не верен и проживает деньги с итальянскою графинею, а кукона совсем им оставлена и даже должна на свой счет весь гардероб из Парижа выписывать, потому что не хочет хуже других быть…
То есть вы понимаете меня, – это черт знает что такое! Триста золотых червонцев – ни больше, ни меньше!.. А ведь это-с тысяча рублей! Полковницкое жалованье за целый год службы… Миллион картечей! Как это выговорить и предъявить такое требование к офицеру? Но, однако, я нашелся: червонцев у меня, думаю, столько нет, но честь свою я поддержать должен.
– Деньги, – говорю, – для нас, русских, пустяки. – Мы о деньгах не говорим, но кто же мне поручится, что ты ей передашь, а не себе возьмешь мои триста червонцев?
– Разумеется, – отвечает, – я ей передам.
– Нет, – говорю, – деньги дело не важное, но я не желаю быть тобою одурачен. Пусть мы с нею увидимся, и я ей самой, может быть, еще больше дам.
А кукуруза вломилась в амбицию и начала наставление мне читать.
– Что ты это, – говорит, – разве можно, чтобы купона сама брала.
– А я не верю.
– Ну, так иначе, – говорит, – ничего не будет.
– И не надобно.
Такими она меня впечатлениями исполнила, что я даже физическую усталость почувствовал, и очень рад был, когда ее черт от меня унес.
Пошел в кофейню к товарищам, напился вина до чрезвычайности и проводил время, как и прочие, по-кавалерски; а на другой день пошел гулять мимо дома, где жила моя пригляженая купона, и вижу, она как святая сидит у окна в зеленом бархатном спенсере, на груди яркий махровый розан, ворот низко вырезан, голая рука в широком распашном рукаве, шитом золотом, и тело… этакое удивительное розовое… из зеленого бархата, совершенно как арбуз из кожи, выглядывает.
Я не стерпел, подскочил к окну и заговорил:
– Вы меня так измучили, как женщина с сердцем не должна; я томился и ожидал минуты счастия, чтобы где-нибудь видеться, но вместо вас пришла какая-то жадная и для меня подозрительная старуха, насчет которой я, как честный человек, долгом считаю вас предупредить: она ваше имя марает.
Купона не сердится; я ей брякнул, что старуха деньги просила, – она и на это только улыбается. Ах ты черт возьми! зубки открыла – просто перлы средь кораллов, – все очаровательно, но как будто дурочкой от нее немножко пахнуло.
– Хорошо, – говорит, – я няню опять пришлю.
– Кого? эту же самую старуху?
– Да; она нынче вечером опять придет.
– Помилуйте, – говорю, – да вы, верно, не знаете, что эта алчная старуха какою не стоющею уважения особою вас представляет!
А кукона вдруг уронила за окно платок, и когда я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевесилась так, что вырез-то этот проклятый в ее лифе весь передо мною, как детский бумажный кораблик, вывернулся, а сама шепчет:
– Я ей скажу… она будет добрее. – И с этим окно тюк на крюк.
«Я ее вечером опять пришлю». «Я велю быть добрее». Ведь тут уже не все глупость, а есть и смелая деловитость… И это в такой молоденькой и в такой хорошенькой женщине!
Любопытно, и кого это не заинтересует? Ребенок, а несомненно, что она все знает и все сама ведет и сама эту чертовку ко мне присылала и опять ее пришлет.
Я взял терпение, думаю: делать нечего, буду опять дожидаться, чем это кончится.
Дождался сумерек и опять притаился, и жду в потемках. Входит опять тот же самый шалоновый сверток под вуалем.
– Что, – спрашиваю, – скажешь?
Она мне шепотом отвечает:
– Кукона в тебя влюблена и с своей груди розу тебе прислала.
– Очень, – говорю, – ее благодарю и ценю, – взял розу и поцеловал.
– Ей от тебя не надо трехсот червонцев, а только полтораста.
Хорошо сожаление… Сбавка большая, а все-таки полтораста червонцев пожалуйте. Шутка сказать! Да у нас решительно ни у кого тогда таких денег не было, потому что мы, выходя из Польши, совсем не так были обнадежены и накупили себе что нужно и чего не нужно, – всякого платья себе нашили, чтобы здесь лучше себя показать, а о том, какие здесь порядки, даже и не думали.
– Поблагодари, – говорю, – твою кукону, а ехать с нею на свидание не хочу.
– Отчего?
– Ну вот еще: отчего? не хочу да и баста.
– Разве ты бедный? Ведь у вас все богатые. Или купона не красавица?
– И я, – говорю, – не бедный, у нас нет бедных, – и твоя купона большая красавица, а мы к такому обращению с нами не привыкли!
– А вы как же привыкли?
Я говорю: «Это не твое дело».
– Нет, – говорит, – ты мне скажи: как вы привыкли, может быть, и это можно.
А я тогда встал, приосанился и говорю:
– Мы вот как привыкли, что на то у селезня в крыльях зеркальце, чтобы уточка сама за ним бежала глядеться.
Она вдруг расхохоталась.
– Тут, – говорю, – ничего нет смешного.
– Нет, нет, нет, – говорит, – это смешное!
И убежала так скоро, словно улетела.
Я опять расстроился, пошел в кофейню и опять напился.
Молдавское вино у них дешево. Кислит немножко, но пить очень можно.
Глава шестая
На другое утро, государи мои, еще лежу я в постели, как приходит ко мне жид, который сам собственно и ввел меня во всю эту дурацкую историю, и вдруг пришел просить себе за что-то еще червонец.
Я говорю: «За что же это ты, мой любезный, стоишь еще червонца?»
– Вы, – говорит, – мне сами обещали.
Я припоминаю, что, действительно, я ему обещал другой червонец, но не иначе, как после того, как я буду уже иметь свидание с куконой.
Так ему и говорю. А он мне отвечает:
– А вы же с нею уже два раза виделись.
– Да, мол, – у окошка. Но это недостаточно.
– Нет, – отвечает, – она два раза у вас была.
– У меня какой-то черт старый был, а не кукона.
– Нет, – говорит, – у вас была кукона.
– Не ври, жид, – за это вашего брата бьют!
– Нет, я, – говорит, – не вру: это она сама у вас была, а не старуха.
Я свое достоинство сохранил, но это меня просто ошпарило. Так мне стало досадно и так горько, что я вцепился в жида и исколотил его ужасно, а сам пошел и нарезался молдавским вином до беспамятства. Но и в этом-то положении никак не забуду, что кукона у меня была и я ее не узнал и как ворона ее из рук выпустил. Недаром мне этот шалоновый сверток как-то был подозрителен… Словом, и больно, и досадно, но стыдно так, что хоть сквозь землю провалиться… Был в руках клад, да не умел брать, – теперь сиди дураком.
Но, к утешению моему, в то же самое время, в подобных же родах произошла история и с другими моими боевыми товарищами, и все мы с досады только пили да арбузы ели с кофейницами, а настоящих кукон уже порешили наказать презрением.
Васильковое наше время невинных успехов кончилось. Скучно было без женщин порядочного образованного круга в сообществе одних кофейниц, но старые отцы капитаны нас куражили.
– Неужели, – говорили, – если в одном саду яблоки не зародились, так и Спасова дня не будет? Кураж, братцы! Сбой поправкой красен.
Куражились мы тем, что нас скоро выведут из города и расквартируют по хуторам. Там помещичьи барышни и вообще все общество, должно быть, не такое, как городское, и подобной скаредности, как здесь, быть не может. Так мы думали и не воображали того, что там нас ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочем, и предвидеть невозможно было, чем нас одолжат в их деревенской простоте. Пришел вожделенный день, мы затрубили, забубнили, «Черную галку» запели и вышли на вольный воздух. – Авось, мол, тут опять заголубеют для нас васильки.
Глава седьмая
Распределение, где кому стоять, нам вышло самое разнобивуачное, потому что в Молдавии на заграничный манер, – таких больших деревень, как у нас, нет, а все хутора или мызы. Офицеры бились все ближе к мызе Холуян, потому что там жил сам бояр или бан, тоже по прозванью Холуян. Он был женатый, и жена, говорили, будто красавица, а о нем говорили, что он большой торгаш, – у него можно иметь все, только за деньги – и стол, и вино. Прежде нас там поблизости другие наши войска стояли, и мы встретили на дороге квартирмейстера, который у Холуяна квитанцию выправлял. Обратились к нему с расспросами: что и как? Но он был из полковых стихотворцев и все любил рифмами отвечать.
– Ничего, – говорит, – мыза хорошая, как придете, увидите:
Между гор, между ям
Сидит птица Холуян.
Предурацкая эта манера стихами о деле говорить. У таких людей ничего путного никогда не добьешься.
– А куконы, – спрашиваем, – есть?
– Как же, – отвечает, – есть и куконы, есть и препоны.
– Хороши? то есть красивые?
– Да, – говорит, – красивые и не очень спесивые.
Спрашиваем: находили ли там их офицеры благорасположение?
– Как же, там, – отвечает, – на тонце, на древце наши животы скончалися.
– Черт его знает, что за язык такой! – все загадки загадывает.
Однако все мы поняли, что этот шельма из хитрых и ничего нам открыть не хотел.
А только вот, хотите верьте, хотите вы не верьте в предчувствие… Нынче ведь неверие в моде, а я предчувствиям верю, потому что в бурной жизни моей имел много тому доказательств, но на душе у меня, когда мы к этой мызе шли, стало так уныло, так скверно, что просто как будто на свою казнь шел.
Ну, а пути и времени, разумеется, все убывает, и вот пока я иду на своем месте в раздумчивости, сапогами по грязи шлепаю, кто-то из передних увидал и крикнул:
– Холуян!
Прокатило это по рядам, а я отчего-то вдруг вздрогнул, но перекрестился и стал всматриваться, где этот чертовский Холуян.
Однако и крест не отогнал от меня тоски. В сердце такое томление, как описывается, что было на походе с молодым Ионафаном, когда он увидал сладкий мед на поле. Лучше бы его не было, – не пришлось бы тогда бедному юноше сказать: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю».
А мыза Холуян действительно стояла совсем перед нами и взаправду была она между гор и между ям, то есть между этаких каких-то ледащих холмушков и плюгавеньких озерцов.
Первое впечатление она на меня произвела самое отвратительное.
Были уже и какие-то настоящие пустые ямы, как могилы. Черт их знает, когда и какими чертями и для кого они выкопаны, но преглубокие. Глину ли из них когда-нибудь доставали, или, как некоторые говорили, будто бы тут есть целебная грязь и будто ею еще римляне пачкались. Но вообще местность прегрустная и престранная.
Виднеются кой-где и перелесочки, но точно маленькие кладбища. Грунт, что называется, мочажинный и, надо полагать, пропитан нездоровою сыростью. Настоящее гнездо злой молдаванской лихорадки, от которой люди дохнут в молдавском поту.
Когда мы подходили вечерком, небо зарилось, этакое ражее, красное, а над зеленью сине, как будто синяя тюль раскинута – такой туман. Цветков и васильков нет, а торчат только какие-то точно пухом осыпанные будылья, на которых сидят тяжелые желтые кувшины вроде лилий, но преядовитые: как чуть его понюхаешь, – сейчас нос распухнет. И что еще удивило нас, как тут много цапель, точно со всего света собраны, которая летит, которая в воде на одной ножке стоит. Терпеть не могу, где множится эта фараонская птаха: она имеет что-то такое, что о всех египетских казнях напоминает. Мыза Холуян довольно большая, но, черт ее знает, как ее следовало назвать, – дрянная она или хорошая. Очень много разных хозяйственных построек, но все как-то будто нарочно раскидано «между гор и между ям». Ничего почти одного от другого не разглядишь: это в ямке и то в ямке, а посреди бугорок. Точно как будто имели в виду делать здесь что-нибудь тайное под большим секретом. Всего вероятнее, пожалуй, наши русские деньги подделывали. Дом помещичий, низенький и очень некрасивый… Облупленный, труба высокая, и снаружи небольшой, но просторный, – говорили, – будто есть комнат шестнадцать. Снаружи совсем похоже на те наши станционные дома, что покойный Клейнмихель по московскому шоссе настроил. И буфеты, и конторы, и проезжающие, и смотритель с семьею, и все это черт знает куда влезало, и еще просторно. Строено прямо без всякого фасона, как фабрика, крыльцо посередине, в передней буфет, прямо в зале бильярд, а жилые комнаты где-то так особенно спрятаны, как будто их и нет. Словом, все как на станции или в дорожном трактире. И в довершение этого сходства напоминаю вам, что в передней был учрежден буфет. Это, пожалуй, и хорошо было «для удобства господ офицеров», но вид-то все-таки странный, а устройство этого буфета сделано тоже с подлостью, – чтобы ничем нашего брата бесплатно не попотчевать, а вот как: все, что у нас есть, мы все предоставляем к вашим услугам, только не угодно ли получить «за чистые денежки». Кредит, положим, был открыт свободный, но все, что получали, водку ли, или их местное вино, все этакий особый хлап, в синем жупане с красным гарусом, – до самой мелочи писал в книгу живота. Даже и за еду деньги брали; мы сначала к этому долго никак не могли себя приучить, чтобы в помещичьем доме и деньги платить. И надо вам знать, как они это ловко подвели, чтобы деньги брать. Тоже прекурьезно. У нас в России или в Польше у хлебосольного помещика стыда бы одного не взяли завести такую коммерцию. С первого же дня является этот жупан, обходит офицеров и спрашивает: не угодно ли будет всем с помещиком кушать?
Наши ребята, разумеется, простые, добрые и очень благодарят:
– Очень хорошо, – говорят, – мы очень рады.
– А где, – продолжает жупан, – прикажете накрывать на стол: в зале или на веранде? У нас, – говорит, – есть и зала большая, и веранда большая.
– Нам, – говорим, – голубчик, это все равно, где хотите.
Нет-таки, добивается, говорит: «бояр велел вас спросить и накрывать стол непременно по вашему желанию».
«Вот, – думаем, – какая предупредительность! – Накрывай, брат, где лучше».
– Лучше, – отвечает, – на веранде.
– Пожалуй, там, должно быть, воздух свежее.
– Да, и там пол глиняный.
– В этом какое же удобство?
– А если красное вино прольется или что-нибудь другое, то удобнее вытереть и пятна не останется.
– Правда, правда!
Замышляется, видим, что-то вроде разливного моря.
Вино у них, положим, дешевое, правда, с привкусом, но ничего: есть сорта очень изрядные.
Настает время обеда. Являемся, садимся за стол – все честь честью, – и хозяева с нами: сам Холуян, мужчина, этакий худой, черный, с лицом выжженной глины, весь, можно сказать, жиляный да глиняный и говорит с передушинкой, как будто больной.
– Вот, – говорит, – господа, у меня вина такого-то года урожая хорошего; не хотите ли попробовать?
– Очень рады.
Он сейчас же кричит слуге:
– Подай господину поручику такого-то вина.
Тот подает и непременно непочатую бутылку, а пред последним блюдом вдруг является жупан с пустым блюдом и всех обходит.
– Это что, мол, такое?!
– Деньги за обед и за вино.
Мы переконфузились, – особенно те, с которыми и денег не случилось. Те под столом друг у друга потихоньку перехватывали.
Вот ведь какая черномазая рвань!
Но дело, которым до злого горя нас донял Холуян, разумеется, было не в этом, а в куконице, из-за которой на тонце, на древце все наши животы измотались, а я, можно сказать, навсегда потерял то, что мне было всего дороже и милее, – можно сказать даже, священнее.
Глава восьмая
Семья у наших хозяев была такая: сам бан Холуян, которого я уж вам слегка изобразил: худой, жиляный, а ножки глиняные, еще не старый, а все палочкой подпирается и ни на минуту ее из рук не выпускает. Сядет, а палочка у него на коленях. Говорили, будто он когда-то был на дуэли ранен, а я думаю, что где-нибудь почту хотел остановить, да почтальон его подстрелил. После это объяснилось еще совсем иначе, и понятно стало, да поздно. А поначалу казалось, что он человек светский и образованный, – ногти длинные, белые и всегда батистовый платок в руках. Для дамы он, впрочем, кроме образования не мог обещать ни малейшего интереса, потому что вид у него был ужасно холодного человека. А у него куконица просто как сказочная царица: было ей лет не более как двадцать два, двадцать три, – вся в полном расцвете, бровь тонкая, черная, кость легкая, а на плечиках уже первый молодой жирок ямочками пупится и одета всегда чудо как к лицу, чаще в палевом или в белом, с расшивными узорами, и ножки в цветных башмаках с золотом.
Разумеется, началось смятение сердец. У нас был офицер, которого мы звали Фоблаз, потому что он удивительно как скоро умел обворожать женщин, – пройдет, бывало, мимо дома, где какая-нибудь мещаночка хорошенькая сидит, – скажет всего три слова: «милые глазки ангелочки», – смотришь, уже и знакомство завязывается.
Я сам был тоже предан красоте до сумасшествия. К концу обеда я вижу – у него уже все рыльце огнивцем, а глаза буравцом.
Я его даже остановил:
– Ты, – говорю, – неприличен.
– Не могу, – отвечает, – и не мешай, я ее раздеваю в моем воображении.
После обеда Холуян предложил метнуть банк.
Я ему говорю, – какая глупость! А сам вдруг о том же замечтал, и вдруг замечаю, что и у других у всех стало рыльце огнивцем, а глаза буравцом.
Вот она, мол, с какого симптома началась проклятая молдавская лихорадка! Все согласились, кроме одного Фоблаза. Он остался при куконе и до самого вечера с ней говорил.
Вечером спрашиваем:
– Что она, как – занимательна?
А он расхохотался.
– По-моему, – отвечает, – у нее, должно быть, матушка или отец с дуринкой были, а она по природе в них пошла. Решимости мало: никуда от дома не отходит. Надо сообразить – каков за нею здесь присмотр и кого она боится? Женщины часто бывают нерешительны да ненаходчивы. Надо за них думать.
А насчет досмотра в нас возбуждал подозрения не столько сам Холуян, как его брат, который назывался Антоний.
Он совсем был не похож на брата: такой мужиковатый, полного сложения, но на смешных тонких ножках.
Мы его так и прозвали «Антошка на тонкой ножке». Лицо тоже было совершенно не такое, как у брата. Простой этакой, – ни скоблен, ни тесан, а слеплен да брошен, но нам сдавалось, что, несмотря на его баранью простоту, в нем клок серой волчьей шерсти есть… Однако вышло такое удивление, что все наши подозрения были напрасны: за куконою совсем никакого присмотра не оказалось.
Образ жизни домашней у Холуянов был самый удивительный, – точно нарочно на нашу руку приспособлено.
Тонкого Холуяна Леонарда до самого обеда ни за что и нигде нельзя было увидеть. Черт его знает, где он скрывался! Говорили, будто безвыходно сидел в отдаленных, внутренних комнатах и что-то там делал – литературой будто какой-то занимался. А Антошка на тонких ножках, как вставал, так уходил куда-то в поле с маленькою бесчеревной собачкою, и его также целый день не видно. Все по хозяйству ходит. Лучших, то есть, условий даже и пожелать нельзя.
Оставалось только расположить к себе кукону разговором и другими приемами. Думалось, что это недолго и что Фоблаз это сделает, но неожиданно замечаем, что наш Фоблаз не в авантаже обретается. Все он имеет вид человека, который держит волка за уши, – ни к себе его ни оборотит, ни выпустит, а между тем уже видно, что руки набрякли и вот-вот сами отвалятся…
Видно, что малый ужасно сконфужен, потому что он к неуспехам не привык, и не только нам, а самому себе этого объяснить не может.
– В чем же дело?
– Пароль донер, – говорит, – ничего не понимаю, кроме того, что она очень странная.
– Ну, богатая женщина, избалованная, капризничает, – весьма естественно.
Порядок жизни у нашей куконы был такой, что она не могла не скучать. С утра до обеда ее почти постоянно можно было видеть, как она мотается, и всегда одна-одинешенька или возится с самой глупейшей в мире птицей – с курицей: странное занятие для молодой, изящной, богатой дамы, но что сделать, если такова фантазия? Делать ей, видно, было совершенно нечего: выйдет она вся в белом или в палевом неглиже, сядет на широких плитах края веранды под зеленым хмелем, – в черных волосах тюльпан или махровый мак, и гляди на нее хоть целый день. Все ее занятие в том состояло, что, бывало, какую-то любимую свою маленькую курочку с сережками у себя на коленях лущеной кукурузой кормит. Ясное дело, что образования должно быть немного, а досуга некуда деть. Если с курицей возится, то, стало быть, ей очень скучно, а где женщине скучно, там кавалерское дело даму развлекать. Но ничего не выходит, – даже и разговор с нею вести трудно, потому что все только слышишь: «шти, эшти, молдованешти, кернешти» – десятого слова и того понять нельзя. А к мимике страстей она была ужасно беспонятна. Фоблаз совсем руки опустил, только конфузился, когда ему смеялись, что он с курицею не может соперничать. Пошли мы увиваться вокруг куконы все – кому больше счастье послужит, но ни одному из нас ничего не фортунило. Открываешься ей в любви, а она глядит на тебя своими черными волооками, или заговорит вроде: «шти, эшти, молдованешти», и ничего более.
Омерзело всем себя видеть в таком глупом положении, и даже ссоры пошли, друг к другу зависть и ревность, – придираемся, колкости говорим… Словом, все в беспокойнейшем состоянии, то о ней мечтаем, то друг за другом в секрете смотрим за нею. А она сидит себе с этой курочкой, и кончено. Так весь день глядим, всю ночь зеваем, а время мчится и строит нам еще другую беду. Я вам сказал, что с первого же дня, как обед кончился, Холуян предложил, что он нам банк заложит. С тех пор пошла ежедневно игра: с обеда режемся до полночи, и от того ли, что все мы стали рассеянные, или карты неверные, но многие из нас уже успели себя хорошо охолостить даже до последней копейки. А Холуян чистит да чистит нас ежедневно, как баранов стрижет.
Разорились, оскудели и умом, и спокойствием, и неведомо до чего бы мы дошли, если бы вдруг не появилось среди нас новое лицо, которое, может быть, еще худшие беспокойства наделало, но, однако, дало толчок к развязке.
Приехал к нам с деньгами чиновник комиссариатский. Из поляков, и пожилой, но шельма ужасная: где взлает, где хвостом повиляет, – и ото всех все узнал, как мы не живем, а зеваем. Пошел он тоже с нами к Холуяну обедать, а потом остался в карты играть, – а на кукону, подлец, и не смотрит. Но на другой день-с вдруг говорит: «я заболел». Молдавская лихорадка, видите ли, схватила. И что же выдумал: не лекаря позвал, а попа, – молебен о здравии отслужить. Пришел поп – настоящий тараканный лоб: весь черный и запел ни на что похоже, – хуже армянского. У армянов хоть поймешь два слова: «Григориос Армениос», а у этого ничего не разобрать, что он лопочет.
Поляк же, шельма, по-ихнему знал немножко и такую с попом конституцию развел, что приятелями сделались и оба друг другом довольны: поп рад, что комиссионер ему хорошо заплатил, а тот сразу же от его молебна выздоровел и такую штуку удрал, что мы и рты разинули.
Вечером, когда уже при свечах мы все в зале банк метали, – входит наш комиссионер и играть не стал, но говорит: «я болен еще», и прямо прошел на веранду, где в сумраке небес, на плитах, сидела кукона – и вдруг оба с нею за густым хмелем скрылись и исчезли в темной тени. Фоблаз не утерпел, выскочил, а они уже преавантажно вдвоем на плотике через заливчик плывут к островку… На его же глазах переплыли и скрылись…
А Холуян хоть бы, подлец, глазом моргнул. Тасует карты и записи смотрит на тех, которые уже в долг промотались…







