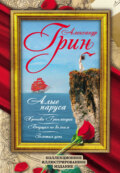Александр Грин
Ксения Турпанова
IV
Турпанов, после ухода Кузнецова, вспомнил, что жены долго нет, оделся, прошел к лавочке, увидел за стойкой мужика, рассматривающего картинки старых журналов, и спросил:
– Жены моей не было у вас?
– Нету, – сказал мужик, – не приходили.
«Что за черт, – подумал Турпанов, – не ушла ли она к Антоновым?» Но, тут же вспомнив, что жена Антонова давно в ссоре с ним из-за спора о «самоценности жизни», оставил эту мысль и прошел на берег. Из казенки шел парень с двумя четвертями под мышкой, трезвый, деловито посматривая на бутылки.
– Голубчик, – спросил Турпанов, – не видал ли ты барыню в белой шапке? Это моя жена, – прибавил он, думая, что так парню будет понятнее, зачем он об этом спрашивает.
– В белой? – переспросил парень. – Это Турпаниха, стало быть… видел никак супругу вашу, – поправился он, – на татарьинском карбасе давеча проехали в город, верно они, глаз у меной такой… приметливый.
Турпанов пожал плечами, покачал головой и, обеспокоенный, подошел к воде. В темнеющей дали, шурша, двигался невидимый лед, свистел ветер.
«Ну, Ксения, – подумал Турпанов, – зачем это?» Неужели правда? Ни вчера, ни сегодня между ними не было разговора о необходимости ехать. С почты, кроме газет, нечего было ожидать, знакомых в городе не было. «Ксения, что же это? – твердил Турпанов. – А вдруг утонет… нет, пустяки… а вот простудится, сляжет хрупкая»… И почему-то обманула его.
Ничего не понимая и начиная от этого слегка раздражаться, Турпанов медленно двинулся по дороге среди голых зимних кустов к мысу. Черные вечерние избы глухо проступали слева, среди замерзших полей; огонек спасательной станции горел высоко на мачте меж тусклых звезд. Мысли о Ксении, доехала ли она и когда вернется, преследовали Турпанова.
Он вдруг ясно и живо представил ее, бесшумную, иногда грустную молчаливо, подчас веселую тем внутренним, смеющимся, тихим и невинным весельем, которое непременно в конце концов передавалось ему, как бы он ни хандрил. – «Ах ты, славная Ксеничка», – сказал Турпанов, с удовольствием чувствуя, что любит жену, и вспомнил, что ему часто приходила в голову мысль: любит ли он ее.
«Вот странно, даже дико, – подумал он, – как же не люблю?» И опять стало страшно, что она утонет. Сам он чрезвычайно боялся воды, и ко всему, отмеченному риском, к рекам, лесу, охоте и оружию, относился с брезгливым недоумением интеллигента, – полумужчины, неловкого, головного человека.
– Сегодня приедет, как же иначе, – вслух сказал Турпанов. – Жена сбежала! – шутливо усмехнулся он. И вспомнил, что у Меркулова действительно убежала жена, не вынеся бедности в ссылке с мужем-истериком. Турпанов старался представить, могла ли бы сделать то же самое его Ксения. Вопрос этот интересовал его, но не беспокоил, отношения их были ровные и заботливые. «Мы все-таки с ней разные, – мои идеалы, например, чужды ей». Под идеалами он подразумевал необходимость борьбы за новый, лучший строй. Но представления об этом строе и способах борьбы за него делались у Турпанова с каждым годом все более вялыми и отрывочными, а остальные ссыльные даже избегали говорить об этом, как живописцы не любят вспоминать о недоконченной, невытанцовавшейся картине.
«Да, Ксения… человек внутренне свободный, – размышлял, прогуливаясь, Турпанов, – а все-таки…» Что «все-таки», – он хорошенько не знал. На языке сбивчивых туманных мыслей его – это выражало животное чувство превосходства мужчины. Она спорила редко, а если спорила, то утверждала всегда что-нибудь шедшее вразрез со всеми его установившимися понятиями, и было видно, что высказанное принадлежит ей. «Пожалуй, я не знаю ее, – подумал Турпанов, – и не надо знать, так лучше, может быть, она просто недалекая, но добрая».
Он перешел дорогу, думая повернуть назад, как вдруг заметил двигающийся, неясный силуэт человека, идущего навстречу. Очертания фигуры показались ему знакомыми. Через минуту он поклонился и обрадовался. Это шла Марина Савельевна Красильникова, ссыльная, вдова убитого на войне офицера; на Тошном ее звали попросту Мара. Турпанов разглядел ее улыбку, выразившую веселье и зябкость. Полная, белокурая и высокая, она в темноте казалась стройнее и меньше.
– А, здравствуйте, – более бодрым, чем всегда, голосом сказал Турпанов.
– Вы гуляете?
– Да вышла пройтись. А вы?
– Тоже. Я провожу вас, – сказал Турпанов. – Знаете, жена в город уехала. И не предупредила. Я вот хожу и ломаю голову: зачем?
– Ну, по хозяйству что-нибудь, а вы беспокоитесь?
– Нет, зачем же… – Турпанов перебил себя: – Ну что, как дни вашей жизни?
– А вот скоро срок мой оканчивается, – радостно и серьезно заговорила Мара. – Вы, бедняжки, будете здесь сидеть, а я уеду. Уеду, – повторила она, как бы стараясь полнее представить прелесть освобождения. – В Москве остановлюсь на месяц; там ведь у меня, знаете, знакомства… Два года жизни убито. Теперь догоняй! И догоню.
– Вы можете, – медленно произнес Турпанов, сбоку оглядывая женщину. Она шла рядом с ним, на одном и том же небольшом расстоянии. Про нее ходили смешные и раздражающие сплетни, а сослали ее за дело о каком-то партийном спектакле. Турпанов сказал:
– Рисковать будете?
Мара сдержанно засмеялась.
– О, нет! Довольно с меня. По горло сыта!
– Вы откровенны.
– И вы будьте таким. – Она посмотрела на него внимательно, строго. – Актеры вы все, и плохие, плохенькие. Ну, чего там? Какая еще революция? Живы – и слава богу.
– Позвольте же, Мара, – начал было Турпанов, но вдруг убедительно и просто почувствовал, что спорить, а тем более горячиться не о чем. – «Все это странно, однако, – подумал он, – неужели я… – но об этом не хотелось даже думать. – Доступна, или недоступна? – глухо подумал он. – Ну и свинья я, а Ксения?»
– Ваша жена сегодня приедет?
– Не знаю, – сказал Турпанов, – а вот что интересно!.. Да, она не приедет, конечно, уже темно и ветер. В гостинице переночует, я думаю… Так интересно, я говорю, вот что: в молодости мы треплемся черт знает как, и теперь…