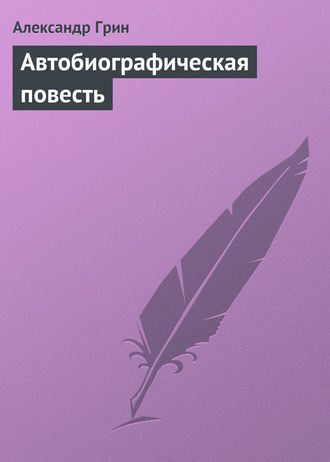
Александр Грин
Автобиографическая повесть
IV
В начале мая пришел на биржу босяков человек с бородкой и спросил, не желает ли кто работать на рыбном промысле. Восемнадцать рублей в месяц, харчи готовые, чай, сахар и табак свой.
Никто из бакинских лаццарони, слонявшихся по бирже, не пожелал принять такое предложение. Босяки боялись постоянных мест, так как, видимо, предпочитали не знать, что с ними будет, более или менее равномерному существованию. Впрочем, работа на рыбных промыслах нелегка, и я, вызвавшись стать рыбаком, скоро в том убедился.
Человек с бородкой – старшой промысла – привел меня к парусной лодке – карбасу или баркасу, как он там называется. В лодке был второй рыбак Ежов, смирный молодой парень. Мне понравились очень высокие рыбацкие сапоги с ремнями под коленом и толстыми, набитыми гвоздями подошвами. Брюки рыбаков были из парусины, блузы цветные, бумазейные, фуражки кожаные.
Мы снялись, уплыли далеко за пределы порта в сторону Петровска, то есть к Астрахани, и пристали у большого плоского острова, отделенного от материка высохшей мелью. Здесь у самой воды были здания промысла: жилой дом из камня с земляной крышей, сарай для снастей, лавка и жилье приказчика.
Жилье рыбаков состояло из двух помещений: одно с четырьмя топчанами для сна; другое, рядом, – зимняя кухонная комната, где ели, варили, пили чай. Пол был земляной, окна малы. Стоял также стол в сарае.
Как день был воскресный, время – четыре часа – позднее для работы, то я провел время до утра, ничего не делая, кроме лишь того, что получил от приказчика книжку, на которую взял пять фунтов сахару, четверть фунта чаю, пачку табаку и спичек.
Ели мы хорошо: вареную и жареную белугу, икру; утром чай был с белым хлебом и балыком или с чашкой икры, которую ели ложками.
Известно, что рыбная пища способствует малярии, а у меня к этому времени вновь началась сменная температура, пока еще не особой, правда, силы, и я боялся сказать об этом рыбакам, чтобы меня не уволили.
Всего было нас четверо; старшой, коренастый мужичок с бородкой, лет сорока, Ежов, я и высокий, толстый краснощекий Буранов. Надо отдать должное справедливости и вниманию людей: они меня учили на каждом шагу, как и что делать, а Ежов, догадавшись, что ночью меня трясет лихорадка, дал мне свое хорошее байковое одеяло; оно завшивело у меня. И вот, недели через две, когда я, уходя с промысла, вернул Ежову одеяло, то случайно заглянул из кухни в дверь; Ежов в тот же миг покраснел и быстро спрятал под собой это одеяло, а я уже заметил, что он, что-то ворча под нос, выбирает из одеяла насекомых. Меня очень тронула деликатность человека, испугавшегося моего конфуза.
Так. Но обратимся к работе. Приказчик отказал выдать мне сапоги, боясь, может быть, что еще ничего не заработавший босяк сбежит с ними; сапоги стоили двенадцать рублей. К тому времени я уже продал и обменял свои обновы на тряпки, а потому мне выдали все же бумазейную рубаху и старые парусинные брюки да еще старую же кожаную фуражку. Был я почти бос, так как опорки мои развалились.
Пока не было подходящего ветра и снасти не были готовы, мы точили крюки. Снасть («порядок» так называемый) состоит из длинной, в версту и более, веревки, к которой через каждые три четверти аршина привязаны тонкие бечевки, длиной аршина полтора. На концах этих бечевок ввязаны большие, остро наточенные крючки, без бородки. «Порядок» расстилался далеко в море прямой линией, к концам его на вертикально падающих в глубину канатах привязаны якоря – большие камни. Камни эти удерживают снасть под водой, горизонтально. Красная рыба – белуга, севрюга и осетер, – ходя под водой, задевает своей цепкой щитковидной чешуей за острия крючков и, пытаясь освободиться, еще больше прокалывается со всех сторон, так как путает снасть вокруг себя.
Сети, расставленные в воде у берега, неподалеку от деревянных, на сваях, мостов, ловили сазанов и другую рыбу. Сазанов мы съедали всех. Это очень вкусная, но дешевая рыба, а наш хозяин-грузин, владелец рыбного магазина в Баку, интересовался только красной рыбой.
Старшой утром показал мне, как точить крючки. Я уселся на скамью перед воткнутой в песок деревянной установкой с навешанной на ней снастью, постепенно снимал висящие в порядке, аккуратно крючки, точил их при помощи особой дощечки с отверстием – треугольным напильником – и вешал опять.
Так мы работали (в то время старшой и Ежов делали другую работу: чинили сети, паруса и т. п.) дня три, а затем отправились на баркасе в море при попутном ветре. Уехав так далеко, что берег скрылся из вида, мы разыскали по приметным буям свои «порядки» и проверили их. Лодка с опущенными парусами стояла; вернее – она передвигалась очень тихо, по мере того, как, перебирая руками подтащенную вверх из глубины снасть, рыбак тем самым передвигал баркас. Добычи было мало: один «порядок» оказался совсем нетронутым, другой дал уже мертвого маленького тюленя, которого мы бросили, а на третьем полузаснула белужка весом пуда три да осетер длиной меньше сажени. Этот сильно спутанный «порядок» пришлось вытащить, складывая его кругами на дно лодки. На этой работе я исколол руки до крови, устал безумно, и еще больше пришлось мне устать, когда после ночи, проведенной в море, довелось грести тяжелыми веслами, потому что ветер около полудня вдруг упал. Мои руки были натерты жесткими мокрыми веревками до мозолей и крови, соленая вода жгла ладони, а волнение, хотя и без ветра, делало греблю так неровно-тяжелой, что, сжалясь, рыбаки устранили меня от весел.
В море мы ничего не ели, кроме сухарей, воды и копченой рыбы; получили еще от старшого по стаканчику водки. У меня долго кружилась после этого плавания голова, дрожало и ныло все тело.
Дня четыре провели мы в береговых работах. Стало холодно, так как подул норд, этот бич Апшеронского полуострова. Здесь чуть не случилось несчастье, и виноват оказался я. Я и старшой, когда ветер со страшной силой дул от берега в море, затеяли перевести одну шлюпку, привязанную к колу, по левую сторону мостков, чтобы там вытащить ее на берег.
Пройдя по колено в воде, мы заскочили в шлюпку; я взял весло и, толкая им в дно, начал двигать шлюпку к мосткам, а старшой правил. Уже мостки были близко – вдруг страшным ударом ветра лодку повалило на упертое мною в дно весло и выбило весло из рук; в ту же минуту оказались мы в стороне от мостков, и нас стало уносить в море; а кроме нас, никого не было: остальные ушли к татарам за бараниной.
Мы спаслись только благодаря тому, что старшой не потерялся; неистово крича, браня меня, себя и всех и все, он схватил лежавшую на дне шлюпки толстую палку и начал стоя грести ею так, что вода свистела; палка рвала воду с быстротой швейной машины. Я, вытянувшись на носу и вытянув руку, готовился ухватиться за сваю мостков. Расстояние не более пяти сажен мы проходили, может быть, не меньше как пятнадцать минут, и я натерпелся страха. Наконец я вцепился в сваю и привязал шлюпку.
Старшой, когда шлюпка была затащена на песок, шатаясь, пошел прочь, как пьяный, потом упал ничком и долго, так лежа, хрипел; встав, он сказал:
– Ну, смотри, Лександра, чуть не пропали мы…
Действительно, в открытом, штормовом море нас ждал верный конец.
Я слышал рассказ о четырех рыбаках, которые, вцепясь в киль перевернутого бурей баркаса, трое суток носились по волнам Каспия. Прибило их в Персии, возле Ленкорани; один умер, остальные выжили.
Еще раз мне пришлось съездить в море; в тот раз мы поймали белугу около сорока пудов, так что, когда погрузили ее в двухколесную арбу, то хвост ее волочился по земле. Она так спутала весь «порядок», что мы ее даже не разматывали, а, оглушив по темени каким-то рыбацким специальным железом, тащили к острову на буксире со всей ее одеждой, продев под жабры канат. Очень жаль, что я не помню подробностей возни с этим чудовищем, но (мелькнуло сейчас воспоминание, почти обрисовалось и отлетело) оно едва не перевернуло баркас, когда стояло у нашего борта. Белуга заняла целый день с раннего утра до вечера, лишь ночью на парусах доставили мы ее к острову. Из белуги вылилось несколько ведер икры (два дня мы ели икру). Утром приехал татарин с арбой и увез рыбу лавочнику-хозяину, а также бочонки с икрой.
После второго плавания лихорадка бурно повалила меня; я горел и трясся. Есть я не мог, только пил воду. А между тем наши рыбаки украли заблудившуюся татарскую козу и жарили ее, угощая меня печенкой, почками; я завидовал им, но есть не мог.
Ночью (ели козу ночью) раздался стук; я слышал тревожный голос татарина, ищущего свою козу.
– Нет, не видели, – сказали ему рыбаки и, после препирательств, вновь вытащили из-под стола свое жаркое, спрятанное там, едва раздался стук в дверь.
Между прочим: плита топилась нефтью, а нефть мы собирали, черпая ее тонкий слой жестянкой с выступающих из-под земли луж.
Видя, что я серьезно болен и прошу меня отпустить, старшой дал мне записку к хозяину; кое-как добрел я до Баку, получил от хозяина свой расчет (рубля четыре), и доктор ночлежного дома направил меня в больницу, где после адских приемов хины я дней через пять временно освободился от малярии. Затем встретил я того пожилого босяка, с которым мы нищенствовали на Пасхе; он соблазнил меня идти бродяжить на Северный Кавказ, уверяя, что казаки щедрый народ; я согласился, и пошли мы в сторону Петровска – Дербента, – то берегом, то по тропинкам холмов.
V
Таланты моего спутника обнаружились очень скоро: когда мы прошли через Черный город, у него было уже «настреляно» от прохожих больше рубля. Мы переночевали в духане на горе, у дороги, обставленной скалами, при живописной луне, а ночью выпили бутылку красного вина и съели шашлык. Следующий день был жаркий. Путь наш теперь лежал по линии строящейся Баку – Петровск железной дороги, и около двух часов увидели мы, что за столом в одном деревянном открытом бараке сидит большеносый человек в папахе и синем костюме, пожирая жареную курицу. Рядом с курицей пламенела четверть ведра вина.
Соревнуясь в подвигах с попутчиком своим, я тотчас вознамерился «стрелять» человека в папахе, но мудрый учитель мне сказал:
– Это не дело. Садись на траву, будем есть свой сухой хлеб, и… вот увидишь, что будет.
При этом он тридцать раз помянул родительницу человека в папахе и брякнулся на траву. Смотря прямо в лицо обедающему, стали мы, сидя уныло, жевать хлеб и дожевались до того, что курица, видимо, стала у человека поперек горла; он подозвал нас, отдал всю оставшуюся половину курицы и налил нам по стакану вина.
Я удивился, как верно рассчитал все мой психолог-босяк, и был восхищен. Не помню из-за чего, но мы весь день с ним пикировались и ругались, так что к вечеру мой спутник смертельно мне надоел, а как ночевать мы остановились в рабочей пекарне, в степи, то пекаря начали уговаривать меня остаться работать у них, и я согласился: сорок копеек в день на готовой пище. Утром тщетно уговаривал меня компаньон идти с ним; я наотрез отказался. Уже по некоторым намекам его я догадывался, что у него есть на меня какие-то планы, может быть – уголовного порядка; хотя не помню разговоров, но впечатление это определенное, твердое. Два раза он мнимо уходил, возвращался и звал. Я послал его далеко… далеко!
– Ну, так пропадай тут: лезь в хомут, если так тебе нравится… Дураков работа ищет! – закричал он и скрылся в степи.
А я стал работать в пекарне. Вначале носил муку, воду, колол дрова, таскал из печей горячий хлеб, а затем мне дали телегу и лошадь; я стал развозить мясо и хлеб в казармы землекопов строящейся железной дороги.
Эта вполне самостоятельная работа мне понравилась: я утром водил лошадь к источнику, где поил ее, встречаясь там с погонщиками верблюдов, купал лошадь в море и сам купался; запрягал свою кобылу, грузил телегу хлебом, говядиной (коров резали при пекарне) и развозил эту пищу по своему участку, сдавая ее на вес. Конечно, я мог есть хлеба сколько хотел, но обедать – щи, кашу – мог только к вечеру, когда возвращался. Я мало тогда беспокоился о чае – не то, что теперь; по вечерам с удовольствием пил кирпичный чай и курил махорку.
Так я жил недели две, затем пекарня прикрылась (не помню уже почему). Я пешком направился в Баку, но по дороге пристал к одной артели землекопов, рывшей насыпь, и, соблазненный рассказом о хорошем заработке, остался у них. Сколько тогда платили за куб земли? Два с четвертаком, два с полтиной – так, кажется. Но землекопная работа, одна из самых тяжелых, сразу подрезала меня, тем более что она производилась группами и надо было не отстать от других рабочих; я спасовал. После двух дней такой работы на зное я слег, снова заболев лихорадкой. Затем пытался я еще возить землю на насыпь, но и тут не выдержал, не говоря уже о том, что тачки с землей, кои пробовал я таскать, – весом до двадцати пяти пудов груза – вываливались у меня из рук.
Рабочие – все пришлые крестьяне из России – жили в длинной землянке с такой низкой дверью, что входить надо было согнувшись. Эта землянка, крытая дерном, не давала спать – так было ночью в ней душно, так была сильна вонь натруженных тел крестьянских, – и вшей было довольно. А спали на нарах вповалку, толкая во сне друг друга коленями и локтями.
Измученный, я бежал, оставшись должен подрядчику восемьдесят копеек за чай и сахар. Когда я жил в землянке, мне пришлось видеть артель землекопов-мордвинов. Они «обедали». В чашку с водой с солью был покрошен черный хлеб – все! Поев, они с довольным видом закурили из трубок махорку. Но эти крайне выносливые мужики вырабатывали по кубу и больше на человека в день; значит, могли есть сытно?! Да, но я слышал, что они крайне скупы, и сам знал в Баку таких, которые работали, например, котельщиками или слесарями, а жены их все-таки ходили побираться, продавая хлеб для коров и лошадей по копейке за фунт.
Так же, но уже не скаредно, а скверно, питались персы-грузчики, получавшие плату ниже, чем русские рабочие (кажется, пятьдесят копеек поденно). Но этим ничего другого, конечно, не оставалось. Они ели покрошенный в большую чашку лаваш, сдабривая его водой, подцвеченной молоком.
От землекопства мне захотелось идти опять на рыбные промыслы, и, узнав, что верстах в сорока такой промысел есть, я легкомысленно двинулся к берегу моря, у самой воды. А надо было идти проезжими дорогами, где есть источники, караван-сараи; и я чуть не умер от жажды.
Солнце палило неумолимо; кричали тарбаганы (суслики), звенели кузнечики; не было ни ветра, ни волнения в море.
Вначале я шел бодро, потом захотел пить. Поглядывая на морскую воду, я стал прибавлять шаг, так как надеялся встретить речку, ручей или жилье; но холм за холмом проходили слева, впереди тянулись плоские изгибы берега один за другим, а признаков воды не было.
Уже солнце перешло зенит; жар был такой, что ядовитый озноб пробегал по телу и красные круги шли передо мной на белом песке. Жажда стала мученьем.
Глотая слюну, схватывая и жуя стебелек, примачивая голову морской водой, я то шел, спотыкаясь, то бежал.
Остального не помню. Я был в полубессознательном состоянии от страшных мучений, передать которые словами нельзя. Они сосредоточены в горле и пищеводе, где как бы движутся потоки горячей соли, приводя в слезы и бешенство. Рыдая, громко призывая на помощь, я бежал стремглав все дальше и дальше, не присаживаясь, не останавливаясь, с безумной болью внутри.
Помню одну заботу тех адских часов: как бы не упасть. Упав, я не смог бы встать.
Но у меня хватило силы избежать для питья морской воды и не хватило соображения выкупаться – купанье облегчило бы мои неимоверные страдания.
На закате солнца я увидел за срывом берега примкнувшую к нему дерновую крышу промысла, пробежал мимо двух пытавшихся меня остановить рыбаков, исступленно закричал: «Где вода?» – и, сам увидев под навесом сарая бочку, полную воды, припал к ней ртом… Меня вырвало. Я снова припал – и тот же результат. От слабости я сел. Тогда один рыбак стал поить меня из кружки. Мои зубы стучали. Я глотал, чувствуя боль при каждом глотке, проливал воду на грудь и не мог удержать рыданий. Наконец второй рыбак вылил мне на голову ведро воды; дрожь усилилась, но нервы стихли, и, уже спокойнее, я напился досыта.
В течение вечера я принимался пить несколько раз – и чай и воду.
В таком утолении жажды нет радости, – оно мрачно, тягостно, почти преступно.
Как наступила прохлада, я отошел уже, вместе с рыбаками шутил и смеялся над своим приключением. Молодой рыбак, оказавшийся читавшим кое-что из моих любимых авторов – Эмара, Жюль Верна и других, – пел «Баламуты», потом меня накормили вареной рыбой, и я крепко уснул, а утром направился обратно в Баку, но уже по линии строящейся железной дороги, для чего мне пришлось отшагать несколько верст в глубину равнины. С одного места двигался в Баку состав пустых вагонов; я забрался в вагон и на следующий день приехал в город.
Снова трясла меня лихорадка, и, хотя я не спал всю ночь, я отчетливо видел во тьме странные жуткие галлюцинации. Если я закрывал глаза, я продолжал видеть вагон, но полный не тьмы, а подобия сумерек; в углах против меня сидели, опираясь руками о пол, жуткие волосатые существа с огненными глазами; их толстые длинные хвосты шевелились, как у крыс. И лица их были отвратительны. Тогда я открывал глаза – все пропадало. Я курил и старался не смежать глаз.
Несколько дней спустя, без денег, рваный и больной, я сидел в духане. Пришел человек и стал звать желающих поступить матросом на пароход «Атрек» компании «Надежда». Это был товаро-пассажирский пароход, делавший круговые рейсы.
Я вызвался и отправился на пароход. Так с начала до конца все было неинтересно, бесцветно на этом пароходе, так были серы и не по-матросски одеты матросы, пароход так грязен, кубрик – нечист и неудобен, что рейс на «Атреке» – в противность Черному морю – совершенно забыт мной как действие; я помню его только как факт, как ряд фактов. Даже пищу мы варили сами, по очереди: борщ и кашу – из своего жалованья в двадцать один рубль. Матросы подрабатывали тем, что грузили товар вместе с грузчиками, но мне непосильно было это, и я отказался. Беспрерывно больной лихорадкой, я с трудом нес вахты. Не помню ни пассажиров, ни капитана, ни гаваней, ни лиц матросов. Знаю только, что на «Атреке» я доплыл до астраханских «Двенадцать фут», то есть до рейда, и попросил за две недели расчет. За вычетом стоимости продовольствия, выдано мне было около шести рублей, на которые я, задумав теперь вернуться домой, немного приоделся: купил бумажный пиджак и брюки, рубашку с чесучовой грудью (косоворотку), кальсоны, фуражку. Не хватило на башмаки. Осталась мелочь, которую я быстро проел, и, когда упросился на пароход плыть до Казани, денег у меня не было.
Неподалеку от Черного Яра (или Красного?) контроль ссадил меня на берег, потому что разрешил ехать помощник, а контроль делал капитан и не захотел, чтобы я ехал. Я напрасно просил его. Меня ссадили в таком месте, где пароходы приставали только случайно – если был адресован туда груз.
И вот, до следующего Яра, где находились все пристани, прошел я пешком сорок пять верст за два дня. Пришел я в большое село, и меня пригласили в волостное правление – проверить паспорт. Я рассказал волостному старшине о своих горемычных странствиях; этот добрый мужик привел меня к себе в хороший зажиточный дом, напоил чаем, накормил ужином, уложил спать, а утром, прощаясь, как-то очень хорошо, человечески всучил мне серебряный рубль, и когда я, со стыдом в душе, благодарил его, то он сказал: «Ладно, ладно, берите, у меня самого вот так-то сын мучается, – отбился совсем, и уж три месяца писем от него нет».
А хозяйка дала мне пирогов, хлеба и яиц.
Придя в Яр (кажется, Красный, а может быть – Черный), я решительно сел на пароход «зайцем». Ночью было холодно, меня знобило, и я лег за дрова, на железный кожух машинного отделения. Этой же ночью стали проверять билеты, и мне приказали слезть на первой же пристани. Я придумал следующее: когда пароход давал свисток – в знак приближения к пристани, – я шел на корму и опускался за нее на идущий вокруг судна «планшир», род карниза, на котором и сидел, держась за свесившийся канат; и был я людям, ищущим меня, невидим с палубы. Когда пароход отваливал, я вылезал на палубу. «Где ты был? – сердито спрашивали меня матросы и помощник капитана. – Ведь мы тебя ищем». Но я своего секрета, конечно, не открывал и проехал таким образом три остановки. Наконец ко мне приставили матроса, чтобы он не упускал меня из вида; тогда, делать нечего, пришлось уйти, но, слезая на забытой уже пристани, я сообщил все же администрации парохода свою выдумку.
Удивлялись, смеялись, но ехать дальше все же не дали.
Подождав третьего парохода, я опять резво взошел «зайцем», но тут мне повезло: я встретил вдребезги пьяного незнакомого мне котельщика из Баку; он ехал домой в Симбирск. Узнав, что я тоже из Баку, котельщик возлюбил меня страшно: никуда не отпускал от себя, покупал водку, пиво, заказывал кушанья и потом бегал на пристань за воблой, каковая стоила тогда двугривенный десяток. То жался, то разбрасывался. Он купил мне билет до Казани – за рубль двадцать копеек, кажется; купил мне по пути – уже не помню где – новые «баретки» (летние коричневые башмаки из материи) за рубль пятьдесят копеек и все говорил:







