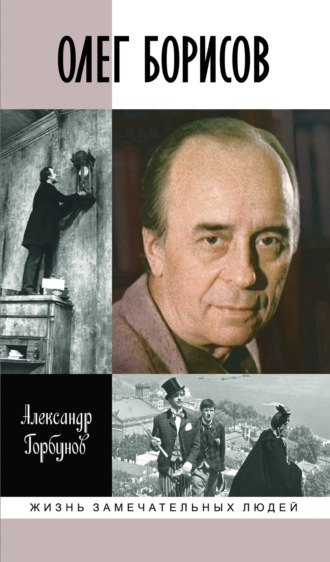
Александр Горбунов
Олег Борисов
© Горбунов А. А., 2019
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2019
Предисловие
Десять процентов таланта, отмеренного природой, понятия необъяснимого, и девяносто процентов осознанного трудолюбия, каждодневной неистовой работы, позволявшей многие годы справляться с болезнью, беспощадное отношение к себе, со «звериной требовательностью» (выражение режиссера Леонида Хейфеца) – требовательностью мотивированной – к окружающим, сделали Олега Борисова одним из самых великих артистов России.
Цифры, понятно, могут быть разными, но сути при этом не меняющими: талант, заложенный генетически, родом Борисовых, и кропотливость творческого труда, и феноменальное трудолюбие человека, осознающего свое предназначение. «Уверена, – пишет театровед Наталья Казьмина, – что если завтра объявят конец света, сегодня О. Борисов отправится на репетицию».
В театре и на съемках фильмов он быстрее всех входил в роль, потому что приходил, будучи полностью в нее вошедшим, и уходил, всё еще в ней пребывая. Сложно согласиться с суждением о том, что Борисов – один из тех артистов, у которых не было взлетов и падений. Таких – без взлетов и падений – много на российском театре и в кинематографе. Но Борисов – не один из них. Он, гений сцены, – над ними. В его творчестве не было провалов. Даже в «проходных» постановках и фильмах, о каких говорят: «ни уму ни сердцу», но в которых он как дисциплинированный артист, не отказывавшийся от вводов и эпизодов, был обязан играть, он отдавался роли полностью, никогда не опускаясь ниже своего уровня.
Взлеты же Борисова, что в театре, что в кино, достойны учебников для всех артистических школ. Его роли – Андрея («В добрый час»), Олега («В поисках радости»), Дромио («Комедия ошибок»), Петра («Последние»), принца Гарри («Король Генрих IV»), Кистерева («Три мешка сорной пшеницы»), Суслова («Дачники»), Григория Мелехова («Тихий Дон»), Ростовщика («Кроткая»), Астрова («Дядя Ваня»), Павла I («Павел I»), Свирида Петровича Голохвостого («За двумя зайцами»), Кочкарева («Женитьба»), следователя Ермакова («Остановился поезд»), Версилова («Подросток»), Германа Костина («Парад планет»), Муравина («По главной улице с оркестром»), Андрея Андреевича Гудионова («Слуга») – бесспорные шедевры театрального искусства и кино. Борисов не просто выдающийся актер – он явление. Особое, отдельное явление в русской культуре. Своей игрой он разрывал на части сердца.
Борисов больше любил роли, которые критика – несправедливо! – наделяла определением «отрицательная». Это было ему значительно интереснее. «Простора больше, возможностей, – говорил Олег Иванович. – Нет ограничений. Моя задача – срывать все клише, стереотипы. Попытаться заново взглянуть на человека. На то, что с ним происходит, какие он совершает поступки. Не давать никаких оценок. Понимать. Сострадать, наконец…»
В опубликованных спустя пять лет после ухода из жизни Олега Ивановича Борисова дневниках, ставших, к слову, важнейшим подспорьем при написании этой книги, поражает, как этот человек, невероятный пахарь, мудрый, прекрасно знающий себе цену, практически по поводу каждой предстоявшей новой работы писал: «…не знаю, справлюсь я или нет, сложно, я же такого не делал, как же, я могу подвести, могу ли я это освоить, могу ли я подняться с этим материалом…» Это – не рефлексия, а сверхтребовательность. В первую очередь к самому себе.
Он был великим актером, испытавшим голод, пережившим военное время, студенческую нищету, предательства, заквашенные на зависти и ревности. Борисов не побоялся взять себе за правило «умение быть некрасивым». Как верно заметила петербургский критик Марина Дмитревская, Олег Иванович был бесстрашным актером, «который никогда не боялся заглядывать на темную сторону улицы… Борисов имел бесстрашие не требовать от зрителей любви».
Яркий, неудобный, резкий, в то же время невероятно ранимый, нежный, тонкий и обладающий совершенно уникальными, безграничными возможностями.
Его не щадили, прежде всего за то, что он всегда оставался собой, не прогибался, не приспосабливался, не лебезил. Не заигрывал с властями. Он никогда не стремился к тому, чтобы располагать к себе. Вообще никого. Ни женщин, ни мужчин. Никогда не вымаливал какие-то награды и какие-то высокие оценки. «Он никуда не вписывался, – говорил Евгений Миронов. – Стоит вот такой… кочерыжкой. Его никуда – ни влево, ни вправо. Никуда. Стоит и всё. Борисов».
Для большинства он оставался закрытым, недоступным, застегнутым на все пуговицы. Чужаком, не вписывавшимся даже в неровный актерский строй. Зарубки на сердце – плата за возможность быть самим собой. Театр вообще очень жесток.
* * *
Дневники с названием «Без знаков препинания» – бесценный путеводитель по жизни Олега Ивановича Борисова. Равно как и свидетельства Вадима Юсуповича Абдрашитова, Льва Абрамовича Додина, Андрея Андреевича Золотова, Маргариты Рахмаиловны Литвин, Леонида Ефимовича Хейфеца. И, конечно же, невозможно переоценить многочасовые воспоминания Аллы Романовны Борисовой, вдовы Олега Ивановича, зафиксированные моим диктофоном.
Огромную помощь при изучении творчества Олега Борисова автору оказали и работы известных театроведов, таких как Анатолий Смелянский, Андрей Караулов, Александр Свободин, Сергей Цимбал, Борис Любимов, Наталья Старосельская, Ольга Егошина, Марина Дмитревская, Наталья Казьмина, Елена Горфункель, Татьяна Москвина, Ирина Павлова, Наталья Радько, Нина Рабинянц, Семен Лосев, Нинель Исмаилова…
Глава первая
От Приволжска до Москвы
8 ноября 1929 года в рабочем поселке Яковлевский (с октября 1938 года город Приволжск) Ивановской области в семье Борисовых – девятнадцатилетней Надежды Андреевны и 31-летнего Ивана Степановича – родился мальчик, о чем была произведена соответствующая запись № 93 в книге актов гражданского состояния местного загса.
С его появлением на свет связан забавный эпизод, который описан Олегом Борисовым – со слов родителей (они – из крестьян: мама из соседнего с Яковлевским Плеса, родилась 30 сентября 1910 года, отец – из Костромской губернии, родился 19 сентября 1898 года в селе Новинки Нерехтского уезда) – в дневнике:
«У меня ощущение, что еще в утробе матери я начал браниться. “Не хочу на эту землю, ну ее… вообще погоди рожать, мать”, – кричал я ей из живота, лягаясь ногами. Она, говорит, что-то слышала, да ничего не поняла.
Но все окончательно перепуталось в тот день, когда родители забирали меня из роддома. Принесли домой – бац! а там девчонка! Как же так, мать точно знает, что родила парня! Подсунули! Она обратно в роддом, объясняет: так-то и так, мол, где же ваша пролетарская совесть, товарищи? Отдайте мне назад сына. Они: ничего не знаем, надо было раньше думать. Она объясняет по новой: у него на лбу такая зеленочка, но там же тоже не дураки сидят – у всех зеленочка! Она им метрики разные, бутылку принесла, кое-как упросила – отдали ей парня, но чтобы назад уже не приносила – не примут!»
История о том, почему он при рождении был назван Альбертом, пошла, стоит сказать, от самого Олега Ивановича. Вот что он пишет об этом в дневнике: «В то время гостил в Москве бельгийский принц Альберт. Всё, как положено, с официальным визитом – красивый, не кривоногий. Мать возьми да назови меня в его честь. (И чего ей взбрело…) Я потом долго искал его следы – побывал в Лондоне, постоял у Альберт-холла, в библиотеке отца книгу прочитал о каком-то Альберте фон Больштедте, учителе Фомы Аквинского».
Альберт I, стоит сказать, был в то время не принцем, а королем Бельгии, и официальный визит королевской особы в Советский Союз тогда был полностью исключен по целому ряду причин. Главная из них – все монархии Европы выступали против страны, в которой совсем недавно расстреляли царскую семью. Кроме того, Бельгия вообще не признавала СССР. Признала только 12 июля 1935 года (через год с небольшим после гибели в горах короля Альберта, любителя альпинизма). Тогда же были установлены дипломатические отношения между двумя странами.
Первый приезд коронованной бельгийской особы в СССР – королевы Елизаветы, супруги Альберта, – датирован 15 марта 1958 года. Визит, против которого даже тогда выступали все монархии Европы, состоялся по приглашению председателя Президиума Верховного Совета СССР Климента Ефремовича Ворошилова и был приурочен к I Международному конкурсу им. П. И. Чайковского – Елизавета была большой ценительницей классической музыки.
Имя бельгийского короля не мелькало в 1920-е годы и в советских газетах, так что об этом Альберте вряд ли было известно жителям Яковлевского. Зато могло быть известно о другом Альберте – Эйнштейне: в мире широко отмечали в марте 1929 года пятидесятилетие выдающегося ученого.
Но все-таки склонен полагать, что имя Альберт первенец Борисовых получил в честь Альберта фон Больштедта: в хорошо подобранной библиотеке, собранной Иваном Степановичем (собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого – непременно), вполне могли храниться книги с упоминанием о великом немецком ученом, философе Альберте Великом – в будущем святом Альберте Кельнском (канонизирован в 1931 году). Об одной из этих книг Олег Иванович, собственно, и вспоминает.
Когда, забегаю вперед, настала пора регистрации отношений Аллы Латынской и Олега Борисова, Алла попросила жениха отправиться в киевский загс и написать заявление об изменении во всех документах имени – с Альберта, под которым Борисова никто и не знал, на Олега – так его называли все. В загсе каких только имен, с добрыми намерениями записанных родителями, не меняли (Даздраперму на Дарью, Комбайн на Николая, Гидростанцию на Веру, Мэлор – Маркс-Энгельс-Ленин-Октябрьская революция – на Михаила…), но про Альберта сказали: «Надо остаться Альбертом. Имя у вас уважительное, житейское – как у Эйнштейна».
Привычку рассчитывать в первую очередь на себя Иван Степанович прививал сыну с раннего детства. Вывозил на лодке четырехлетнего мальчика до середины Волги и выбрасывал за борт, словно щенка – плыви, как знаешь… Со слов отца, ситуацию, понятно, контролировавшего, маленький Олег какое-то время из воды не появлялся, потом высовывалась его фыркающая физиономия, он начинал барахтаться – короткими, истеричными взмахами рук…
Детство свое, как нечто единое, целое, Олег Борисов, надо сказать, не помнил. Только – фрагменты, только «островки» всплывали в памяти. Помнил, например, что на другом берегу широкой Волги была Серкова Слобода. Туда ходил паром с лирическим названием «Воробей», перевозивший подводы, людей. Помнил, как дед (по отцовской линии; дед по линии материнской погиб в Первую мировую войну) брал его с собой на ночную рыбалку. Олег сидел на корме большой лодки, закутанный в какие-то кожухи, а взрослые снимали переметы, выбирали стерлядь, потом варили тройную стерляжью уху… Помнил, как дед продавал лук и потом обратно возвращался и эту лодку тянул бечевой. Она шла по воде, а он по берегу. Так он и умер, тянув эту лодку…
Объяснял Олег это «беспамятство» поздним развитием. Бабушку свою (по материнской линии) называл «замечательной женщиной», которая, оставшись вдовой в возрасте двадцати шести лет, замуж больше не выходила и воспитала троих детей. Алла Романовна рассказывала мне, что Олег вообще не любил говорить о детских годах. «Никакого впечатления не осталось», – его ответ на вопрос театроведа, публициста Андрея Караулова о детстве.
Иван Степанович с 22 декабря 1931 года директорствовал в сельскохозяйственном техникуме в Плесе. Надежда Андреевна училась там на агронома. Время от времени Ивана Степановича переводили с одной работы на другую. В первый класс Олег пошел в Ярославле. Двор, улица были для него важнее всего. Особенно, рассказывал Борисов Караулову, ярославский двор: «Там у нас жил удивительный человек, я уже не помню, как его звали, кто он такой… Он был взрослый, в отличие от нас, пацанов, во дворе у него была мастерская, он делал броневички педальные для ребят, играл с нами. Но самое большое воспоминание – это его рассказы. “Заходите, ребята, заходите…” – приглашал он. Это было высшим признанием. Я помню, как он рассказывал о траловом флоте, как ловят рыбу и как ее обрабатывают, шкерят…»
Тогда, в начале 1930-х, была мода: всё, как у Толстого. Все дети ему подражали. Даже в муравейных братьев играли. Надо было разместиться на стульях, загородиться ящиками, завеситься платками и сидеть долго в темноте, прижимаясь друг к другу. Всё выполняли в точности и даже прижимались.
А еще надо было взять зеленую палочку и написать на ней тайну, самую сокровенную. Эту палочку отнести на край оврага и там, на переломе холма, закопать у дороги.
«Что написал на палочке, – рассказывал Борисов, – хорошо помню: мама. Наверное, с тех пор у меня нелюбовь к темноте, а вот чем-то загородиться, построить тын или забор – самая большая мечта. Пока неосуществимая».
Как-то Олег с товарищем подсмотрели за одним, что ходил по деревне с кружкой, проводили его до избы и решили «раскулачить». Вынесли самогонную машину через окно, пока его дома не было, но жидкость решили по дороге испробовать. Кончилось это худо – заснули прямо в овраге, а проснулись от того, что хозяин машины колотил ребятишек палкой. «Надо было уж и огурцы тащить! Ворье, молокососы!» – кричал он вслед.
После этого получившие свое воришки уселись на поляне и держали «военный совет»: разработали план, как пробраться в пионерлагерь – к детишкам богатых родителей. На их вещи позарились. Выжидали момент, когда пионеры на Волгу убегут…
«Тянули, – рассказывал Олег, – соломинку. Я вытащил длинную. Испугался, идти боюсь – дело рисковое. Тут косоглазый вынимает из портков аккуратно сложенную бумажку и шепчет: “На, прочти. Только никому не показывай! Строго секретно”. Я читаю еще плохо, а тут слова вообще непонятные. У косоглазого лучше получается: “Царю Небесный, Утешителю, Душе истины… на, понял?” – “А что это?” – “Молитва Святому Духу называется. Если прочтешь семь раз, всякое дело получается. Я у мамы переписал. Тайком. Ты сам-то крещеный?” – “Откуда мне знать…” Так я впервые узнал про молитву. Прочел семь раз и отправился “на дело”. Как ни странно, прошло успешно – косоглазому портки достались, себе взял рубашку и носил ее наизнанку, чтоб не опознал хозяин».
Иван Степанович учил девятилетнего Олега играть в шахматы. Показывал, как ходят фигуры. «Вот это король, – говорил он. – Перед смертью Иван Грозный держал его в руках… После бани велел подать шахматы и вместе с этой фигурой упал…» Олег шахматами не увлекся, но вспомнил эти уроки, когда снимался, в начале 1990-х годов в роли Ивана Грозного в фильме «Гроза над Русью», ставшем последним для режиссера Алексея Салтыкова. «В детстве, – говорил Олег Иванович, – был подан знак».
Учительница пения твердила: «Борисов, выйди к доске и проведи собрание. В каждом из вас должна быть такая ленинская искорка! Какой же ты косноязычный, Борисов! Надо быть активным, политически грамотным. Вот стой рядом и учись вести собрание!» «Была, – вспоминал Олег, – готова в глотку залезть всей пятерней, чтобы мой язык вытащить. А он уходил в этот момент в то самое место, на которое намекал Екклесиаст. Ни оратора, ни певца из меня не вышло». Учительницей пения была немолодая женщина с усиками, которая за неимением помады мазала губы свекольным составом, а лицо – жирной мазью, по своему же рецепту. Девочки видели, как она всеми этими притираниями торговала подальше от школы. Она твердила изо дня в день: «Музыку сочиняет народ, а композиторы ее только портят».
Олег помнил, как началась война, выступление Молотова. Он сразу прибежал домой со своей «войны» – дети играли в нее в репейниках.
Иван Степанович 23 июня ушел на фронт добровольцем. Из Ярославля, куда был переведен по партийной линии на шинный завод. Командовал санитарным поездом № 248. Дослужился до гвардии капитана. Был награжден грамотой Главного военно-санитарного управления Красной армии за отличную работу по уходу за ранеными бойцами, командирами и политработниками.
Олег с мамой, бабушкой и семилетним братом Левой отправились в эвакуацию. В теплушках было холодно. На какой-то станции Олег украдкой с цинковым ведерком в руках пробрался к воинскому эшелону, чтобы из большой, пылающей жаром печи набрать хоть горстку угольков… И в этот момент перед ним откуда ни возьмись вырос караульный и со всего размаха, молча, ударил ногой в пах… Так, врастяжку, и лежал он на земле, а когда очнулся, то ведерка рядом не было, кто-то подобрал. Над утратой долго горевали: другое ведерко достать было негде.
В Алма-Ате их не приняли. Поехали в Чимкент. У Олега от вшей поднялась температура – до сорока градусов. Жили в Чимкенте в каком-то клубе. Олег запомнил транспарант над сценой (под ней тоже кто-то жил) и то, как он голый стоял на лавке, мама в это время кидала его одежду в буржуйку, и было слышно, как в огне трещали вши. Вшей выводили и у Левы, который во время «экзекуции» горько плакал.
В 1943 году Борисовы из эвакуации вернулись. Но не в Приволжск, не в Плес, а в Карабиху. Проживали на территории усадьбы Некрасова. В военные годы все здание было поделено на комнатки по 8—10 метров. В апреле 2014 года на усадьбе появился новый памятный знак: открыли мемориальную доску, посвященную братьям Борисовым – Олегу и Льву. На открытие приезжала Алла Романовна Борисова.
Надежда Андреевна стала в Красных Ткачах старшим агрономом совхоза «Бурлаки», имевшего отношение к ярославской кордной фабрике (технические ткани). Олег и Лева матери помогали. «Вкалывали так, – вспоминал Олег, – как сейчас, по-моему, никто уже не работает. Валили лес, таскали бревна, водили трактора, работали на сенокосилках и в мастерских – к поршням подгоняли кольца». А еще Олег разгружал вагоны, объезжал совхозных лошадей – надо было помогать маме кормить семью.
В школу в Красных Ткачах – небольшую, уютную, в два этажа – Олег каждый день ходил (три километра) из Карабихи. Учился он неважно. По русскому языку у него была крепкая тройка, а иногда – редко – слабенькая четверка. Это уже считалось «прилично». Сидеть за учебниками не было времени. «Если бы, – говорил, – на экзаменах нужно было сдавать столярное ремесло, паяльное, лудильное, парикмахерское – это были бы пятерки».
Физик по фамилии Заяц, вспоминал Борисов, его «ненавидел. Люто. По его науке я был самым отстающим. Он влетал в класс как петарда. Мы еще не успевали встать, чтобы его поприветствовать, а он кричал с порога: “Борисов – два!” Я ему: “За что?” А он мне снова: “Два!” Да так, что чуть гланды не вылетали».
«Я был безнадежным учеником, – признавался Олег, – но все-таки определение свирели (то есть обыкновенной дудки с точки зрения физики) он заставил меня выдолбить. По сей день помню: “…при введении воздуха в какую-либо пустотелую трубку струя попадает в узкий канал в верхней части свирели и, ударяясь об острые края отверстия…” И так до бесконечности.
“Материализм и эмпириокритицизм” тоже не давался. Но тут педагог был настроен по-философски. Он размышлял: “Ты, Борисов, знаешь на ‘кол’, остальной класс – на ‘два’, твой сосед Степа (а он был отличник) знает на ‘три’, я знаю на ‘четыре’. На ‘пять’ – только Господь Бог, и то – с минусом». Олег пытался возразить, откуда, дескать, Господь что-нибудь знает об эмпириокритицизме? Педагог соглашался: «Тогда на “пять” знает только автор учебника».
В Ткачах Олег с друзьями-одногодками и Лев пасли коров и телят. Олег с друзьями на лошадях. Льву как-то сказали, чтобы он загнал всех назад, а сами куда-то ускакали. Один теленок отбился от стада. Лева пошел за этим теленком. Сквозь высоченную траву. И вдруг хвост этого теленка исчез из поля зрения мальчика. А потом исчез и он сам: провалился в яму с отходами. Вслед за теленком. Остался по шею в этом навозе (Лев Иванович потом шутил: «И так вот я – я всю жизнь. Но – не до конца»). Олег с друзьями подоспели вовремя, пришли на помощь и вытащили их. Сначала – теленка…
Жили после войны впроголодь. Поколачивали пионеров из лагеря за то, что они сыты и хорошо одеты. Сами, конечно, хотели одеться получше, парнями уже были, носили брюки клеш и клинья специальные вставляли, аккуратно подшивали белые воротнички. «Зимой, – вспоминал Борисов, – ходили в ботиночках – все в валенках, а мы в ботиночках, носили “прохоря”, это сапоги такие с мягким голенищем. Помню, как первый раз я напился пьяным, на руках домой принесли… Моя это жизнь была, мо-я!»
В некрасовской Карабихе каждый, писал Борисов, «из нас уже знал: “…ты и убогая, ты и обильная…”». В двух шагах от усадьбы поэта – почерневший сруб обитавшего в Карабихе музыканта, Льва Ферапонтовича. К нему в обучение Надежда Андреевна, неожиданно подарившая сыну на день рождения дешевенькую скрипку, и решила его отдать – приобщить тем самым к высокому искусству. Большого горения заниматься, что видно из дневниковых записей, у мальчика не было, однако по радио он услышал «Крейцерову сонату» («Помню, – говорил, – как сейчас – играли Полякин и Нейгауз»), и ему показалось, что точно так же, в таких же «варварских темпах» и он будет играть – завтра же…
«Скрипач, который открыл дверь, – вспоминал Олег Иванович, – был почти коротышкой. По своей тонкости напоминал линейку. Как и на большинстве мужского населения, на нем была торжественная голубая майка навыворот. Изрядно вылинявшая, в пятнах от керосина. Для меня еще долго оставалось тайной, почему он носил, не снимая даже дома, свой серо-коричневый кепи. Только однажды приподнял его, чтобы вытереть испарину с лысины… В день нашего знакомства он выхватил мой футлярчик со скрипкой и высек из нее нечто полякинское. Я никогда не думал, что инструмент, сделанный на мебельной фабрике, способен произвести такое чудо. Он еще выкрикнул: “К черту эти ‘Амати’! Начинайте с такого инструмента, чтобы душу, как стеклорезом!..”».
И к мальчику залетела искра, которая разожгла целый костер. Залетела примерно на полгода. С тех пор как мама подарила скрипку и до момента, когда он отправился, чтобы помогать семье жить, грузить вагоны на станцию.
«Занимался я прилежно, – рассказывал Борисов. – На первых уроках он показал мне завиток, подбородник, ус и все, что положено. Но уже на третьей неделе занятий открыл передо мной ноты Моцарта – это был Пятый скрипичный концерт в ля мажоре. Для своих лет я сообразил довольно быстро. “Но ведь мне еще ноты учиться читать… как же я?..” – “А очень просто!” И он изложил суть своего метода.
– Никаких гамм, никакой акробатики! Будет высокая музыка! Человек должен понимать, на какую высоту предстоит прыгнуть. Долго придется на месте топтаться, но зато удовольствие от соприкосновения… дрожать будешь, плакать от бессилия. А что эти гадкие упражнения?.. Только отобьют охоту… – Он взял скрипку и с благоговением вывел первую тему. – До этого – оркестровое вступление. Оно показывает: идет повседневная жизнь, вертушка работает… Ты еще в животе матери. Ты – плод, сформировалась только пуповина, пальчики на ручках еще крохотные… Подлетает ангел, тихий ангел – как у Чехова. Спрашивает на ушко:
– Ты действительно хочешь родиться?
– А разве я могу передумать, что-нибудь изменить?
– Еще можешь…
– Но я хочу на свет! Здесь так неуютно… в такой скрюченной позе. К тому же я слышу красивые, пленительные звуки…
– Но эти звуки в Вене… они далеко… – объясняет ангел. – Родишься ты, скорее всего, в холодной стране, у бедных родителей.
– А нельзя ли там… в Вене?
– Мы еще не приняли окончательного решения, но, думаю, это произойдет где-нибудь под Ярославлем… В репризе первое tutti отсутствует, ты слышишь этот таинственный переход?..»
Все это Лев Ферапонтович рассказывал Олегу, не прерывая игры. Но мальчик уже не слышал его и сокрушался тому, что родился на Волге, а не на Дунае. «Не мучь себя этим, – утешал преподаватель. – В музыке все объясняется. Слышишь этот толчок в конце первой части? – это к тебе подсоединяют импульсное кольцо, иными словами готовый разум, и ты переходишь в новое состояние. Яички опускаются в мошоночный мешочек…» Эта тема Олега заинтересовала, однако Лев Ферапонтович попросил не отрываться от музыки и перешел к анализу второй части.
Он строил ее как монолог ангела, наставляющего на праведную жизнь, готовящего к испытаниям. Вот одна из заповедей: «Никогда не думай, что ты неудачник! Ты же не животное… Вспомни обо мне – и неудачи минуют тебя!» Лев Ферапонтович повторил каденцию второй части и особенно подчеркнул место, когда скрипка вдруг делает небольшой щелчок. «Это ангел легонько ударяет по носу, чтобы у тебя искры посыпались, и ты все забыл. Он передает тебе опыт, пока ты не наберешься своего. И улетает – видишь, как вспорхнул! – сообщив день, когда вы встретитесь снова… Ты, наверное, и вправду думаешь, что родители твои – Надежда Андреевна и Иван Степанович? Но есть еще дух того ангела… Ты о нем не забывай – это главная твоя сила».
Тема родителей и еще кого-то третьего взволновала Олега не меньше, но педагог поспешил его успокоить: «Ты еще не родился! Сейчас начнется менуэт, это будут твои первые шаги. Радость земных родителей: ты сходил на горшок!.. Но эта идиллия улетучивается, когда начинается громкая турецкая музыка. Самая настоящая порка… слышишь, как оркестр хлещет по струнам? А следом открываются тараканьи бега, и открываются они для тебя! Вот ты уже несешься по этой вертушке…»
Когда рядом крушили церкви, разговоры об ангелах, по словам Олега Ивановича, выглядели непривычно. Сомнения развеивали музыка и его бабушка, которая благословила на занятия скрипкой. Довольно быстро он разобрал начало первой части, но потом попросил у Льва Ферапонтовича… Концерт Мендельсона. Моцарт ему быстро наскучил. Педагог страшно ворчал, однако уступил. «Вскоре, – вспоминал Борисов в дневнике, – я коряво играл главные партии в пяти сочинениях, однако дальше этого не шло – не хватало терпения. Мальчишки звали на огороды, в семье не было денег – надо было начинать трудовую жизнь. И я пришел к нему объявить о своем решении бросить скрипку.
Он выслушал молча, покусывая ногти. Его высокий, “скрипичный” голос заметно подсел. “То, что ты сделал глупость, бросив скрипку, поймешь когда-нибудь… Но в данном случае вопрос не о тебе…” – и он резко сорвал кепи, под которым зияла плешь от бровей до затылка. Наклонил ее ко мне. Я разглядел след от давно нанесенного удара. Рана зарубцевалась, была еще небольшая шишечка – на самом темени. “Это сделал отец… скрипкой… Прошло уже тридцать лет, а рана до конца не проходит… Мама думала, что он убил меня. Но тогда, от того удара, мне передалось чувство, что я – неудачник. И точно, неудачи как будто посыпались на меня. Даже когда я играть бросил, и с учениками… У меня никто до конца ни одного сочинения не доучил… Вот и ты…”».
Олег помнил, что после этих слов он заплакал и пообещал, что скрипку не бросит. Несколько раз затем приходил ко Льву Ферапонтовичу, но потом… начал обходить его дом десятой дорогой. «Мне, – вспоминал, – до сих пор стыдно, когда слышу чью-нибудь скрипичную трель…»
Уже после войны, когда Борисовы переехали под Москву, из окон Дома культуры Олег услышал звуки квартета. Поинтересовался, что они играют. Ответили ему так: «Диссонантный квартет Моцарта». «И только тут, – вспоминал Олег, – я заметил, что один стул у них свободный – не пришел скрипач. Он вчера умер от голода. Завтра – похороны, а сегодня они переделывают этот квартет в трио. Искали скрипача и не смогли найти. Я смотрел на пустой стул и почему-то думал: зря я тогда не послушал своего Льва Ферапонтовича!»
Сын Олега Борисова Юра узнал о том, что отец в детстве какое-то время учился игре на скрипке, когда они приступили к совместной работе над спектаклем «Человек в футляре». Юра спросил: «А ты можешь вспомнить?» – «Прошло пятьдесят лет вообще-то говоря…» Не было под рукой ни скрипки, ни смычка. Для Олега купили альт немецкого образца. Друг Юры виолончелист Олег Ведерников, тоже выходивший в спектакле на сцену, дал Олегу Ивановичу десять уроков, и Борисов-старший заиграл: это осталось на пленке, вошло в историю.
Восьмой класс Олег заканчивал в Красных Ткачах. В девятом и десятом учился уже в Москве, вернее – в поселке фабрики «Победа труда»[1] вблизи села Братцево, куда переехали, потому что маму-агронома, хорошего специалиста, перевели – она стала работать на ВДНХ в павильоне «Корма» и подрабатывала шитьем. Перешила Олегу его школьный костюмчик. Жили вчетвером – бабушка, мама и Олег с Левой, – ютились в комнатенке деревенского домика, которую снимали.
1946 год. Чудовищное время. Только-только закончилась страшная война. Голод. Перебивались картошкой и хлебом по карточкам. Надежда Андреевна три часа добиралась на работу до выставки – электричек не было, только паровички, а по Москве муниципальным транспортом – и три часа с работы домой. Каждый день. «Учись открывать книжный шкаф», – говорила иносказательно бабушка. В наличии такового не было. «Какой там шкаф… стола даже не было, – вспоминал Олег. – Спать было негде, на полу спали…» С ребятами в школе после переезда сошелся быстро. По-волжски «окал», новые друзья заставляли переучиваться.





