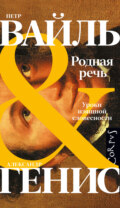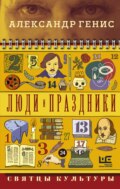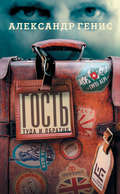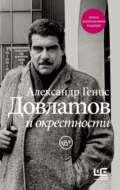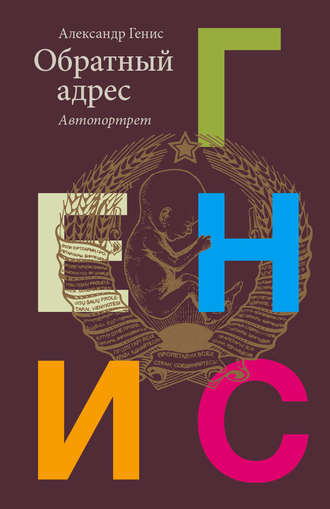
Александр Генис
Обратный адрес. Автопортрет
Саласпилс,
или
Рисунки на полях
Моя литература началась с украденной бумаги, которую приносила мама. Всю рижскую жизнь она, хотя у нее был только один глаз, работала конструктором и создавала многометровые чертежи насосов, необходимых для функционирования атомного реактора, признанного в независимой Латвии категорически ненужным. Он располагался в живописном лесистом пригороде Саласпилсе, где немцы поубивали столько евреев, что советской власти пришлось соорудить им мемориальный комплекс. Евреи, впрочем, там не упоминались. Настоящий автор, Эрнст Неизвестный, как я узнал от него намного позже, – тоже.
В те времена евреи помещались в серой зоне дозволенного, о которой все знают, но не говорят, как о сексе при детях. Считая нас всех недорослями, власть, как моя украинская бабушка, из деликатности называвшая евреев «этим народом», выносила все для себя сомнительное и неприятное в подтекст, что, конечно, любому тексту придавало двусмысленный – оппозиционный или похабный – оттенок.
Именно на этом погорел товарищ моей мятежной молодости, сторонник первобытного коммунизма Зяма Кац. Тайком читая зрелого Солженицына и раннего Маркса, он безуспешно уверял нас, что между ними нет непримиримых различий, но погубило его не это.
Маленький, сутулый, с огромной бородой и пышными бровями, Зяма сам напоминал как Маркса, так и первобытного коммуниста. Он был гордостью наиболее либерального органа нашей западной республики, где его уважали за безмерную эрудицию и принципиальность. Свои глубокомысленные заметки, утяжеленные редкими цитатами из Фурье и Энгельса, он в пику антисемитам подписывал псевдонимом Левин. Но не эта дерзость сокрушила Каца.
Виновниками его падения стали сразу два генеральных секретаря – СССР и Польши. Газета опубликовала снимок, запечатлевший братский поцелуй Брежнева и Герека. Прямо под фотографией был напечатан фельетон с хлестким и абсолютно бессмысленным названием: «Два сапога на одну ногу». Такие заголовки считались привилегией молодежной прессы и служили выхлопом богемной энергии. Например, универсальное название «Бутылка в перчатке» годилось для всех без исключения материалов, написанных в свободном жанре «Взгляд и нечто». Собственно, я до сих пор только такие и пишу. Но Зяму выгнали с треском. Никто не взялся объяснить Кацу природу его преступления, оставляя, как в «Процессе» Кафки, определение вины приговоренному.
Отлученный от прессы Зяма окончательно впал в вольнодумие, отрекся от Маркса и по утрам, когда жена уходила на работу, играл с нами в настольный теннис. Кацы жили в самой старой Риге. Их бесконечная квартира состояла из накопившихся со средневековья мансард и чуланов. Относительно жилой частью был светлый коридор, где помещался стол для пинг-понга. За игрой мы ругали власти, пили сухое, а не крепленое, как вечером, и ждали перемен.
Когда они пришли, меня уже в Риге не было, зато Зяма вынырнул на поверхность общественной жизни и подробно рассказал о случившемся – трижды. Теперь он признался в умышленности своего проступка, ибо уже тогда знал, что Брежнев и Герек – не только сапоги, но и валенки. К тому времени, однако, в независимой Латвии уже забыли обоих, и Зяма, разочаровавшись в свободе, вернулся к Марксу и пинг-понгу.
– Причем тут Зяма? – дочитав до этого места спросила жена.
– Ни причем, – признался я, – но с евреями это бывает: дашь абзац, отхватят страницу.
2.
Когда в Саласпилсе построили атомный реактор, местных выселили из-за радиации. Мама в нее не верила и собирала грибы в обеденный перерыв. Опустевшие хутора, принесенные в жертву лишней, как впоследствии выяснилось, науки, быстро возвращались в первозданный вид – в хвойный, лес. В нем маму однажды испугал огромный – со слона – лось. Но он не покушался на грибы, и осенью мы ими ужинали, а зимой – закусывали. Весной же мама выращивала на подоконнике своего конструкторского бюро ранние помидоры со снежком на сломе. До Чернобыля было еще далеко, и мы наивно и безнаказанно наслаждались урожаем, собранным в окрестностях мирного атома.
Больше маслят и помидоров меня радовал экспортный, из ГДР, ватман, который мама тащила для меня с работы. Дома в дело впрягалась бабушка. Она разрезала непомерные листы портняжными ножницами, которые мы с ней ходили точить на базар к одноногому, как Сильвер из любимого нами обоими романа Стивенсона, точильщику, а потом толстой – «цыганской» – иглой она сшивала тяжелую бумагу в блокноты.
Каждый из них представлялся мне будущей книгой, только не понятно – какой. Объективная трудность заключалась в том, что я еще выучил не все буквы, субъективная – в том, что не решался пачкать невинные листы. Блокноты манили и пугали меня в равной степени, но я верил в них, как в скатерть-самобранку, которую Хрущев называл «коммунизмом» и обещал нынешнему – моему – поколению.
– Бумага всё стерпит, – говорили мне взрослые, но я до сих пор не верю, ибо написанное выворачивает наизнанку душу автора даже тогда, когда он делает все, чтобы ее скрыть. Нет, не «даже», а именно тогда, когда автор старается выглядеть на письме лучше, чем в жизни, он падает с пьедестала в лужу. Уж лучше сразу сдаться бумаге таким, какой есть, но для этого нужна либо отвага зрелости, либо равнодушие старости.
Страх перед чистым листом, как и страсть к нему, остались во мне навсегда, поэтому я предпочитал писать на полях. В том числе и буквально. В школьных тетрадях полагалось отчеркивать карандашом поля для того, чтобы учителя могли отмечать на них наши промахи. Поля были контрольной зоной и принадлежали власти. Отдавая себе отчет в их неприступности, я все равно нарушал границу, залезая на чужую территорию не из протеста, а потому что не умел рассчитать полет пера и траекторию мысли. Не заканчивавшееся вовремя слово, которое уже поздно было переносить на новую строку, вырывалось за карандашную черту и уродовало страницу. Мои тетради были шедевром неряшливости, и учителя скорбно демонстрировали их всему классу, причем не только нашему. Так еще октябренком я обрел одиозную славу: мою фамилию знал и коверкал директор школы.
Поля соблазняли меня и тогда, когда они перестали быть чужими. Пристроившись на обочине текста, поля привлекали неприхотливостью и необязательностью. В своем первом компьютере, напоминавшем допотопный телевизор «КВН», я завел файл «Маргиналии». Здесь я стал писать только то, что вздумается и лишь тогда, когда придется. Узнав об этом, мой тщеславный товарищ в расчете на посмертную славу потребовал, чтобы я его почаще цитировал. Я согласился, но поставил отношения с вечностью на деловую основу: каждое упоминание – доллар.
– Квотер, – возразил он, подсчитав ресурсы.
Пока мы торговались, компьютер сгорел от стыда, забрав с собой и его, и мои надежды. Пропажа меня не столько огорчила, сколько озадачила. Привыкнув считать всякую выходку судьбы не только наказанием, но и намеком, я увидал в аварии назидание свыше и стал вообще всё писать на полях, считая ими каждую заполненную страницу.
Легче не стало, но писать всегда тяжело, и облегчить бремя ужаса может только та наигранная безответственность, с которой я быстро, как в наше вечно холодное море, вхожу в текст, делая вид, что ничего большого и серьезного на полях все равно не пишется.
3.
Поступив в университет, я перебрался с бумажных полей на колхозные – нас отправили убирать урожай все в тот же Саласпилс.
Проучившись к тому времени без году неделю, я успел пресытиться ролью отличника. Дурацкое дело оказалось нехитрым, ибо на весь филологической факультет только я попал по доброй воле. Остальные боялись сдавать математику. Перед ней, положим, я тоже трепетал и уже в Америке ставил в тупик фрейдиста Парамонова, признаваясь, что в кошмарах меня мучают синусы. И все же филология стала для меня осмысленным выбором, ибо она подступала ближе всего к литературе. О ней я мечтал так застенчиво, что скрывал эту страсть даже от себя. Мне хватало того, что филология была полями словесности, и я надеялся оставить на них свою закорючку.
Другой, менее извилистый путь в печать лежал через журфак, но там изучали непостижимые предметы вроде «Основ сельского хозяйства», и я предпочел лингвистику, ставшую, как мне объяснил отец, вновь беспартийной после разоблачения культа личности Сталина. Остальным было все равно, что учить, и колхоз они считали праздником.
Мой филфак не отличался от других: по сравнению с девочками нас было слишком мало. Точнее – трое, потому что четвертого, поэта, сразу отправили в сумасшедший дом. Двое других были неопасны для окружающих, хотя один тоже писал стихи, а другой мечтал стать офицером и стал им. Я был еще хуже: наглый и неуверенный в одном лице. И все же в колхозе мне доверили лошадь. Другие вытаскивали свеклу из жидковатой балтийской почвы того же пасмурного цвета, что и сентябрьское небо. Собирая ящики с выкопанным, я объезжал поле стоя, а не сидя, на телеге, потому что видел, как это делают ковбои в единственном доступном вестерне чехословацкого производства «Лимонадный Джо».
По вечерам, после борща из той же свеклы, мы вели со студентками брачную игру в дурака. Чувствуя себя гостем в чужом гареме, я быстро научился выигрывать. Как Печорин – княжну Мэри, я изводил соперниц пристальным взглядом и вольной речью. Теряясь, они забывали подкидывать и оставались в дурах. Вывернулась лишь последняя, отбив мою карту благоразумно припасенным козырем. В награду за ничью я пригласил ее воровать цветы в ботанический сад.
– «Сажайте розы в проклятую землю», – написал про Саласпилс сидевший в здешнем лагере Эйжен Веверис.
Буквализировав метафору, Академия наук устроила на опушке леса между мемориалом и реактором парник, цветник и клумбу. Днем туда забредал садовник, вечером лоси, а ночью не было даже забора. Воспользовавшись этим обстоятельством и усыпляя совесть тем, что в беззащитном саду розы растят из чисто академического интереса, я отправился на охоту со спутницей и гнусными намерениями.
Дело в том, что той осенью у меня неторопливо разворачивался роман с молчаливой (она стала патологоанатомом) медичкой. По субботам мы ходили в филармонию, по воскресеньям слушали орган, в будни я скакал по полям и думал, как сдвинуться с мертвой музыкальной точки. Краденые розы на метровых стеблях, выросшие на сдобренном радиацией академическом черноземе, играли важную роль в моих тактических планах, которые я, естественно, не раскрыл подельнице. По пути к парникам я чинно говорил о любви к филологии. Но по дороге обратно, разгоряченные кражей и объединенные преступлением, мы сменили пластинку.
– «Ты у меня одна, словно в ночи луна», – пела она Визбора, а я слушал, коварно прикидывая, не завести ли мне второй роман на полях первого.
Меня извиняли экстраординарные обстоятельства. Ночь с просочившимися сквозь слоеные тучи звездами. Пронзительно пустая проселочная дорога, вертлявая, как лесная тропинка. В чаще, чудилось мне, громко дышали лоси. Жизнь только начиналась, но я уже боялся упустить случай, нутром догадываясь, что второго такого больше нигде, никогда и ни за что не будет. Сделав роковой шаг, я взял ее за руку и ощутил в ладони что-то мягкое и пушистое.
– Что это? – нежно спросил я.
– Мышь, – ни на секунду не задумавшись ответила она, и я позорно подскочил от ужаса, потому что всю жизнь панически боялся мышей, крыс и других мелких грызунов, кроме знакомого хомяка Бублика.
На самом деле это был толстый мохнатый листок полевого растения коровяк, который занял свое место в нашем гербе, ибо год спустя мы отправились к ее маме за приданым. В трамвае нам пришлось занять три места. Одно – для баула с двумя пуховыми подушками и девичьим (розовым) одеялом на вате. Вместе с Герценом, Белинским и слесарным набором оно пересекло океан, перекочевало к сыну и тихо окончило свои дни раньше нас.
Прошло сорок лет, но каждый раз, когда мы ссоримся, жена попрекает меня тем вечером в Саласпилсе:
– Вот гад, – ворчит она, – соблазнил и не бросил.
Колония Лапиня,
или
Поиски жанра
Твердо зная, чего хочу, я стыдился себе в этом признаться, пока не встретил Петю Вайля. Это произошло у нас за столом, на завтраке, который, вопреки названию, мог включать обед, ужин и участкового. Отец любил праздники больше жизни. Собственно жизнь его интересовала лишь в ожидании праздника, которое он ценил еще больше, умело растягивая по пути к рынку.
Туда мы ходили каждое воскресенье – до завтрака и ввиду него. Праздничной была уже дорога к базару, ибо натощак все казалось интереснее. За молодцеватым и нелепым в нашем старинном городе стеклобетонным вокзалом открывались ангары для дирижаблей, составлявших военно-воздушные силы независимой Латвии, так и не спасшие ее от соседа. После войны в них торговали снедью. Под ажурной крышей непомерной высоты летали голуби, ласточки, стрижи, воробьи и чайки.
– Ты еще скажи аисты, – ворчит жена, и чаек я вычеркиваю.
На открытом воздухе продавали сезонный товар. Осенью, которая в наших краях начиналась когда хотела, – лисичками (почему-то литрами), зимой – квашеной капустой с ледком, нежно хрустевшим на зубах. Весной лучше всех был румяный, как ангел, помидор ценой в чекушку. Но сколько бы он ни стоил, без него завтрак был неполным, ибо только томат умело оттенял малосольную латвийскую селедку и молодую картошку с того же базара. Всю эту роскошь венчал «Кристалл» из открывавшегося в одиннадцать магазина, который без дураков назывался «водочным».
Чем старше я становился, тем больше уходило водки и тем многолюднее оказывались завтраки. За ними легко смешивались, иногда выпадая в коридор, русские, латыши и евреи двух поколений. Но и в нашем вавилоне явление Пети произвело неизгладимое впечатление. Он выделялся всем и сразу: полный и румяный, Вайль тоже походил на ангела, но падшего. Не скрывая пороков, он пил больше всех, не переставая быть интересным – ни сверстникам, ни взрослым, ни, конечно, мне. Петя знал всё и учился на одни пятерки, вернее – их получал, потому что вообще никогда не учился, зато все читал. Причем собраниями сочинений. Когда мы познакомились, он добивал 30-томник Диккенса. Стихи из него выползали, как ленты из уст фокусника: беспрестанно и пестрые. Женскому полу – слезливое: «девочка пела в церковном хоре», нам – экзотическое: про жирафа на озере Чад, остальным – Сашу Черного.
Видимо, Петя готовил репертуар зимой, потому что летом жизнь его протекала на виду. С первыми грачами он покидал родительский кров, куда возвращался, лишь отгуляв Октябрьские праздники. Петя повсюду носил с собой портфель со сменой белья и зубной щеткой. В кармане хранились маникюрные ножницы, курить он уже бросил, и больше ни в чем не нуждался, ночуя там, где его оставило разгульное вдохновение. Чаще всего – у нас на кушетке. Всегда желанный гость, Петя был живым праздником и нравился абсолютно всем, умея соглашаться так, будто спорит. Слушать его было все равно что читать «Три мушкетера»: смешно и ничего всерьез.
Со мной он разговаривал на равных, хотя я был еще маленьким, но достаточно большим, чтобы принимать участие в общем никогда не прерывающемся веселье. На свою беду я задирался от трагической неуверенности в себе – как все, а не только начинающие разночинцы. Со временем я убедился, что разночинцами являются все авторы, кроме одного бодрого анацефала, который уверял, что не сочинил плохой строки. Даже Бродский признавался в неуверенности и ценил ее, считая контролем качества. Еще позже я догадался, что непишущие страдают не меньше пишущих, но тогда, по малолетству, я мучился у всех на виду. Боясь, что меня не примут за другого, я боролся с постыдной, как прыщи, застенчивостью и выдавал себя с головой: врал, пил, курил и фонтанировал.
Петя, однако, готов был прислушаться к фонтану и что-то из него вылавливал. Вскоре, несмотря на несуразно гигантскую – три с половиной года – разницу в возрасте, мы стали встречаться вдвоем и гулять по городу, случайно заходя на выставки. На одной, посвященной дагерротипам, я сказал, что экспозиция могла бы включить портрет Лермонтова. Чем-то Пете понравилась эта вполне безумная реплика, и он предложил написать что-нибудь вместе.
К тому времени Вайль уже сотрудничал с нашей «Молодежкой», украшая, как тогда было принято, любую газетную статью учеными и причудливыми ассоциациями. В репортаже из мирного хозмага, где зачем-то торговали упряжью, в текст врывались верховые опричники Ивана Грозного. Я был не лучше, отличившись в университетском сборнике лженаучной работой «Черный юмор у протопопа Аввакума».
Петино предложение застало меня врасплох и привело в восторг. Писать вдвоем было не так страшно. Соавторство, как просодия, снабжало формой и уменьшало ответственность до приемлемого уровня. Текст становился, в сущности, анонимным: его автор не я, а мы.
2.
В поисках темы мы шлялись по Риге, выпивая по выходным и будням, что придется, но ни где придется. Экзотический алкоголь, вычитанный у Хемингуэя с Ремарком, нам заменяли еще более экзотические напитки: молдавский Кальвадос, венгерский ром, летом – алжирское вино из танкеров, и круглый год – портвейн бобруйского разлива. Одну гадость мы закусывали другой: пирожками с требухой (она же – подлятина), студнем из столярного клея и плавленым сырком с подходящим названием «Дружба», к которому у меня нет претензий.
В трудных случаях можно было обойтись без закуски, но не без компании. Этика нашего пьянства категорически осуждала одиночество с бутылкой, считая его патологической крайностью. Отделяя клинический симптом от вакхического синдрома, мы строили пьянку как преображающее действительность произведение всех искусств. Оглядываясь, я понимаю, что наш идеал назывался Gesamtkunstwerk, хотя из-за скромности тогдашних властей мы еще не знали, что Вагнер дебютировал там же, где и мы, – в Риге.
Иными словами, наши пьянки носили бескомпромиссно творческий характер, и других я всю жизнь не признавал. Идя за Буддой, мы следовали средним путем и стремились держать струну натянутой. Разливая в меру, мы не давали ей ослабнуть, чтобы не переставала звучать музыка беседы, но умели и задержаться со следующим стаканом, чтобы струна не порвалась. Умело балансируя на пике опьянения, мы умудрялись не выпадать из фазы, и нам не хватало бесконечного в северных широтах летнего дня.
Иногда он начинался с университетских экзаменов, которые я умел сдавать быстро и с наслаждением.
– Главное – не задумываться, – сразу понял я и всегда брал билет первым, заменяя выученное решительностью.
Остальное было делом техники. Исчерпав ответ начальной фразой, я рассказывал, что знал, а не о чем спрашивалось. Между первым и вторым тянулись жидкие нити сомнительных аналогий. Чтобы удержать ломкую конструкцию от краха, требовалась известная интеллектуальная эквилибристика, развлекавшая наших профессоров, скучающих гарнизонных жен. К одиннадцати все кончалось, и мы шли в магазин.
О, это нежаркое утро экзаменационной сессии. Оно расстилалось контурной картой, которую мы, как Зикмунд с Ганзелкой, заполняли маршрутами дружбы. Как бы далеко от центра они ни заводили, к вечеру мы все равно оказывались в старом городе. Центр всякой пьянки, он украшал ее пейзаж живописными ведутами. Лучшие предлагали три старших шпиля рижского неба. У церкви Екаба он был самый крутой, но с загогулиной, под которой прятался волшебный колокол, оживавший, когда под ним пройдет неверная жена. Сам я никогда не слышал звона, потому что власти от греха подальше заткнули его вместе со всеми остальными колоколами города.
У знаменитого Домского собора выпивать приходилось украдкой из-за толпившейся здесь милиции. Зато пусто было в средневековом дворе, откуда открывался уникальный, известный лишь нам вид на церковь Петра со снесенным в первые дни войны и все еще не отстроенным шпилем. Примостившись между сараями крестоносцев, мы так строили мизансцену тоста, что в кадр попадало только вечное: звезды, луна, руины.
О чем мы пили? Обо всем, что позволяло накинуть на себя сеть утонченных аналогий и забавных параллелей. Мечтая сделать реальность наглядной, как глобус, мы сталкивались с той же трудностью, что Сизиф. Но взяв на вооружение его девиз «Движение – все, цель – ничто», каждый день начинали заново, не позволяя себе отвлекаться на мелочи жизни, включая свадьбу.
Я женился первым. Шафером был, конечно, Петя. Гости гуляли три дня, не заметив, что мы с молодой отбыли в соседнюю Литву. Страна подпольного сюрреализма, она славилась дерзкими плакатами Вильнюса, гротескным театром Паневежиса и, конечно, мэтром непонятного, символистом Чюрленисом. В его каунасский музей у нас ездили, чтобы поклониться несмежной реальности. Супружескую жизнь мы начали в курортной Паланге, где хранилась любимая балтийская реликвия: трактор из янтаря. Брачную ночь мы скоротали на вокзале: я – на скамейке, она – в комнате матери и ребенка, что было, прямо скажем, преждевременно.
Когда, и очень скоро, пришла Петина пора жениться, ничего не изменилось. Райка, как ее звали до старости, была как мы, еще и хуже. Она жила в такой старой Риге, что в ее квартиру вела винтовая, словно в крепостную башню, лестница. С нее я снес в обнимку Райкино приданое: холодильник «Саратов-2». Самодельная стена делила мансарду на две каморки. В одной стояла бочка с брагой, в другой ее пили. Больше всего Райка любила приключения и могла отправиться встречать зарю в зоопарк, где, ошибившись забором, чуть не попала в вольер к медведю.
Оба брака не разбавили наши отношения. Любовь считалась филиалом дружбы, и с Петиной свадьбы я ушел на четвертый день, когда бутылки сдали дважды.
3.
Проблема заключалась в том, что нам довелось жить в слишком красивом городе. Страдая от конкуренции, мы испытывали сокрушительное давление архитектуры: и выпуклого барокко, и стрельчатой готики, и кудрявого ар нуво. На фоне старого все новое было уродливым, как многоэтажная гостиница «Латвия», которую хотели снести, не успев достроить. Мир вокруг нас нуждался не в революции, а в реставрации, и авангард не представлялся выходом.
Чтобы обсудить метафизический вызов и найти выход из тупика, мы собрались в Колонии Лапиня. Она находилась в центре города, но не имела с ним ничего общего. Миниатюрный рай огородников, Колония напоминала аграрный улей, в котором копались озверевшие без земли горожане, в основном – латыши. Недавно оторвавшиеся от почвы, они тосковали по отобранным хуторам и растили тут все, что помещалось на трех грядках.
В буднее и пасмурное утро Колония пустовала, и мы удобно устроились под забором, закусывая принесенное сорванным за оградой огурцом.
– Прекрасное нуждается не только в гениальном творце, – говорил один из нас, ибо мы тогда не спорили, – но и в талантливом компиляторе.
– Другое дело, – подхватывал другой, ибо наша беседа подразумевала не состязание, а бескорыстное уточнение определений, – что создавать одни произведения из других значит преумножать сущности без необходимости. Нам нужен все тот же средний путь, пролегающий между выцветшим вымыслом и так и не зацветшей ученостью.
– Мир, – соглашались мы с нарастающим от портвейна восторгом, – нельзя придумать, мир нельзя описать, но его можно сгустить, как осенний свет в витраже. Нам не нужно придумывать персонажей, достаточно выбрать из тех, что есть. Нам не нужны герои, достаточно тех, кого мы назначим. Нам не нужна экспансия вымысла, достаточно углубить, что дано, и окружить неизвестное. Между оригинальным и украденным прячется от сглаза неистоптанная зона тавтологических явлений: литература о литературе, истории про историю, культура в культуре, а это – целый мир, схваченный фасеточным зрением мух, то есть муз.
Язык заплетался, солнце добралось до зенита, и нас застали врасплох хозяева, торопившиеся в обеденный перерыв прополоть любимую грядку. Ситуация напоминала басню Крылова «Философ и огородник», но вторые, не признав в нас первых, намотали на руку ремни, готовясь к расправе. Однако убедившись по огрызку огурца в незначительности хищения, колонисты отпустили нас с миром, пристыдив на дорогу. И мы, покинув, как юные Каин с Авелем, чужой Эдем, отправились на поиски жанра, счастливые тем, что нашли себе занятие по душе на всю тогда еще бесконечную жизнь.