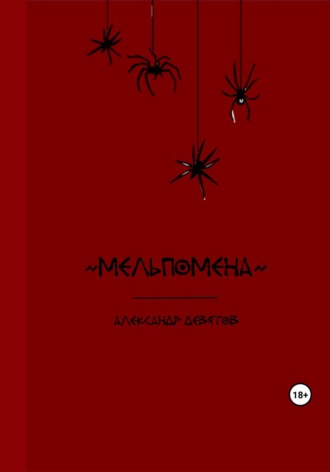
Александр Девятов
Мельпомена
– Что толку от борьбы, если в итоге ты оказываешься здесь? – Лавуан показал руками стены тюремной камеры. – Твоя Аида должна была предостеречь на этот счет… А еще лучше помочь.
– Аида так ванята фейтяф. Не увевена, фто хотю ее твогать… К тому ве, я увэ дофтаточно вослая двя такого! Нувно помогать фемье, инате в этом миве не на кого будет расфитывать. Так мне тоже Аида гововила…
Мудрые слова. Жаль, что сейчас Филипп совершенно не поддерживал контактов с родными. Узнают ли они о моей гибели? А что почувствуют если узнают? Простят ли за все мои грехи или отругают напоследок в свойственной им манере? Сейчас пред глазами Лавуана промелькнул отчий дом, детство и беззаботность. Это было так давно, что весь негатив, коего было не просто в достатке, но в избытке, куда-то испарился и на первый план откуда-то из закромов памяти выползли лишь самые теплые и нежные воспоминания, которые Филипп так бережно хранил в своей памяти. Они не запятнались серыми буднями, мрачными днями меланхолии и прочей ересью. Нет. Там, в детстве, было по-прежнему светло и тепло. Там были по-своему заботливые родители, старые, еще верные своему слову друзья и… Мелисса… с ее копной светлых волос и приятным ароматом подсолнуха. Теперь Лавуану захотелось плакать. Слезы выступили на лице, но еще не покатились по багровевшим щекам, увлажняя глаза.
– Ой-ей, – девочка стала разглядывать писателя. – Кавется у кого-то ф фемьей не фсе холофо. Вы не вастваивайтесь, мфье Филипп, все будет ховофо.
– Откуда такая уверенность? – не выдержал Лавуан. – Нас вздернут в ближайшее время…
– Вовфе нет.
~ VII ~
Всего за неделю пребывания в камере Мэри успела надоесть всем. Если раньше между арестантами и охранниками была непреодолимая морально-этическая пропасть, то теперь даже такие непримиримые соперники сошлись в одном – девочку надо бы отсюда куда-то убрать, и чем быстрее, тем лучше. Однако, сколько бы жандармы не передавали свои жалобы относительно узницы наверх, ответ всегда был один – гробовое молчание. Казалось, что разговор ведется не с кабинетными крысами, но с самим Господом Богом. Ни он, ни коллеги сверху не отвечали на мольбы страждущих. Филиппу же ситуация казалась больше забавной, чем раздражающей, хотя и до негодования дело весьма часто доходило. Годы работы с капризными артистами закалили психику Лавуана, и, пусть некоторые действия юной оторвы и выводили из себя, в целом все шалости девочки не выходили за пределы нормы.
Чем таким занималась Мэри, что ухитрялась всех вокруг выводить из себя? Для начала, она считала своим долгом расспрашивать всех и обо всем, стоило человеку иметь малейшую неосторожность ответить страшной девочке. Подобно пиранье, вцепившейся в зазевавшуюся жертву, она начинала своими разговорами изводить бедолагу до потери сознания. Реагировали все по-разному, начиная с игнорирования самого существования Мэри, заканчивая самыми страшными проклятиями, касающимися не только самой девочки, но и всей ее родни едва ли не до седьмого колена. Мэри никак на это не отвечала. Казалось, что она просто не вполне понимает происходящее ввиду своей тупости. Хотя быть может все это было лишь напускным спокойствием и притворством со стороны неплохой подрастающей актрисы. Разговорами Мэри, разумеется, не ограничивалась. К охранникам, например, она кидалась в объятия, едва они заходили в ее камеру. Вскоре им это надоело, и они сначала любезно, насколько это возможно, отталкивали девочку, но с течением времени, просто минимизировали походы к юной особе. Бывало даже, что еду ей передавали через Филиппа, ссылаясь на то, что его камера просто ближе и им якобы в тягость ходить ради «малявки» так далеко, лишь ради того, чтобы передать ей еду. Лавуан понимал, что это ложь, но был не в том положении, чтобы отказывать, потому смиренно исполнял приказ в форме просьбы. Когда Мэри в первый раз задержали паек, она демонстративно начала грызть своими выступающими резцами железную клетку. Вряд ли ей действительно удалось бы таким образом выбраться из заточения, пусть на железе и остались заметные отметины от зубов, но внимание к себе она привлекла изрядное, получив пару тумаков от охранников и небольшой, но очень строгий выговор. Несмотря на проигранную битву – войну девочка выиграла. Жандармы поняли, что синяками сыт не будешь, и стали давать ей обычный паек заключенного. Эта история, всякая поддержка со стороны писателя, а также его последующее соучастие в получении еды, – все это привело к укреплению отношений Лавуана и Мэри. Едва ли такой поворот можно было назвать положительным для француза, но теперь он получил уникального собеседника и, пусть по своей натуре Филипп был ярко выраженным пессимистом, сейчас, здесь, в тюремной камере, он пытался найти светлые стороны жизни так отчаянно, что даже простой диалог с умственно неполноценной, как для себя решил наш герой, девочкой, был самым ярким символом оптимизма.
Девочка стала много рассказывать о себе. Это было странно. Обычно, из диалогов, подслушанных Лавуаном за все время, Мэри лишь интересовалась жизнью других, будто записывая их на подкорку, куда-то в свой дневник, мирно покоящийся в чертогах ее недоразвитого разума. Это было похоже на простое изучение человеческих повадков через рассказанные истории жизни. Если Мэри подобным образом общалась со всеми, то и сама даже в столь юном возрасте легко могла бы стать писателем, просто перенося все услышанное на бумагу. Но для такого ей не доставало мозгов.
Диалоги с Лавуаном стали иными. Теперь интервьюером стал сам Филипп, а Мэри лишь смиренно отвечала на вопросы. Со стороны беседа выглядела весьма непринужденной, но сам писатель понимал, что такая смена ролей может говорить лишь об одном – девочка ему доверяет куда больше, нежели остальным присутствующим бедолагам. Хорошо это или нет – понять было трудно. Скорее Лавуан просто убивал таким образом свое время.
Мэри росла не здесь, а где-то в Шампани, но не в Труа, так как названное место Филипп мало того, что не понял, но и, по все видимости, просто не знал. Оттуда ее полгода назад забрал бродячий цирк, с которым она сюда и приехала. При словосочетании «бродячий цирк» Лавуану сразу же представилась толпа громких, вычурно наряженных цыган, которые своим танцем кружат ему голову, дабы опустошить карманы невнимательного писателя. Но, как оказалось, бродячий цирк никак не связан с цыганами, пусть парочка из них и присутствовала в лагере. Аида, девушка, что упоминалась в разговорах Мэри чаще других, оказалась алжиркой, иммигрировавшей во Францию в поисках лучшей жизни. По меркам Филиппа, бродячий цирк вовсе не предел мечтаний, но, по словам Мэри, именно в такой жизни Аида, и все, кто ее окружает, видят свое истинное счастье.
– Мы как больфая фемья, – поясняла девочка.
Слово «семья» часто фигурировало в лексиконе Мэри. Филипп был уверен, что маленькую простушку обделили теплыми узами в детстве, отчего она с таким трепетом относится к своим новообретенным отношениям с кучкой отщепенцев. Писатель полагал, что сама Аида, как и многие в той группе, ставили перед собой другие цели и задачи, нежели создать хрупкое подобие семьи. Когда Лавуан имел бестактность огласить данную мысль собеседнице, та запротестовала, услышав в словах француза определенное пренебрежение, кое имело место быть. Согласно версии девочки, Аида, не имея никаких родственных связей на родине, решила попытать счастье и создать полноценную семью здесь, в метрополии, что в конечном итоге, пусть и своеобразно, у нее получилось.
Должно быть именно это тебе и сказали, чтобы заинтересовать маленькую девочку. Вопрос лишь один: для чего? Это ложь во спасение? Или здесь присутствует корыстный интерес?
Сколько бы ни расспрашивал писатель Мэри относительно ее накоплений или благосостояния ее настоящей семьи, ответ был один – у нее ни гроша, у цирка ни гроша, у родителей, о которых вообще было сказано едва ли двух слов, денег также не имеется. Неужели в этом мире сохранился альтруизм? Ведь девочку надо кормить, одевать, уделять ей внимание, словом создавать все условия, что присущи обычным детям. К тому же, этот ребенок особенно проблемный и, вовсе неудивительно, что родители так легко с ней распрощались. Неужто кто-то согласился это делать задаром?
В рассказанное Лавуан верил с трудом. Жизнь Мэри будто сошла со страниц одного из тех романов, что француз небрежно писал еще в юности, когда не имел никакого понятия о настоящих человеческих отношениях, об ужасах, что на самом деле скрывает жизнь за вуалью приторно-сладких историй. В те годы Филипп еще был безнадежным романтиком, свято верящим в светлое настоящее и еще более светлое будущее не только для себя, но и для человечества в целом. Наивен и глуп. Сейчас, сидя в камере, нахлебавшись этой несправедливой жизни сполна, француз никогда бы не стал писать ничего подобного. Перо бы стало тяжелым настолько, что выводить слова им было бы просто невозможно. Однако, вспоминая давно ушедшие времена, Лавуан невольно смягчился. Это едва ли можно было заметить в его потускневших глазах, но, при должной сноровке, все-таки разглядеть эти искры представлялось возможным. Неясно видела ли этот огонь Мэри, но с каждым новым разговором ее речи становились все теплее и приятней.
Прошла еще неделя или полторы. Сказать было сложно, ведь каждый следующий день был почти идентичен предыдущему, а календарные записи Лавуан так и не возобновил. От Мэри в этом вопросе было еще меньше толку – по ее словам, она сидит в тюрьме уже как полгода, что совершенно не соответствовало действительности. Была холодная ночь. За то время, что француз просидел в этих стенах, ночи стали поистине зябкими. Неясно с чем это было связано – с реальными изменениями погоды или же с тем, что заключенные находились в подвале, но факт оставался фактом. Выданные пледы мало грели и очень сильно кололись, отчего доставляли больше дискомфорта, чем помогали справиться с летними заморозками. В эту ночь писатель также никак не мог уснуть из-за своего покрывала. Ворочаясь из стороны в сторону, он молил Бога дать ему спокойный сон, но тот лишь продолжал колоть его шерстью старого пледа, будто надсмехаясь над муками Филиппа. Мэри тоже не спала, посвящая ночные часы наблюдению за медленно плывущей по небу луной. Писатель приподнялся и сел на скамью. Одиночество девочки сказывалось на нем самом, что не давало покоя.
– Выглядишь одиноко, – губы француза едва смогли разжаться – холод напрочь сковал их. – Не спится?
– Одиноко? – Мэри приняла приятеля за сумасшедшего.
– Обычно вот так среди ночи люди не встают и не наблюдают за звездами, – пояснил писатель.
– Гвупо как-то, – фыркнула девочка. – Почему же такую квасоту никто не фочет навлюдать…
– Наверное нет времени, – сам для себя заключил Филипп. – Счастливые люди – занятые люди. В суете будних дней не успеваешь думать о жизни, отчего не прибывает тоска. Попробуй кто-то из таких вот работяг на секунду остановиться, перестать бежать за неумолимо убегающим временем, как вдруг поймет, что меланхолия поглощает его, пускай даже сам он никогда не ощущал ее присутствия.
– Вы чафто фтрадаете меванхолией? – вылупилась круглыми глазами Мэри.
– Да, это мой недуг с детства, – признал Лавуан. – Мать говорила, что я страдаю от нее лет с пяти. Сказать по правде, я не помню чтобы ее не было поблизости. Она будто всегда где-то рядом. Всегда позади…
– О тем фейтяф думаете?
– Обо всем и ни о чем, – буркнул француз.
– Тофка и меванхолия пфовто так не пвиходят, – замотала головой собеседница. – Всегда ефть пвичина!
Последняя фраза эхом прокатилась по стенам подвала. С трудом уснувшие заключенные стали ворочаться в своих постелях от нарушенного сна. Охранник, до сего момента спокойно сидевший и писавший что-то важное в свой небольшой блокнот, приподнялся со стула и обвел глазами всю комнату в поисках нарушений порядка, но был слишком ленив, чтоб пойти и приструнить бодрствующих заключенных, потому просто пожал плечами и, взгромоздившись обратно в скрипучее кресло, продолжил черкать записи на бумаге. Филипп призадумался над услышанными словами. С одной стороны, в этом было рассудительное зерно, ведь все в этом мире, по мнению Лавуана имело причину и следствие, стало быть и меланхолия не должна выбиваться из общего ряда. С другой же стороны, сам писатель не мог припомнить какой-то выраженной связи между появлениями паучихи и внешними обстоятельствами, приведшими к такому следствию. Словно не было момента, когда писатель не ощущал бы давления меланхолии, вне зависимости от многочисленных событий, происходивших в его жизни.
– Может дело в мадемуазель Марсо? – думал вслух Филипп.
– Дело всегда в венщинах, – театрально махнула рукой девочка.
– Мне казалось, я обрел свою любовь, обрел тот самый покой, то вдохновение, что искал всю жизнь. Искал музу любви, а получил что-то куда более ценное… Полагал, что, наконец, нашел свою Мельпомену…
– Мельпо-фто? – не поняла Мэри.
Филипп широко улыбнулся. Насколько же тяжело было людям общаться с Мэри из-за ее дефектов речи… Наверняка я далеко не первый, кто переспрашивал про себя значение произнесенных ею слов и, не найдя ответа, просто оставлял попытки понять сказанное. Вот и до маленькой бедолаги дошел черед.
– Мельпомена, – начал пояснять писатель, – это муза драмы. Каждому из великих творцов необходима своя муза, понимаешь? – Судя по глупому взгляду девочки, она не вполне осознавала. – Тот человек, что будет вдохновлять тебя на великие творения, что смогут остаться в анналах истории, на устах миллионов людей на протяжении многих веков…
– Ого!
– Но лишь немногим удается найти свое вдохновение. Оттого и материал, выходящий из-под пера обычного художника весьма посредственный. Посмотри сколько дурных постановок в театрах, сколько отвратных картин у современных измельчавших художников, какой кошмар льют своим слушателям в уши нынешние музыканты… Все от отсутствия должного вдохновения, ибо уловить столь тонкую сущность весьма и весьма затруднительно, а коли уж удалось с Божьей помощью ее поймать, то практически невозможно удержать. Как много художников известны лишь одним-двумя своими произведениями? Да практически все! Остальное остается на изучение лишь книжным червям, что без устали копаются во второсортном материале. Произведение, что было написано истинным талантом под истинным вдохновением никогда не исчезнет и всегда будет проливать свет в темные души людей. Разве можно представить мир, в котором нет Илиады? Разумеется, нет! Такие творения не горят и не тонут, не теряются в веках, а коли уж теряются, то остаются на устах простого люда и позже, когда времена перестают быть чернее ночи, восстают из пепла подобно фениксу. Такое искусство живет вечно…
– И фто за девуфка такая, фто вафи книвки как феникф вделает?
Она все прослушала. Вся тирада пролетела мимо этих детских ушей, пылью осев на стены старой тюремной камеры.
– Ее имя Мелани, – уже с меньшим энтузиазмом произнес Лавуан. – Я провел с ней несколько прекрасных недель, чуть больше месяца своей никчемной жизни. Я скучаю по ее присутствию.
– Хотите пвивефти ее фюда? – удивилась Мэри.
– Нет, – с отвращением ответил француз. – Разумеется нет. Но мне жизненно необходима ее поддержка, пусть и безмолвная. Просто, чтобы она была рядом.
– Фто ве вафа феникф не пвиходит навефтить Вас? Не похове на Мель-фто-то-там.
– Что ты можешь знать о таких высоких вещах?! – сорвался Филипп. – Ты еще слишком мала и глупа для осознания этого.
– Воде вфе яфно и понятно, – не согласилась девочка. – Она не вафа фемья…
– Да что такое эта твоя семья? Одно лишь название, одни лишь глупые обещания! Кровь сближает людей не больше соплей!
– Фемья – не квофь, а пофтоянная и неутомимая поддервка! Так Аида гововит.
Филипп схватился за голову в надежде не слышать нелепостей, слетавших с уст Мэри. Просто малое дите, которого недурно так обработали вонючие цыгане! Зачем я вообще веду с ней беседу? Насколько же я отчаялся, что опустился до разговоров с умственно отсталой девчушкой? Еще и такие сложные вещи пытаюсь объяснить… Совсем опустился.
– Мовет Вам и не нувна ее повдевка. Мовет вы пвофто выдумави фсе это.
– Зачем? – недоумевал писатель. – Для чего, скажи мне на милость, истязать свою собственную душу? Ведь мне жилось бы намного проще, сумей я быть самостоятельным творцом, независимым от муз. Но такого просто не бывает. Я уже говорил раньше, но ты все прослушала…
– Не внаю вачем Вы фсе это пидумали. Мовет ваняться нечем?
Разговор с этой оторвой с каждой минутой становился все более невыносимым. Такими темпами она потеряет единственного друга в этих холодных стенах. Лавуан, единственный, кто с теплотой отнесся к несносной девочке, начинал понимать негодование охранников и заключенных. Сейчас ему хотелось, чтобы Мэри заткнула свой полупустой рот и держала его на замке столько, сколько могла. К сожалению, молчать она могла от силы пару секунд:
– Не певевивайте, довогой тевовек – фсе фто-то да пидумают фебе. Так навевное пвофе вивется. Гвавное понять, фто ты выдумаваеф фсе это, и певефтать выдумывать.
Филипп укутался в плед сильнее прежнего и отвернулся от собеседницы, давая той понять, что невнятный во всех смыслах диалог окончен. Мэри, недолго думая, переключалась сначала на разговор с самой собой, потом с заключенным, что попросил ее «заткнуться наконец», а потом и вовсе затихла, благодарность за что стоит воздавать Морфею. Писатель был свидетелем этой трагедии в трех актах сугубо потому, что неприятный разговор наслал нескончаемый рой мыслей в бедную голову француза, не давая возможности спокойно уснуть. Вместе с пледом, мозг решил довести Лавуана до сумасшествия сразу с двух сторон, что в какой-то момент показалось писателю забавным, отчего на его уставшем лице растеклась ехидная улыбка. Но сама ситуация, разумеется, влияла на психику героя сугубо негативно. Где-то в углу комнаты сидела, ожидая умирающую добычу, паучиха. Сквозь дрем Лавуан слышал ее мерзкие речи, но уставший разум не придавал им должного значения. Под злостное стрекотание паучихи писатель мирно заснул.
Отдых его, впрочем, продолжался недолго. Чуткий сон француза нарушила возня в коморке сторожа. Сначала во сне послышался звон ключей, будто невидимый ключник подошел прямо к уху Филиппа и стал слегка бить по металлу, наигрывая свою никому не понятную музыку. Затем послышался грохот, будто что-то большое и груздное свалилось с огромной высоты. Лавуану представился большой камень, летящий на огромной скорости со скалы и несущийся на одиноко стоящую деревушку, посреди которой стоял наш герой. От ужаса он открыл глаза и начал быстро водить ими по темной комнате в поисках источника хоть какого-то света.
Странно, но кроме тусклой луны, по обычаю заглядывавшей в окошко, никакого подобия света не было. Обычно сторож зажигал свою керосиновую лампу на ночь, что очень раздражало писателя поначалу, но со временем он обвыкся и стал принимать этот акт даже с неким облегчением, отчего сейчас, не найдя привычной обстановки, он стал паниковать. Большее волнение появилось, когда он услышал звук хлесткого удара каблуком по туше мужчины и последовавшего кряхтения оного. Кто-то вырубил охранника и погасил лампу. Мелани пришла меня спасти таким способом? Эти туфли я узнаю где угодно… Но как ей хватило сил завалить этого здоровяка? Даже застав такого мужика врасплох, победить его весьма и весьма тяжело… Наверное, привела с собой Жака! Да, это правильно, уж у него должно найтись много сил. Хотя погодите-ка… Жак бы пришел в своем дурацком костюме. Он бы ни за что не снял его до окончания роли. Стало быть, она взяла этого щеголя Пьера…
Долго угадывать кто же помог мадемуазель Марсо не пришлось – фигура, расправившаяся с охранником, двинулась прямиком в сторону Лавуана. Сердце Филиппа сжалось от страха и восторга одновременно. Долгожданное спасение от любимой женщины… На свет вышла короткостриженая смугловатая девушка в легкой накидке и мужских брюках. Отдаленно она может и была бы схожа с Мелани, но стоило приглядеться, как сразу же бросались в глаза отличия. Во-первых, она была выше, гораздо выше ростом, почти такая же длинная, как и сам Лавуан, в то время как Мелани едва доставала плеча писателя. Во-вторых, из-за высокого роста она казалось куда более худой, хотя таковой может вовсе и не являлась. В-третьих, у этих двух дам сильно разнилась походка: Мелани порхала как истинная леди, делая аккуратные шажочки, создавая впечатление этакой бабочки, пролетающей над полем, в то время как эта девушка выглядела как этакий солдат и вышагивала ровно так же – четко и целенаправленно, шаг был большим, уверенным и отчасти агрессивным. Спутать этих двоих мог только едва проснувшийся дурак, коим и был наш герой.
Филипп не знал, чем обязан этой девушке, что она решила его вызволить из плена, но в глубине души был ей очень благодарен, о чем и собирался немедленно сказать. Однако дама, совершенно игнорируя немытого и небритого проходимца, прошла мимо камеры, едва заметно стрельнув глазками писателю, и направилась в клетку по соседству. Удивлен был не только Лавуан, но и пара заключенных, проснувшихся от недавнего переполоха: девушка, только что с такой легкостью уложившая охранника, остановилась рядом с камерой умалишенной девочки, которую тут, в сырых стенах тюрьмы, никто всерьез не воспринимал.
– Аида, пивет, – раздался голос с соседней койки, откуда начала выползать безносая Мэри.
– Привет дурнушка, – кокетливо улыбнулась Аида, опершись правым локтем на решетку камеры. – Как ты ухитрилась попасться?
– Так повучивось, – виновато ответила девочка.
– Сколько раз говорила, – закатила глаза спасительница, – никогда не иди на сложную цель без должной подготовки. Уже в который раз попадаешься же.
– Я не фпециально! Вводе пви деньгах такой весь фел. Грех быво не огвабить!
– Ну вот и ограбила, молодец, – девушка, пусть и отчитывала свою меньшую подругу, но делала это весьма ласковым голосом, отчего это не воспринималось руганью вовсе. – Ладно, что уж спорить понапрасну, – из кармана куртки появились большие звенящие ключи, – вылезай давай и пойдем скорее, у того здоровяка скорее всего сменщик есть.
Ключ со скрипом провернулся в замке, и дверь отворилась. За каких-то пару мгновений девочка, находившаяся в этом злополучном месте меньше всех присутствующих, выбралась на свободу, и вприпрыжку побежала за быстро уходящей алжиркой. До чего непредсказуема жизнь…
– Аида, пофтой, – прошептала Мэри, а затем, лихо развернувшись, направилась прямиком к камере Филиппа. – Давай мфье Лавуана с собой вовьмем?
Спасительница остановилась, медленно повернулась и демонстративно закатила глаза. Идея ей, прямо скажем, пришлась совсем не по душе.
– Кто это такой вообще? – подоспела она к подруге.
– Филипп Лавуан, – худая рука, показавшаяся из-под старого пледа, протиснулась сквозь ледяную от недавних заморозков решетку, дабы поздороваться.
– Ах этот… Вас то мы знаем, – фыркнула девушка, не протянув своей изящной ручки в ответ. – Убийца безобидных девушек. Слышала, от головы той бедняжки ни черта не осталось, а мозги еще неделю отскребали от брусчатки…
– Я этого не делал, – осипшим уставшим голосом произнес Филипп.
– И с чего бы мне выпускать рецидивиста на волю? – игнорировала все потуги писателя оправдаться Аида. – Как по мне, Ваше место на виселице, мсье Лавуан. В нашей стране, уж простите, с Вами бы давно уже расправились, как с бешеной собакой.
– В таком случае, я рад, что живу в цивилизованном обществе, – рука Филиппа вернулась под согревающий плед, – где прежде чем человека убить, стоит доказать его вину.
Аида громко рассмеялась, напрочь забыв о конспирации. Писателю стало неловко, будто его слова, сказанные со всей серьезностью, походили для девушки на старый анекдот.
– Бросьте, Филипп, – махнула рукой алжирка, – в нашей стране Ваша смерть хотя б быстрой была… Здесь же Вы несколько месяцев ждете результата суда, толком ничего не ведая, а потом Вас все равно вздергивают под улюлюканье толпы. Вы и впрямь думали, что Вас оправдают? Божья наивность! Правду говорят, что писатели удивительные романтики…
Значит уже все решено… В глубине души Лавуан уже знал, что гибель его неизбежна и настанет вполне скоро. Однако голосок надежды, едва различимый за хором суровой реальности, все же пробивался, и давал какую-никакую надежду на положительный исход. Теперь же, когда и ее заткнули, в мире француза все стало совсем темным и неприветливым – тучи сразу сгустились, звуки притупились, мысли затмили собой все внешние шумы.
– Возьмите, мсье Лавуан, – на кровать упала немного помятая сигарета и спички. Филипп медленно поднял подарок, вставил ароматную сигарету в рот, поджег спичку и втянул горький дым в легкие. Стало полегче. – Расслабьтесь напоследок… – девушка с гордым видом начала движение в сторону выхода.
– Погоди, погоди, – тянула за штанину Мэри. – Мфье Лавуан ни в тем не виноват, он фам так гововил. Я тут ф ним пообфялафь и хотю фкавать, фто он тотьно ни в тем не виноват.
– Боже, Мэри, ну что ж ты такая доверчивая… Он тебе солгал, понимаешь? – Аида опустилась на одно колено перед спутницей. – Взрослые частенько так делают, – голос девушки походил на материнский, мягкий, но поучающий.
– Я ему вевю, – настаивала девочка. – Фпомни как мы фсе фобвались у тебя. Нам фсем нувна быва помощь. Мфье Лавуану она тове нувна!
В этот раз, кажется, Мэри попала в точку. На лице Аиды проскользнула тоска по старым временам, затем глаза наполнила неподдельная грусть, и голова девушки склонилась будто в почтительном поклоне. Филипп наблюдал за разговором с большим интересом, в какой-то момент он даже забыл про тлеющую в руке сигарету, так что та успела немного обжечь ему пальцы, отчего француз резко дернул рукой, выронив окурок.
– Хорошо, мсье Лавуан, – сдалась Аида, – Вы пойдете с нами. Уж не знаю, что Вы там нашей Мэри наговорили, что она пребывает в таком восторге, но отделаться нам теперь от Вас так просто не получится – стоит мне оставить Ваша бренное тело здесь, как дома меня ждет неделя нескончаемого бубнежа на тему: как ты ужасно поступила с бедным ни в чем неповинным писателем. А оно мне совершенно не надо, – дверь камеры отворилась.
– Я не хочу бежать, – бросил Лавуан.
– Ну приехали, – вскинула голову девушка. – Ты все слышала, Мэри, идем отсюда, уговаривать этого остолопа я не стану…
Девочка не слушала старшую подругу. Вместо этого она направилась в распахнутые двери прямиком к сгорбившемуся Филиппу. Тот, потупив взгляд, обращенный в грязный пол, не придавал должного внимания к приближавшемуся силуэту. Мэри, со всей возможной теплотой, дотронулась до плеча француза. Он поднял голову и посмотрел в светлое лицо, на котором красовались два широко выпученных глаза, смотрящих прямо в душу писателя. От происходящего Лавуану стало не по себе.
– Идемте ф нами мфье Лавуан. У наф хорофая вивнь – мы фвободны. Понимаю, фто вы вдете феникфа фвоего, но фтоит ли тватить фвою вивнь на ту, фто не пиходит в твудный чаф, котовая не вавделяет боль, когда это нувно? Фтоит ли вафа вивнь ее? Вафа фмерть ввяд ли ее зацепит, мфье Лавуан. А мне будет гвуфтно…
Глупышка ты, Мэри… Слова были сказаны плохо, и стилистика у девочки хромала, но своими эмоциями они попали в черствое сердце писателя. Может Мэри и не смогла бы внятно изъясняться на бумаге, но дух большого автора у нее присутствовал. Может я стану твоей Мельпоменой… Эта шутка вызвала искреннюю улыбку на лице Лавуана, отчего теперь его гримаса становилась все более странной, ведь глаза от услышанного были на мокром месте. Теперь я выгляжу как плачущий дуралей… Филипп выдал едва различимый смешок, который не сумел подавить. Хотя сейчас ему было абсолютно все равно, как отреагируют окружающие на его поведение.
– Ну вот, так бы фваву! – вскрикнула обрадованная девочка. – Фковее пойдемте, – она перешла на громкий шепот, – пока Аида не певедумала.
Филипп, не раздумывая, согласился. Гамма эмоций напрочь отбила желание думать и рассуждать. Сейчас, едва отдавая себе отчет в происходящем, он был готов уйти с девчушкой хоть на край света, настолько она своей простотой вдохновила писателя. И хотя в глубине души он понимал, что это наваждение вскоре исчезнет, и мысли по Мелани снова вернутся, он поспешил за уходившими наверх девушками.
Охранник был полностью отключен. Лавуана эта картина поражала и пугала: Аида, хоть и выглядела очень худой и малоподвижной девушкой, оказалась весьма сильной и проворной, раз сумела уложить здоровяка, который буквально пару-тройку дней назад с легкостью отталкивал Филиппа, не получая никакого сопротивления в ответ. Француз списывал свою немощность на общую ослабленность организма от долгого нахождения в заключении. Сейчас же, видя перед глазами покоившуюся тушу охранника, писатель находил свои отговорки все менее и менее убедительными. На полке, возле стола надсмотрщика находились изъятые у заключенных вещи. Среди них Лавуан быстро заметил старую сумку с характерным алым пятном. Теперь мы с тобой оба замараны в крови, подруга. Писатель взял сумку, исходя, прежде всего, из своей известной сентиментальности.
Беглецы вышли на мокрую от недавно закончившегося дождя дорогу. Вокруг было темно. Фонари, не выполнявшие свою прямую обязанность по освещению улицы, одиноко стояли, сгорбившись в три погибели. Пускай здесь, на юге Франции, август был мягким и теплым, относительно севера, на котором родился герой, сейчас на улице было достаточно прохладно. Может это было из-за легкой одежды заключенного, может от небольшой простуды, что подхватил Лавуан, но, оглядывая своим взором темную улицу, Филипп погружался в воспоминания о давно минувших годах своей жизни. Неподалеку за углом, в едва освещенном переулке, виднелась кибитка, к которой быстрым размеренным шагом двинулась Аида, а за ней, вприпрыжку летя, следовала Мэри. Лавуан сильно отстал от дам, предавшись очередным думам и еле волоча уставшие ноги. Босые ступни постоянно прилипали к еще сырой брусчатке, затрудняя погоню еще больше, свет окон, отражающийся в темных глазах писателя мешал сосредоточиться на ходьбе.
– Ну где Вы там, мсье Лавуан? – прогремел в полной тишине голос алжирки. – Вечно нас ждать не будут.
Никуда вы без меня не уедете. Филипп не придал значения словам девушки, но шаг, по какой-то неведомой писателю причине, сам по себе ускорился, что приводило героя в легкое замешательство. Быстрее ожидаемого он добрался до дилижанса и нырнул внутрь, упав на мягкую обивку сиденья. Напротив сидела и поглощала воздух отсутствующими ноздрями Мэри, с глупым видом уставившаяся куда-то на улицу. Аида, зайдя последней, как вожак стаи, дала кучеру команду трогать. Кибитка понеслась куда-то вниз по улице с завидной для современных машин скоростью. Ветер развивал немытые волосы Лавуана и обдавал осенней ночной свежестью его лицо. Сидя в открытом дилижансе, только что вызволенный из заключения, Филипп почувствовал тот самый вкус свободы о котором столько читал и писал. Теперь он понимал, что буквы, которые он так старательно выводил ни на йоту не приближались к верному описанию этого ощущения. Все слова, что он мог придумать для олицетворения процесса, передали бы лишь скупую часть тех эмоций, что он переживал. От мысли о том, что писательское ремесло может лишь нелепо интерпретировать те эмоции, что человек испытывает в жизни, писателю должно было стать невыносимо грустно, ведь он посвятил этому делу все свое никчемное время, но Филиппу стало до того смешно, что он залился громким смехом, порождая гулкое эхо, проносящееся по оставленной позади улице.


