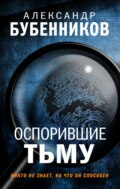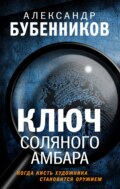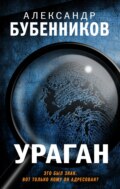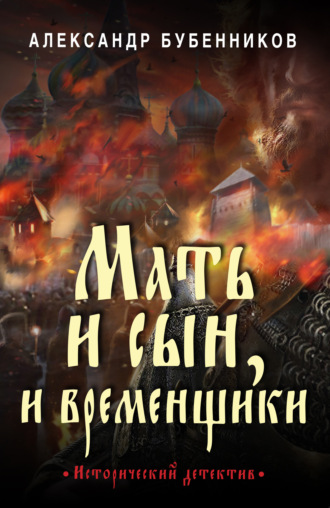
Александр Бубенников
Мать и сын, и временщики
Когда три тому назад году подвергся заключению обвиненный в коварных замыслах против правительницы Юрий Дмитровский, боярин Семен Бельский, боясь за свои тайные сношения Юрием, убежал в Литву. Король Сигизмунд милостиво принял беглеца и наградил богатыми поместьями. В следующих годах он участвовал в войне поляков с русскими, но вследствие неудач литовско-польского оружия, которые Сигизмунд приписывал русским изменникам, бежал в Константинополь, откуда уже в 1537 году явился в Крым, с целью поднять хана войной на Россию.
Набег крымчаков во время новой казанской измены представлялся весьма опасным для Москвы, потому именем государя Ивана и правительницы Елены князь Овчина послал со своим гонцом Семену Бельскому письмо, где сообщалось о его прощении. В то же время Елена, независимо от послания своего конюшего, вскоре с ведома бояр Василия и Ивана Шуйских послала другого гонца. С большими дарами калге Исламу и с требованием ему – чтобы он выдал им в Москву в руки беглого князя или умертвил изменника Семена Бельского…
Узнал об этом странном влиянии на великую княгиню первой боярской партии Шуйских конюший Овчина только от своей вдовой сестры Аграфены, «мамки» государя Ивана. Жестокость нелюдимого, но очень сноровистого и способного в государственному управлении Василия Шуйского-Немого и его ненависть к предателям и изменникам была всем известна в Москве. Все знали о его поступке, лучше всего характеризующего его отношение к предателям. Будучи оставлен наместником в Смоленске, он прослышал, что множество смоленских предателей, забыв присягу Москве, завели сношения с литовскими воеводами гетмана Острожского, перед осадой им крепости. Когда литовское войско подошло к смоленской крепости, Шуйский велел повесить предателей на стенах в одеждах и с подарками, которые недавно получили от московского государя после присяги – больше изменников в Смоленске не нашлось!
Овчина хотел переговорить о нежелательных последствиях письма великой княгини с глазу на глаз. У него были недобрые предчувствия насчет странного вмешательства партии Шуйских – скорее не в дела с Тавридой, а в личное дело, посчитаться с изменником Семеном Бельским, из боярской партии Бельских-Гедиминовичей, главных соперников Шуйских, из рода суздальских князей Рюриковичей…
Но Елена пожелала вести этот разговор – при сыне Иване. Овчина пожал плечами – при Иване, так при Иване.
– А, Иван, здравствуй! – приветливо сказал Овчина, встречая почему-то угрюмого, зажатого мальчика с красным шмыгающим носом.
Тот даже не успел поздороваться, как мать объяснила, что сын немного простужен и сказала конюшему:
– Не обращай на его вид никакого внимания… Пройдет… Отлежится, ничего с ним не станется…
– Может, ему право отлежаться… Разговор-то не короткий…
– Ничего… Так надо… Пусть привыкает… – отрезала правительница. – Сам предложил не отстранять его от разных дел, больших и малых… Пусть вникает в них с малолетства…
Маленького Ивана немного скручивала и ломала простуда, и он старался вытягиваться больше того, чем следовало. Ему самому было неловко, что он в нездоровом виде должен участвовать в каком-то тайном разговоре.
– Зачем тебе, великая княгиня, поддаваться на самовластие боярских партий? Неужели неясно, что Шуйские только и рады моменту, чтобы посчитаться с Бельскими, воспользовавшись плачевным состоянием их брата брата-беглеца Семена… И так от разного рода интриг и крамол двор кишит… Разрушается порядок, когда слишком много крамол и интриг… Ведь нашего союзника калгу Ислама, врага хана Тавриды мы посвящаем в наши московские тайны вражды и недовольства друг другом…
– Слышишь, сынок, оказывается есть вражда боярская и недовольство с грызней боярских партий… – обратилась Елена к Ивану. – Ты-то, небось, думал, что при дворе тишь да благодать… А первый боярин московский тебе говорит, что это совсем не так… Понял, сынок…
– Понял… – шмыгнул жалостливо носом царевич и строго поглядел сначала на мать, потом на конюшего.
– Ничего ты, Иван, еще не понял… – резко бросил Овчина и тут же спохватился и сбавил резкий бранчливый тон. – Главное, государь, не сами крамолы и интриги, а их жертвы…
– Жертвы? – протянул Иван.
– Да жертвы… От них идет череда жертв, чем продуманней затеваются интриги…
– Что ты этим хочешь сказать, Иван?.. – взволнованным голосом спросила Елена. – Говори, не утаивай…
– А чего мне утаивать… – рубанул воздух ладонью Овчина. – Я посылаю своего гонца, где сообщаю именем государя прощение Семену Бельскому… – И срывающимся голосом. – И от сестры узнаю, что в тайне от меня калге Исламу послано другое письмо, где речь идет уже не о прощении боярина… а даже наоборот… – Он не сдержался от гнева и отвернулся…
– Как наоборот?.. – ахает царевич.
Он с красным шмыгающим носом невольно по-мальчишески передразнил искаженной гримасой гневливое лицо конюшего, когда тот отвернулся. Мать, зная о блестящих артистических способностях сына, не могла удержаться от хохота, выбросив смешливую фразу:
– Вот так наоборот…
Овчина обернулся и злым голосом бросил:
– Чего смешного, когда, боюсь, скоро плакать придется… Два приказа действуют – казнить и миловать… – выражение гневливости и бранчливости на лице Овчины сменилось на скорбное и жалостливое.
Он хотел продолжить речь, но остановился взглядом на неестественно напряженном лице царевича. Видно было, что артистический юный государь мог запросто управлять своим лицом, как ему хочется. Только Овчина отвернулся опять, как Иван успел повторить его скорбную гримасу, а вслед за тем сумел принять наивное почтительно-невинное выражение, отнесенное к конюшему. И новой выходкой снова безумно рассмешил свою мать. На ту напал просто неудержимый смех. Она присела на краешек стула и долго не могла совладать с собой. Овчина передернул плечами и только непонимающе развел руками. Он, действительно ничего не понимал, переводя взгляд с матери на сына.
– Ой, с вами не соскучишься… – Наконец-то сказала Елена, решив хоть словом снять напряжение немой сценки и полное непонимание обескураженного конюшего Овчины.
– По-моему все это скорее ужасно, нежели смешно… Правительница попрала волю конюшего, а подыграла боярам Шуйским только на том основании, что Немой всеми фибрами своей боярской души ненавидит изменников…
– Особенно если это изменник из партии Бельских… – в тон конюшему отозвалась Елена, ожидая новой выходки с гримасой своего сына.
Но тот не отозвался, и с серьезным выражением лица переспросил глухим голосом, шмыгая носом:
– Это правда, матушка?..
– Что, правда?..
– Про Шуйских и Бельских… Про два письма в Тавриду… – Иван шмыгнул красным носом и вопросительно глядел то на мать, то на конюшего. – Зачем надо посылать два письма?..
– Вот и спрашиваю то же самое… – усмехнулся Овчина. – Не понимаю, зачем? Вполне можно было бы обойтись одним письмом, либо моим Семену, либо Шуйских калге… Я хочу сказать, что я написал письмо о прощении Бельского только с единственной целью выманить его сюда, в Москву, а по его прибытию его же и наказать изрядно…
– Но ведь и другого гонца послали с той же целью… – недовольно бросила Елена и поглядела на сына. – Понимаешь?..
– Только письмо в другие руки… – Лицо Овчины снова исказилось гневливой гримасой. – И вместе с письмом большие дары калге Исламу. И наказ – другой… Не известие о прощении, которым Семен Бельский может, к примеру похвастаться калге, хану, черт знает, кому… А решительное требование нашему союзнику – выдай нам в Москву прямо в руки беглого князя… А еще лучше, не высылай, а прямо в Тавриде умертви изменника Семена…
– Это нам чем-нибудь грозит? – спросил царевич.
Елена пожала непонимающе плечами и ответила с надрывом:
– Я уже ничего не понимаю, сынок… Шуйские хотят моими руками расправиться с Бельскими… Самовластие и месть мне не по сердцу…
– Зачем же, ты уступила Шуйскому-Немому, матушка?.. – спросил царевич с испуганными глазами.
– Попробуй не уступи… Они в голос – завелась измена, надо пресекать ее в корне…
– А почему все сделали втайне от меня? Послали боярское письмо калге Исламу без конюшего, как будто его и нет на белом свете? – спросил Овчина, возвышая гневливый голос.
– Правда, почему, матушка?..
– А потому, что Шуйским не понравилось, что в первом письме Семену Бельскому про прощение говорилось… – с горечью выдохнула Елена. – Князь Василий так и сказал – кто это такой именем государя прощает изменника?.. Я только начала объяснять, что этим прощением мы заманиваем предателя домой и здесь накажем… Так Шуйский-Немой на меня как зыркнул, у меня душа сразу в пятки ушла… Не затем, я изменников, говорит толпами на смоленских стенах вешал, чтобы им прощения другие изменники выписывали…
– Так и сказал?.. – ахнул Овчина.
– Так и сказал?.. – повторил царевич с округленными от ужаса глазами, ибо всегда побаивался страшного Немого.
– Сказал, что…
– …Надо второе письмо послать калге Исламу втайне от конюшего – так?.. – спросил Овчина. – …Да я по глазам вижу – так…
– Что же теперь будет? – спросил царевич, поглядывая снизу вверх на мать и на конюшего.
– Не знаю… – чистосердечно призналась Елена.
– Зато я знаю… – с горечью и досадой в голосе сказал Овчина. – Худо, ой как худо нам всем будет…
6. Круги измены и коварства
Двор давно, еще до последовательных заключений в тюрьму и уморения голодом Юрия Дмитровского, Михаила Глинского и Андрея Старицкого раскололся на пять самостоятельных боярские партии семейств Шуйских, Бельских, Захарьиных, Глинских, Морозовых, окруженных друзьями и клевретами. Партии остро соперничали друг с другом еще в конце правления государя Василия; при правительнице же Елене и ее фаворите-конюшем Овчине, управляющих государством именем малолетнего Ивана-государя, недоверие и враждебность партий друг к другу усилилась.
Выступая самостоятельно, каждая из соперничавших партий ждала своего часа, чтобы приблизиться к престолу, а то и посадить в случае чего своего самого могущественного представителя. Как бы лицемерно эти партии не выражали сострадание к испытаниям и исчезновению «проклятой» династии последних московских Рюриковичей из колена Дмитрия Донского, но упустить свой исторический шанс подняться во власти и обогащении ни одна из партий не желала при младенце-государе на престоле. Во время внешних угроз Третьему Риму эти партии могли временно объединиться, но даже в тяжелые критические времена прежде всего помнили о своих родовых претензиях и интересах в желании ослабить иерархическое положение соперников.
Первыми недовольство своим положением с требованием перемен на престоле проявили представители партии Шуйских, попытавшиеся не только отъехать к удельному князю Юрию Дмитровскому, но и поставить сильного дядю на великое княжение вместо слабого племянника-младенца. Привлечение на свою сторону князей Шуйских – с молчаливого согласия первых бояр государства Василия Васильевича Немого и его брата Ивана Васильевича – обернулось для Юрия Дмитровского арестом, заключением, скорой смертью, концом боярского единодушия в регентском совете с новыми заговорами Глинского, Бельского, Андрея Старицкого.
Если бы не привязанность правительницы Елены к фавориту-конюшему Овчине, могла бы рассчитывать она только на своего дядю Михаила Глинского? Ведь у того были свои планы «держать престол» своего внука и племянницы с главным своим единомышленником, боярином Михаилом Воронцовым. Глинский и Воронцов поначалу делали все возможное, чтобы удалить старших бояр-воевод Дмитрия Бельского и Ивана Овчину из Москвы, загрузить их военными делами и лишить их возможности вмешиваться в государственное управление. Вряд ли конюшему Овчине удалось совладать с хитроумным и вероломным князем Михаилом Глинским, если бы не та же молчаливая поддержка братьев-бояр Шуйских, патологически ненавидевших многократного изменника и беглеца Глинского. Впрочем на большую поддержку партии Шуйских конюшему и правительнице рассчитывать не приходилось, поскольку у этой партии были свои виды на место под солнцем у престола, а то и на престоле в Третьем Риме.
Однако любовь и привязанность Елены Глинской к Ивану Овчине, возвышение последнего на посту главы правительства вооружили против правительницы и конюшего не только Михаила Глинского, но и партию Бельских, посчитавшего себя обойденными за место под солнцем у московского престола. Бегство в августе 1534 года в Литву князей Семена Бельского, Ивана Ляцкого, Бориса Трубецкого произошло, в основном, из-за их непосредственного участия в заговоре Михаила Глинского против непомерно, по их разумению возвысившегося конюшего Овчины, слишком шибко в своих корыстолюбивых начинаниях поддерживаемого правительницей Еленой.
В том же месяце сразу после бегства Семена Бельского и Ивана Ляцкого конюший Овчина именем государя Ивана и его матери-правительницы заключил в тюрьму ближайших родственников беглецов: старшего думного боярина Дмитрия Федоровича Бельского (временно) и его брата Ивана Федоровича (надолго). Он же лишил всех властных полномочий двоюродного брата окольничего Ивана Ляцкого, регента Михаила Юрьевича Захарьина. Конечно, и Елена Глинская, и Иван Овчина понимали, что равновесие сил в государстве слишком зыбкое и их положение более чем хрупкое, чтобы почивать на лаврах.
Практически одновременно вместе с братьями Дмитрием и Иваном Бельскими был арестован и Михаил Глинский, пытавшийся остаться в тени и дистанцироваться от беглецов-изменников. Престарелого амбициозного князя-авантюриста Михаила Глинского кроме обвинения в заговоре и устройства государственного переворота со свержением главы правительства Овчины и правительницы Елены уличили на очных ставках в том, что он давал во время болезни Василия отравленное зелье и этим ядом опоил государя. Даже если бы он не был причастен коим-то образом к попыткам отравления государя Василия, нашлась бы куча иных причин и поводов избавиться от этого авантюриста, ставшего бельмом в глазу у фаворита правительницы, конюшего Оачины-Телепнева-Оболенского.
Политический кризис в связи с изменой престолу Семена Бельского и его соратников скомпрометировал, прежде всего, боярскую партию Дмитрия и Ивана Бельских и частично партию Михаила Захарьина бегством их ближайших родственников. Знатные бояре Василий и Иван Шуйские временно отошли в сторону, злорадно наблюдая, как возвысившийся фаворит-конюший загоняет в угол главных соперников суздальского клана, Бельских. Шуйские ничего не имели против заключения в тюрьму Михаила Глинского, ссылки в Новгород его правой руки боярина Михаила Воронцова, ослабления позиций партии Захарьиных, лидер которых боярин Михаил Юрьевич после недолгой опалы правительницы и конюшего стал всего лишь кротким техническим исполнителем в малосущественных делах.
Загнанная в угол конюшим Иваном и правительницей Еленой боярская партия Бельских, сторону которой тогда осторожно поддерживал митрополит Даниил, готовилась к ответному мстительному удару; ждала только удобного случая. Опала, наложенная конюшим Овчиной и правительницей Еленой, на лидеров этой партии Дмитрия и Ивана Бельских, старших братьев беглеца Семена, необычайно остро затронула семейные устои внутри московской политической элиты.
Ведь благодаря брачным и родственным узам со старинным русским боярским родом Челядниных Дмитрий Федорович Бельский, выходец из литовского великокняжеского дома Гедимина оказался близок к старомосковскому боярству и стал родичем конюшего Ивана Овчины. Тесная связь с семейством Челядниных как-то объединяла бояр Бельских и Овчину, до компрометации первых бегством их брата Семена.
В роду Челяднина, происходившего от немецкого выходца Радши, вышли первые бояре и воеводы, Петр Федорович, устюжским наместник, и брат его Андрей Федорович, наместник новгородский и конюший боярской Думы (причем первый, кому было пожаловано это звание). Старший сын Андрея Федоровича Челяднина, Владимир Андреевич, знатный боярин и дворецкий, был женат на сестре Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского, княжне Аграфене Федоровне Телепневой-Оболенской, которая после смерти мужа стала «мамкой» – нянькой – маленького государя Ивана. Младший брат Владимира Андреевича Челяднина, Иван Андреевич, боярин, конюший и воевода, успешно участвовал в целом ряде битв во время войны с литовцами, однако в 1514 году потерпел жестокое поражение под Оршей от литовского гетмана Острожского, был взят в плен, окован и отвезен в Вильну, где и умер через несколько лет в темнице. Дочь литовского пленника Ивана Андреевича, княжна Елена Ивановна Челяднина вышла замуж за Дмитрия Федоровича Бельского.
Аграфена и Елена Челяднины занимали самое высокое положение при дворе Елены Глинской. Недаром при наследовании престола и назначении правительницы к умирающему государю Василию рыдающую супругу Елену Глинскую подвела, держащая ее под руки Елена Челяднина, а наказ беречь младенца-государя Василий передал «мамке» Аграфене Челядниной.
Несомненно, что супруга Дмитрия Федоровича Бельского Елена Челяднина имела особое влияние на Елену Глинскую. Остро переживавшая пленение и смерть отца-воеводы на чужбине, разрыв родственных связей Бельских и Овчины после бегства Семена Бельского, и долгую опалу мужа, Елена Челяднина живо и сердечно отреагировала на известия, что Овчина от лица Боярской думы «простил» сбежавшего Семена. Бельский находится в плену у ногайского князя Багый и желает возвратиться в Москву. Ей и многим было понятно, что это «прощение» вынужденное, поскольку за воинственными действиями Семена Бельского на западе и на юге просматривалась их и поддерживающая рука латинистов, мечтающих столкнуть лбами русских и турок с крымчаками для организации крестового похода Европы против Османской империи.
Однако тайное послание правительницы Елены и бояр Шуйских из Москвы в Тавриду калге Исламу с требованием физического уничтожения изменника Семена Бельского, грозившегося навлечь на Москву туроко и крымчаков, о котором вдруг стало известно при дворе, настроило Бельских, их родственников и клевретов крайне отрицательно против Глинской. Среди тайных ненавистников правительницы оказалась и ее ближайшая подруга Елена Челяндина; она по-прежнему пользовалась покровительством своей госпожи при дворе, была допущена в узкий круг приближенных боярынь – недаром же именно одна Елена вывела под руки другую Елену к умирающему мужу-государю – но кипела ненавистью и злобой к матери государя за унижение опального мужа и приготовляемое убийство своего деверя Семена руками Калги…
Как ни странно, конюший-воевода Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский был менее достигаем для тайных мстительных интриг партии Бельских со смертельным орудием в руках боярыни Елены Челядниной, чем правительница и мать государя Ивана Елена Глинская… Все ненавистники Елены Глинской и ее фаворита знали одно: конюшего Овчину, на которого имели зуб одновременно Бельские, Шуйские, Захарьины, можно было уничтожить только после тихого физического устранения его покровительницы Елены, лучше всего незаметным для глаза долговременным ядом – ртутью…
Москве отъезд служилого князя в Литву с некоторых пор почти всегда связывался с изменой государственной, военной, потому что с отъездом к старинному неприятелю просматривалось тайное или явное намерение отъехавшего способствовать или благоприятствовать неприятелю в военных или других враждебных действиях против Русского государства. Только не мог считать себя изменником и государственным преступником Семен Бельский, поскольку его отъезд и шашни с латинистами были иного свойства – он был скрытым униатом и давним сторонником Флорентийской унии между православной и латинской церквями. И он, действительно, мечтал увидеть на московском престоле более сговорчивого государя, для того, чтобы привести Русскую Православную Церковь к унии с Римом при главенстве папы, так и для привлечения Москвы к военному союзу против Турции. Последнее Семену Бельскому в момент относительного замирения латинской Литвы и православной Москвы казалось делом несложным: надобно всего-то организовать сильный объединенный поход крымчаков и турок на Москву.
Из троих братьев Бельских именно князь Семен острее всех ощущал свою приверженность к униатству, и больше всех проклинал тайно и явно своего отца князя Федора Ивановича, задумавшего через два года после «стояния на Угре», в 1482 году, отложиться от великого князя литовского и короля польского Казимира IV и передаться на сторону государя московского Ивана Васильевича. Намерение беглецов от короля открылось, и многие сподвижники отца Семена них были казнены, однако сам Федор Иванович успел бежать в Москву, оставив в Литве жену, с которой венчался накануне бегства. Вот и предавался тайным мечтам князь Семен, – вот, если бы не было этого побега отца в Москву?.. Он же был и единственным из братьев, кто выставлял счет претензий не только нынешнему государю-младенцу Ивану и отцу-государю Василию, но и деду его Ивану Великому…
Иван Васильевич хорошо принял беглеца Федора Ивановича Бельского, но в 1493 году он был сослан в Галич, как замешанный, или скорее оговоренный, в заговоре князя Лукомского, намеревавшегося умертвить государя. Правда скоро ему возвращена была царская милость: она выразилась даже в том, что в 1495 году Иван Великий потребовал у короля Александра, преемника Казимира, возвращения его первой жены, которая в Москве не прожила и года. За первой государевой милостью последовала наибольшая вторая: в 1498 году с разрешения московского митрополита, Иван Великий женил Федора Бельского на родной своей племяннице, княжне Анне Васильевне Рязанской. Так была достигнута близость партии Бельских к престолу. От брака с княжной Рязанской Федор Иванович имел трех сыновей, Димитрия, Ивана и Семена. Как полагается во многих боярских семьях, самый младший сын оказался самым избалованным, самым тщеславным: его больше всего не устраивало положение в Москве, его больше всего тянуло на запад. И на этом сыграли латинисты, устроившие его побег из Москвы и встретившие Семена Бельского с распростертыми объятьями, чтобы использовать его как орудие против престола московского, натравливания турок и крымчаков на Русское православное государство – с единственной целью использовать Москву в ослаблении Турции, войне против нее.
Семен Бельский с древней родословной от Гедимина намного острее своих старших братьев ощущал, что покорение Юго-Западной Руси литовскими князьями, начиная с Витовта, вызвало значительное колебание тамошней знати между Римом и Константинополем. К тому же брак литовского князя Ягелла с польской королевой Ядвигой только способствовал последующему сближению православной церкви с латинской на этих землях. Флорентийская уния 1439 года определила новую эпоху в истории отношений русской церкви к латинской. Понимал Семен Бельский, что постановления унии были поняты в Москве прежними государями Василием Темным и Иваном Великим как оскорбление и угроза, а идея «Москвы – Третьего Рима», поставившая во главе православного мира Москву, обязывала последнюю тем более стоять на страже по отношению к церкви латинской.
Надежды латинской церкви и римских пап на унию освежились только после отравления руками латинистов и иудеев с их боярскими клевретами первой жены московского государя, Марии Тверской. Однако подстроенный латинистами через три года после убийства Марии Тверской брак Ивана Великого с воспитанницей латинских кардиналов Софьей Палеолог в 1472 году не оправдал возложенных на него ожиданий. Москву так и не удалось повернуть православных русских против неверных турок, привлечь к военному и духовному союзу – унии латинистов и православных.
Семен Бельский справедливо сравнивал два повторных брака государей, отца и сына Ивана Васильевича и Василия Ивановича на Софье Палеолог и Елене Глинской и, как ни странно находил в них много общего. Иногда ему даже казалось, что два этих брака были удивительно скроены по единым латинским меркам и калькам, но везде присутствовало тайное и умелое иудейское вмешательство. Князь Семен, хорошо знавший историю московского двора с двух точек зрения – рязанской по матери и литовской по отцу – видел много общего в трагических судьбах первых жен государей Ивана Великого и Василия – Марии Тверской и Соломонии. Обоих ловко устранили, одну ядом, другую церковным разводом при карманном митрополите Данииле, чтобы привести к престолу нужных латинистам и иудеям вторых жен – Софью Палеолог и Елену Глинскую. Но дальше вступали в силу новые силы русского хаоса и произвола, которые запутывали и одновременно усложняли ситуацию престолонаследия, с вопиющим устранением «последних Рюриковичей» из колена Дмитрия Донского. И не понятны были Семену Бельскому механизмы действия православных, латинских и иудейских сил…
Воспитанная в Риме, на попечении латинского духовенства, перешедшая здесь в латинскую веру, гречанка-римлянка Зоя-Софья, казалось бы, открывала путь униатству при дворе московского государя Ивана. Дала ли она Риму какие-либо обещания – никому неизвестно, но, едва вступив на русскую территорию, она сразу зарекомендовала себя безупречной сторонницей православия. А чем не похожа в выборе веры судьба Елены Глинской, у которой родной дядя Михаил Глинский принял латинскую веру во время службы императору Максимилиану и курфирсту саксонскому, и который перевез все свое семейство в Москву после бегства из Литвы? Только свободу Михаилу Глинскому государь дал только тогда, когда обратил того силой в православную веру, иначе из темницы бы не выпустил… Только племянница Михаила Глинского, едва вступив на русский престол, сразу же, как и ее предшественница, великая княгиня Софья, зарекомендовала себя безупречной дочерью православия…
Начиная с устройства второго брака государя Ивана Великого и Софьи Палеолог, между Римом и Москвой устанавливаются прочные дипломатические сношения через посольства Толбузина (1475), братьев Ралевых (1488), Ралева и Карачарова (1500), несколько миссий Траханиота. Хотя они, в основном, преследовали преимущественно цели вызова в Москву иноземных мастеров, но папы охотно видели в них выражение сочувствия к латинству. Челночная дипломатия Вольпе-Фрязина в большей мере была ориентирована на военный союз стран латинской Европы с Москвой против турок. Всем другим посланцам московским также было выгодно по тем или другим соображениям не отказываться от этого союза, дабы обеспечить в перспективе себе расположение правительств венецианского и Священной Римской империи, но в то же время и не форсировать военные события из-за сложных отношений Москвы с Литвой и Крымским и Казанским ханствами.
Уже во времена правления Василия, узнав о намерениях и даже успешных попытках переговоров с турками, Рим и папа пытались склонить государя к военному союзу и объединенному походу на турок, а также к принятию унии: посольства Н. Шомберга (в 1518 году), епископа Феррери (1519), Чентурионе (1524), епископа Скаренского (1526). Но Василий категорически отказывал всем папским послам даже в призрачных надеждах организовать подобный союз, на то и настраивал московские посольства Герасимова в 1525 году и Трусова с Лодыгиным в 1526 году. Как когда-то многие обманчивые надежды латинистов были связаны с Вольпе-Фрязиным и Чентурионе, так теперь они возродились с бегством коварного и амбициозного князя Семена Бельского.
Только если раньше латинисты с помощью официальных московских послов хотели вооружить Москву на Турцию, то теперь уже Семен Бельский предложил к радости латинистов натравить турок вместе с крымчаками на Москву. Как не порадоваться такому прибытку в армии врагов православного государства, отказывающегося от унии с Римом?.. Ведь злокозненный беглец в Литву Семен Бельский уверял, возможно, не без основания, Рим и многих правителей, что он обладает фиктивными полномочиями от ведущих боярских партий по принятию унии с собственной инициативой организации похода турок и крымчаков на Москву для свержения правительства Овчины и Глинской. Где-то авантюрист Бельский пользовался поддержкой, раз его снарядили в Константинополь для переговоров с султаном, чтобы с помощью Солимона поставить на колени Москву и в дальнейшем использовать для борьбы с неверными турками русское пушечное мясо. Авантюра Бельского вызвала большое оживление в европейских политических кругах латинистов, породив широкие многоступенчатые планы.
Однако, как ни странно, козни и интриги Семена Бельского, так или иначе направленные на войну всех христиан Европы против неверных турок, встретили серьезную оппозицию иудейской партии в Польше, Литве и Тавриде. Такая война не вязалась с торговыми и коммерческими интересами иудеев Польши, Литвы и Тавриды, умевших ладить с султаном и его крымскими ханами-вассалами. Не исключено, что иудейская партия не хотела усиления латинской церкви и папы римского; для этого надо было как-то на время нейтрализовать и самого авантюриста Бельского, заручившегося поддержкой султана, а теперь пытавшегося объединить ярых врагов, хана Саип-Гирея и калгу Ислама на совместный поход против Москвы. Иудейский советник хана Саип-Гирея, Моисей, воспользовался старой враждой калги Ислама, к которому отправился договариваться Бельский, с ногайским князем Багыем, союзником крымского хана. Обстоятельства неожиданно сложились благоприятно для Моисея, он якобы по предложению Саип-Гирея предложил ногайскому князю уничтожить калгу Ислама и захватить в плен его московского гостя. Подбить ногая не представляло труда именем хана, к тому же ему гарантировалось значительное вознаграждение за приведение войск калги под руку крымского хана.
Через своих доверенных гонцов иудейский советник хана Моисей объяснил ногайскому князю Багыю, что Ислам в руках беглого боярина Бельского может стать не орудием против Москвы, но орудием против его главного союзника, крымского хана Саип-Гирея. Поскольку главной мечтою Бельского была война Турции и Крымского вместе с ногаями против московского младенца-государя, с захватом многих русских земель и богатств, такой выгодной мечте для крымчаков и ногаев надо помочь развернуться. Следовательно, Бельского ни в коем случая не убивать – только калгу Ислама! – и на правах почетного пленника доставить к хану Саип-Гирею.
Откуда мог знать хитроумный интриган Моисей, что его интрига получит такое блестящее продолжение после как бы нечаянного нападения войск Багый на стан Ислама. Сам калга, союзник Москвы, был убит ногаями буквально через несколько дней после получения послания из Москвы от правительницы Елены и бояр Шуйских с требованием немедленно уничтожить беглого боярина Бельского. Захватив знатного московского пленника, Багый привез его к хану, показав ему с советником Моисеем обнаруженное в ларце Ислама злополучное послание московских бояр и правительницы.