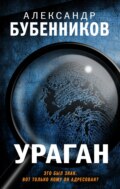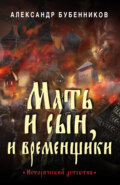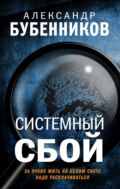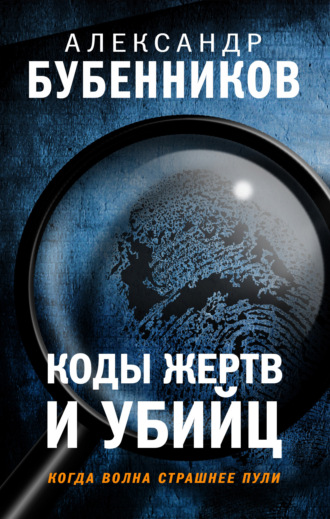
Александр Бубенников
Коды жертв и убийц
Глава 2
У него был стародавний живой интерес к макромолекуле дезоксирибонуклеиновой (ДНК) кислоты, обеспечивающей вместе с рибонуклеиновой кислотой (РНК) и белками долговременное хранение и оперативную передачу из поколения в поколение генетического кода развития во времени человеческой жизни. Более того, ещё до пика своей изобретательской деятельности новых физических структур, элементов, схем и систем полупроводниковой электроники, им была сформулирована мечта исследователя и нетривиальная научная идея: живые клетки мужского и женского организма (попросту говоря спермы со сперматозоидами-живчиками и женскую яйцеклетку овуляции) исследовать чисто и корректно электронными и радиофизическими средствами. Это было элементарно поместить мужские и женские клетки в биочипы с входными и выходными контактами и исследовать их на предмет проводимости через подачу внешних электрических токов и электрических и магнитных полей: получив представление об их проводящих, изоляционных свойствах, возможно комбинированных, как у полупроводников, и прочих свойствах. А дальше исследовать электрические, электромагнитные, оптические спектральные и шумовые свойства ДНК мужских и женских клеток в широком диапазоне частот. От предельно низких частот до средних, высоких и сверхвысоких частот (СВЧ). То же самое сделать для оплодотворенной женской яйцеклетки живчиком – ведь все это элементарно в рамках развитой измерительной техники, «измериловки», которая была всегда под руками опытного экспериментатора, физика-электронщика Ивана Николаевича.
И еще ему ужасно, из чисто человеческого любопытства хотелось самому не на картинке а «вживую» увидеть в микроскоп – электронный, туннельный, какой угодно, самый современный, хоть на основании рентгена – структуру живой ДНК макромолекулы человека, или ее след. Увидеть и удостовериться, что макромолекула ДНК имеет вид двойной спирали и как-то подивиться чудной совокупности наследственного материала, заключенного в клетке живого человеческого организма, или генома человека. Иван Николаевич вспомнил времена, когда он вел краткие дискуссии о человеческом геноме с одним специалистом-генетиком, кандидатом физмат наук Олегом Борисовичем Цариным, обещавшего, между прочим, показать ему в своем академическом институте общей генетики имени Вавилова двойную спираль макромолекулы ДНК на каком-то уникальном зарубежном электронном микроскопе-«мелкоскопе».
Собственно через этого генетика Олега Борисовича, сына профессора кафедры катодной и вакуумной электроники (где ранее работал Владик), Иван Николаевич много чего интересного узнал об основоположнике в 1920 году термина «геном» для галоидного набора хромосом немецком биологе, профессоре ботаники Гансе Винклере.
Именно от Олега Борисовича любознательный по жизни Иван Николаевич узнал, что у человека весь наследственный материал его соматической клетки представлен 23 парами хромосом, находящихся в клеточном ядре, а также клетка обладает множеством митохондриальных ДНК (Мт-ДНК). Пары хромосом представлены 22 парами аутосом, одинаковых у мужских и женских организмов и одной парой половых хромосом с хромосомным определением пола организма. Мт-ДНК человека содержат 3099734149 пар азотистых нуклеотидов на комплементарных цепочках нуклеиновых кислот, соединенных с помощью водородных связей. Есть природная стройность в материальном воплощении генетического кода человека в виде последовательности азотистых нуклеотидов – органических молекул, состоящих из нуклезоида и фосфата – служащих мономерными единицами полимеров ДНК и РНК, биомолекул живых земных организмов.
От того же Олега Борисовича Иван Николаевич впервые узнал, что первые четкие снимки рентгенограмм структуры ДНК – «секрета жизни» – методами рентгенографического дифракционного анализа получила в 1950-1951-х годах Розалинд Франклин. А нобелевские лауреаты 1962 года Крик и Уотсон, предложившие в 1953 году красивую модель структуры двойной спирали ДНК на основании рентгеноструктурных данных Розалинд Франклин и Уилкинса, просто обязаны быть стать соавторами Франклин. Но 16 апреля 1958 года Франклин в возрасте всего 37 лет скончалась от злокачественной опухоли яичников, поэтому не могла быть нобелевским лауреатом через четыре года в 1962 году. Законное место не вовремя почившей в трио нобелевских лауреатов (четырех номинантов на Нобеля быть не может) занял ее коллега по лаборатории долгожитель Уилкинс.
Почему-то в памяти Ивана Николаевича плотно засела фраза Олега Борисовича о несчастном биологе Франклин, не дождавшейся вручения ей вместо Уилкинса нобелевской премии: «Не повезло великой биологине Розалинд, ибо в ее англо-еврейском роду почти все женщины умирали от рака, причем большинство в фертильном возрасте, поскольку заболеваемость «женским раком» невероятно высока среди молодых высокообразованных и родовитых евреек-ашкенази».
Самое примечательное в истории с генетиком Олегом Борисовичем было то, что он со многими коллегами из их вуза, включая Владика, был на защите докторской диссертации Ивана Николаевича на академическом научном совете по комплексной проблеме «Кибернетика», который возглавлял ректор-академик Олег Михайлович. Не исключено, что на Олега Борисовича произвела блестящая защита Ивана Николаевича с отменным научным и прикладным выходом, с внедрением результатов работы во многие организации и публикациями в престижных научно-технических журналах. Впечатлило и достижение высочайшего технико-экономического эффекта, и огромное количество положительных отзывов по результатам внедрения результатов докторской диссертации в ходе многолетних НИР и НИОКР во многие организации – производства, институты и фирмы Союза.
Ещё до утверждения диссертации в ВАКе Олег Борисович стал частенько захаживать по вечерам на кафедру к Ивану Николаевичу и всегда находил в нем заинтересованного собеседника по проблематике ДНК-чипов, «генома человека», общей и радиационной генетике. Он был наслышан от разных источников, что Ивану Николаевичу сразу же после защиты несколько академиков, директоров академических институтов и членов ученого совета предложили возглавить отделы и лаборатории. Несколько раз Олег Борисович подкидывал вопрос, не смог ли бы Иван Николаевич в организуемую академическую лабораторию перетащить с перспективной темой исследования ДНК и РНК электронными и радиофизическими методами и его, генетика-кандидата наук в качестве ключевого исполнителя и носителя базовых знаний о человеческом геноме.
– Ничего еще не определено по той уважительной причине, что я и сам еще не определился… – отшучивался Иван Николаевич. – Да и диссертация в ВАКе не утверждена. Выходит, и к академикам нужно идти после утверждения, к тому же еще неизвестно, придется ли ко двору академических институтов электронного профиля туманная тематика… А почему бы здесь в вузе не начать или продолжить перспективные исследования по ДНК и РНК в рамках хоздоговоров?..
– Здесь ставок нет на кандидатов и докторов-исследователей, да и договора не заключишь – вот почему, – отвечал грустно коллега, – а вам для избрания в членкоры моя помощь пригодилась бы с новой перспективной тематикой на стыке биофизики, биоэлектроники и генной инженерии…
Вспомнилось почему-то Ивану, как Олег, когда они уже перешли «на ты», после ряда его вечерних посещений и душеспасительных дискуссий стал просить дать почитать «на недельку» диссертационный талмуд-кирпич, к тому же еще не утвержденный в ВАКе. Иван Николаевич удивился:
– Зачем тебе, генетику, это?
– Я же по общему образованию, инженер-физик, писал диплом на кафедре «катодной и вакуумной электроники», где работал отец. Отцу как-то не с руки было оставлять меня аспирантом на своей кафедре, вот и пришлось идти в аспирантуру в академический институт генетики. Душа-то всегда к генетике и изучению ДНК лежала… А сейчас возвращаться на отцовскую кафедру проблематично, у декана и нового заведующего кафедрой с отцом в его последние годы жизни испортились отношения.
– А чего тебя, Олег, сейчас на интегральную электронику и моделирование технологий, приборов и схем потянуло? Неужели что-то, действительно, в моей диссертации тебя остро и глубоко заинтересовало, старик?
– Самый общий подход применения уравнений математической физики к проблематике технологического и приборно-физического уровня. Мне это показалось архиважным… Вдруг и мои объекты исследования можно описать подобными уравнениями и моделями и далее использовать численные методы расчета.
– А что ДНК и РНК макромолекулы никто не пытался промоделировать? Не обязательно с помощью уравнений математической физики, через другой формальный аппарат линейной алгебры, систем дифференциальных уравнений… Как-никак аналитические модели спиралей, двойных и тройных винтов в пространстве и времени сопрягаются теорией многомерных пространств – и что математики не вцепились блеснуть в этой теме?..
– Какие-то попытки были – у нас в математическом институте Стеклова, в Штатах, Англии – но без должного эффекта научной сенсации… Ну, даешь мне прочитать твой диссер?..
Тогда Иван Николаевич решил схитрить, совместив просьбу с неким элементом удовлетворения любопытства, сказал на чистом голубом глазу:
– В принципе, с диссертацией ты можешь ознакомиться в нашем ученом институтском совете, и в том совете, где я защищался. Ведь диссертация имеет гриф «ДСП», так что тебе придется читать работу в библиотеку, под расписку… Но я тебе могу посодействовать, чтобы тебе в ученом совете дали «кирпич» на какое-то время «на вынос», для спокойного домашнего чтения… Могу позвонить ученому секретарю академического совета с уважительной просьбой… Но…
– Что – но, Иван?
– Ты мне обещал когда-то показать на электронном микроскопе вживую молекулу ДНК – помнишь? Или ее тень, образ, как у Розалинд…
– Понятно, ты мне – я тебе, попробую убить двух зайцев сразу, но не гарантирую…
– А какие трудности с «мелкоскопом» у тебя? Ты сам имеешь доступ к нему, Олег?
– Раньше имел, а сейчас надо договариваться… Но попробуем, как-то решить эту проблему…
Иван Николаевич решился позвонить своему первому официальному оппоненту академику Камилю Ахметовичу, мол, как, уважаемый директор института, не отдадите ли рецензируемую вами работу назад в руки будущего доктора наук? Академик высоко оценил труд соискателя. Самое главное, официально предложил соискателю возглавить лабораторию в его престижном академическом институте, перейдя в него со своей небольшой научной группой, и по совместительству стать заместителем базовой кафедры, тем более, по личной рекомендации ректора-академика Олега Михайловича. К тому же оба сильных и авторитетных академика, Олег Михайлович и Камиль Ахметович были первыми заместителями академика-секретаря Евгения Павловича в образованном отделении информатики, вычислительной техники и автоматизации АН.
Только на аккуратную просьбу вернуть взятый талмуд-кирпич диссертации до ее утверждения академик Камиль Ахметович отреагировал странно и неадекватно:
– Приходите ко мне сразу после утверждения работы в ВАКе в качестве доктора наук… Тогда и поговорим об организации вашей лаборатории, утверждении вас в качестве замзава базовой кафедры, которую я возглавляю… Все-таки я помню высокую рекомендацию и лестную для вас характеристику Олега Михайловича… Тогда и свою выдающуюся, так сказать, диссертацию заберете…
Олегу Иван рассказал все, как есть и, как ему показалось, ничем не удивил генетика. Тот ухмыльнулся и пожаловался:
– Тяжелые люди эти академики… Тебя, насколько я наслышан от знающих людей, скоро будут двигать в членкоры на ближайших выборах… Видишь, лаборатории, отделы в академических институтах предлагают… А наш тяжелый академик собирается сокращать наш институт, не дает, видите ли, генетика достойного вклада в народное хозяйство… Как бы и меня в институтский балласт не записали и не вычистили по первое число…
– Давай, Олег, устрой доступ к твоему «мелкоскопу», хочу полюбоваться на ДНК и РНК…
– Придется тебе допуск по первой форме оформлять в первом отделе… – отрезал Олег. – У нас старый мелкоскоп списали, а новый, купленный за бугром, возможно, по неофициальным каналам, требует ограничения доступа к нему и допуска по первой форме…
– Не шутишь, чего его «секретить», раз мелкоскоп не вами разработан? Ты об этом раньше не говорил… Но игры с мелкоскопом стоят сожженных свеч и хлопот. Без проблем, хоть со второй формой, хоть с первой опасной формой.
Олег Борисович посмотрел на Ивана Николаевича с удивлением и спросил упавшим голосом:
– Даже с оформлением первой формы у тебя не будет проблем?
– Даже с первой, Олег, мне уже приходилось повышать уровень допуска к госсекретам по потребностям научно-производственной необходимости – без проблем… Между прочим, я договорился по телефону с ученым секретарем научного совета… Подъезжай, читай, на один день тебе могут дать кирпич на вынос, с подачи соискателя…
Так и не узнал Иван Николаевич, прочитал ли Олег Борисович его диссертационную работу. По факту было одно: к «мелкоскопу» для просмотра вживую молекул ДНК он не приглашался. Олег куда-то надолго исчез из поля зрения Ивана. От Владика он узнал, что Олега в академическом институте сократили. Как говорится в подобных случаях: «Не до мелкоскопов и прочих радостей жизни». Олег потом, через значительный промежуток времени, чуть ли не через девять-десять лет появился снова перед глазами доктора, профессора Ивана Николаевича…
Причем тогда Олега чуть ли не за руку привел в лабораторию Ивана Николаевича Владик. Оба были встревожены не на шутку. Первым начал разговор Владик:
– Представляешь, Иван, вот какая петрушка выходит… Когда бандиты убивали Демарина, Олегу в те мгновения передалось какое-то необъяснимое внутреннее мозговое волнение, связанное со страданием, злодейским убийством, исчезновением живой человеческой личности…
– Передалось Олегу? – ошарашено спросил Иван. – Как, каким образом… В тот же самый день убийства Демарина?..
– Да в тот же самый день… Даже в тот же час… Даже в ту же минуту исчезновения жизни… – Сказал исказившимся голосом Владик. – Я же перед этим справился у судмедэкспертов о времени убийства Демарина… Это время практически одно и то же, что по данным судмедэкспертов, что по данным Олега… Был контакт живой души, мозга Олега с душой, мозгом умирающего от ран бандитских доцента …
– Времена совпадают, – кивнул поседевшей головой Олег. – Через такие мистические совпадения седых волос шибко прибавляется… Этот жизненный опыт мне тяжело дался, мужики… Чего-то внутри души оборвалось от контакта душ в предсмертном стоне умирающего…
– Он был знаком с Демариным, даже ближе был с ним, накоротке, в отличие, например, от меня и тебя… – пробурчал под нос Владик. – Олег, вообще, тонкая натура, даром что ли, генетик, спец по формам и развитию земной жизни…
– Бывший генетик, но желающий стать и настоящим и осознать, промоделировать свой мистический опыт… – Вот для этого я и здесь, чтобы во всем разобраться… И в своих ощущениях, абсолютно достоверных тоже…
– Это не шутка, – сказал серьезным голосом Владик. – Я перепроверил данные в милиции, у судмедэкспертов.
– Какая там шутка, когда после этого седеешь на полголовы, если не на целую голову… – Горько кивнул Олег. – Это серьезная научная проблема, требующая своего решения как обретения смысла жизни…
Когда они остались наедине вдвоем, Иван Николаевич спросил Владислава Антоновича:
– Слушай, Владик, а у тебя было в жизни нечто подобное, что испытал Олег во время гибели Демарина?..
– Было, – тихо ответил Спорик, – когда умерла мать, – я это почувствовал остро, мощно и жутко… Что-то внутри содрогнулось, когда потрясение достигло сердца, души… волна, передалось волнение, тревога за жизнь близкого человека… А потом опустошение, потому что пришло понимание, что я ничего не в силах изменить… – Он задумался надолго, а потом спросил. – А у тебя было такое?
– Было… Когда умирал дед, тоже подступила волна ужаса… Потом жуткое сердцебиение, частота пульса зашкаливала… А когда умирал утром отец утром, я проснулся от сильного толчка в сердце весь в ледяном поту… И еще были подобные случаи, только я барьеры на них в памяти поставил…
– Наверное, у меня тоже был ледяной пот и сердцебиение, но это потом, а я просто остолбенел с вырубленным сознанием, как будто свет вокруг погасили… Но при гибели Демарина я ничего не почувствовал… Кстати, наш Олег недалеко живет от того места, где убили Демарина…
– А в ранней спортивной юности, в свои пятнадцать лет, я остро почувствовал собственное душетрясение, когда за тысячи километров от меня разбилась на своем мотоцикле одна мою подруга-сверстница, потрясающе одаренная девушка, к тому же мастер спорта по мотогонкам. Её мать, врачиха рассказывала нам, что при отсечении шейных позвонков подопытных кроликов вблизи умирающих живых существ происходила окраска бесцветных жидкостей-индикаторов в черный и густо-бардовый цвет. Вот такой эффект распада жизни, гибели мозга, души кроликов… А еще был обнаружен страшный эффект мультиплицирования смертной энергии гибели людей, когда массовая гибель людей у инков и в концентрационных лагерях фашистов приводила к тому, что умирающие тела, мозг, душа генерировали мощную энергию распада, пронизывающую окружающее пространство… С сильнейшим воздействием на живые человеческие организмы, принимающие живые поля, волны гибнущих массово и страшно сородичей по разуму и крови…
Глава 3
– Вот доктор Петр Петрович Караев просил познакомить его с вами, профессор Иван Николаевич, что я делаю с превеликим удовольствием. А теперь у меня куча дел по организации секционных заседаний, оставляю вас наедине для плодотворного контакта…
Так профессор Александр Иванович Галушкин на руководимой им всероссийской нейрокомпьютерной конференции познакомил Ивана Николаевича с Караевым, о существовании которого Иван до этого дня не знал и не догадывался, как говорится, ни слухом, ни нюхом. Казалось бы, что все шито белыми нитками, если Галушкин, представляя одного своего приятеля и старого знакомца и другому приятелю-знакомцу, говоря о том как о «докторе». В те достопамятные времена и докторов, и кандидатов каких-то наук остроумцы-профессора именовали с высоколобых позиций на англо-саксонский манер: PhD или сокращенно «доктор». Только Иван Николаевич знал и другую особенность великого оригинала Александра Ивановича называть полное наименование представляемого доктора: например доктор технических наук такой-то, доктор физмат наук имярек и так далее.
В перерыве между заседаниями Караев предложил Ивану Николаевичу пройти в какую-нибудь пустующую аудиторию «на десяток минут приватной беседы». Начал беседу куртуазно, но все же парадоксальным образом:
– Александр Иванович рассказал мне о вашем успешном проекте создания минифаба наноэлектронных УБИС с индивидуальной обработкой кремниевых пластин. Вы уже сделали ТЭО и защитили его… Я впечатлен… А тут еще слухи о том, что ваш университетский научно-учебный центр высоких технологий, директором-организатором которого вы являетесь, получил от правительства Москвы около трех гектаров земли от московского правительства. А курировать направление биофизики и молекулярной биологии в вашем центре будет академик Мирзабеков, отечественный руководитель программы «Геном человека». Которого мне приходилось безуспешно просвещать по многим проблемам генома и не знающего, кстати, ответ на вопрос: как много информации памяти содержится в клетке ДНК и человеческого организма. А вы об этом знаете что-то, Иван Николаевич?
– В общих чертах, как ни странно, имею представление, если стартовать от базиса, что в клетке ДНК содержится от одного до двух гигабайт памяти. В организме человека примерно 40 триллионов клеток ДНК и полтора триллионов нейронов в мозгу человека… Перемножаем и получаем…
Караев пылко перебил его:
– Мирзабеков больше химик, чем биофизик, как-никак выпускник института тонкой химической технологии имени Ломоносова… Вот и мою теорию и прикладные аспекты волнового генома принял в штыки: не удивительно: химик не понял биофизика, выпускника биофака МГУ, носящего то же имя гениального Ломоносова… Вот тогда я в отместку ему и предложил задачку для первокурсника: сколько генетической информации содержится в одной клетке ДНК и правильного ответа – примерно полтора гигабайта – не услышал…
– Неужто Андрей Дарьевич этого не знал… – Иван Николаевич сделал небольшую паузу, вспомнив, что с подачи их ректора и по совместительству Председателя ВАК Николая Васильевича, он должен скоро контактировать с директором института молекулярной биологии имени Энгельгардта, заведующим их базовой кафедрой. Важно получить у Мирзабекова твердые гарантии стать научным руководителем биофизического направления центра высоких технологий в новом московском корпусе недалеко от руководимого им академического института молекулярной биологии. – Ведь это элементарно применить привычную для всех двоичную Булеву систему исчисления…
– Да Булева система нулей и единичек понадобится нам для того, чтобы кодировать все количество информации в битах или байтах, которая содержится в геноме человека. – Караев всплеснул руками. – Вам как физику-электронщику это знать совсем не обязательно, но на жаргоне биофизиков последовательность макромолекулы ДНК кодируется методом чередования четырех видов молекул, которые обозначаются буквами A (аденина), T (тимина), G (гуанина) и C (цитозина). Каждая из этих букв, в свою очередь, может быть кодирована двумя двоичными битами – 00, 10, 11, 01. В том случае, когда эти два бита умножаются на 6 миллиардов – а именно такова длина генетического кода – и потом делятся на 8, то в итоге получается искомый объем генома, 1,5 гигабайтам… А дальше, как вы верно заметили: в среднем в организме насчитывается 40 триллионов клеток. Исходя из этого, информации в организме человека составляет примерно 60 зеттабайт.
– Да, этот объем памяти впечатляет, к числу 6 справа добавляется 22 ноля. – Усмехнулся Иван Николаевич. – Но мне гораздо интересней в моих будущих симбиозных полупроводниково-биологических УБИС и наноэлектронных системах на пластинах распорядиться набором макромолекул ДНК с объемом памяти генома в полтора гигабайта. Меня интересует проблема записи и считывания информации в ДНК не методами редактирования генома генной инженерии с включением, удалением или перемещением фрагментов ДНК с помощью биофизических «молекулярных ножниц», а чисто электронными средствами подачи сигналов напряжения, управления токами, электрическими полями с использованием частот разного диапазона. От инфранизких и низких до ВЧ и СВЧ, даже радиационных средств, в случае необходимости при разработке космических радиационно-устойчивых схем и систем…
Караев живо подхватил тему редактирования генома:
– Вот «молекулярными ножницами» в институте Андрея Дарьевича владеют в совершенстве с использованием специальных и специфически спроектированных средств эндонуклеаза. Эти инструментальные средства нуклеазы создают сайт-специфичные двухцепочечные разрывы в ДНК в определенном участке генома. А далее индуцированные разрывы репарируются в процессе рекомбинации, что позволяет получать направленные мутации…
– А как насчет мутаций ДНК, считывания и записи информации чисто электрическими средствами, токами, напряжениями, частотами и…
Караев, словно не расслышав вопрос заинтересованного в ответе собеседника, продолжал монотонным голосом ментора:
– Еще один метод перспективного редактирования генома основан на создании непатогенных вирусов для доставки генетического материала вглубь клетки… – Потом, словно вспомнив заданный вопрос, задумчиво покачал головой. – Вопросы записи и считывания информации электромагнитным полем в том или ином частотном диапазоне меня интересовали давно. Но я не догадывался, что это так актуально сейчас в вашей проблематике создания плотноупакованных УБИС и систем на пластине для земных и космических систем…
– Ну, предположим, не сейчас, а в обозримой перспективе, – аккуратно поправил Караева Иван Николаевич.
– Перед тем, как подарить мою книгу «Волновой Геном», я хотел бы выразить надежду на сотрудничество с вами, Иван Николаевич, и вашим подразделением центра высоких технологий, который будет развиваться под руководством блистательного академика Андрея Дарьевича, руководителя отечественной программы «Геном человека». – И дальше с заметной иронией в голосе. – Доставшейся ему по наследству от великих бессмертных академиков Баева, Энгельгардта… Между прочим, для осознания величия проблематики информации в ДНК, мозге и всем человеке необходимо знать данные прогноза, что к 2020–2025 годам общее количество всей цифровой информации, которую к этому времени создаст все мировое человечество, составит всего примерно 40–45 зеттабайт. А это к радости или сожалению значительно ниже объема клеточной информации ДНК только одного человека…
– А знаете, что самое смешное в проблематике «Геном человека», возглавляемой у нас непробиваемым для новаций академиком РАН Мирзабековым Андреем Дарьевичем?
– Нет, не знаю, – честно признался Иван Николаевич.
– Отлично… Это тупиковое мировое направление науки, потому что выход от традиционных биофизических исследований человеческого генома – с тестовыми информационными биочипами для диагностики здоровья людей во всех странах, богачей и бедняков, как бы это помягче сказать, нерезультативно… Знаете почему? – Караев свысока поглядел на собеседника и, не ожидая от него немедленного или скорого ответа, сам ответил. – По старинке геном человека исследовать и интерпретировать нельзя, экономически порочно… Затраченные средства на исследование в мире проблемы «генома человека» обернутся пустошью, блефом только по одной немаловажной причине… – Он сделал глубокомысленную паузу и продолжил изменившимся в тембре голосом. – По той уважительной или неуважительной причине, что 99,9 процента всей генетической информации абсолютно одинаково у всех людей на нашей планете. А это в свою очередь означает, что геном человека содержит в себе лишь одну тысячную часть той уникальной информации, которая и отвечает за то, что конкретный человек становится неповторимым…
Иван Николаевич именно тогда почувствовал, как у него сильно забилось сердце, когда он благодаря последней фразе Караева сформулировал для себя проблему «уникальности дактилоскопии ДНК», через отпечатки пальцев и узоры на ладонях человека. «Неповторимость человека, его идентификация заключена в крохотном объеме информации ДНК, что она может поместиться на магнитной дискете размером в три с половиной дюйма. – Промелькнула в голове пытливая мысль, как уколола мозг. – Но как извлечь эту информацию, отредактировать, что изменить жизнь и судьбу человека, увеличить, или укоротить его пребывание на цветущей или угасающей земле?»
Честно говоря, Иван Николаевич дальше слушал Караева рассеянно и, как говорится, в пол-уха, тем более он уже держал в своих руках его многостраничный труд в твердом переплете «Волновой геном, 1994-го года издания, подписанного моложавым симпатичным, среднего роста, спортивного сложения автором-очкариком. У Ивана Николаевича не было никакого желания «осадить» или, как говорил герой Шукшинского рассказа «срезать» биофизика Караева. Ведь тот слышал его доклад по нейронным сетям в полупроводниковом исполнении на формальных нейронах, с линейной комбинацией «весовых» входных сигналов пороговыми элементами на сумматорах и вычитателях. Скепсис был очевиден, ведь мозг оперирует ансамблем в 1010 нейронов, а при нынешней микроэлектронной технологии можно от силы произвести нейронную сеть из десятков, сотен нейронов, от силы тысячи…
Мысленно рассуждая о тайнах живого организма мозга в 1010 нейронов, Иван Николаевич с удивлением заметил, как его мысль передалась Караеву, заметившему с тонкой улыбкой на губах:
– Читал, читал ваш учебник для вузов по численному моделированию полупроводниковых технологий, приборов и схем. Мысленно вам аплодировал, как герой книги Богомолова «Момент истины, в августе 1944-го», когда в сноске петитом прочитал что эффективность труда мозга, состоящего их десяти в десятой степени нейронов, и удивительной экономии потребляемой энергии до десяти ватт стоила по ценам МОГЭС парадоксально мало, десятую долю копейки, по советским ценам за электроэнергию.
– Да, всего ноль целых, шестнадцать сотых копейки, – улыбнулся в ответ Иван Николаевич. – Выходит, вы, Петр Петрович, читали мой учебник, написанный на основе лекций, который я читал нашим студентам?
– Прочитал с восторгом, хотя в вашей полупроводниковой интегральной электронике ни в зуб ногой…
Караев надолго задумался после этих слов, и, выдохнув какую-то накопившуюся внутри грусть, глубокомысленно заметил:
– И больше всего в вашем учебнике понравилась ваша изящная сноска по нейронным сетям мозга, мол, при расценке: один киловатт-час стоит две копейки решение задач колоссальной сложности интеллектуального исследователя за восьмичасовой рабочий день стоит ноль целых шестнадцать копеек… Только заметьте работа одного ДНК суперкомпьютера имеет выигрыш в многие и многие порядки…
– Вот, видите, Петр Петрович, я знаю как на кремниевой пластине, или стопке пластин, разместить искусственный интеллект нейрокомпьютера на десять в десятой степени нейронов и больше, а вы знаете, как полезно задействовать ДНК чипы… А как насчет симбиоза искусственного полупроводникового интеллекта и живых чипов ДНК, геномов – не слабо?
– Буду думать, Иван Николаевич, буду долго у мучительно думать… Но здесь должны быть сверх-идеи и с вашей и с моей стороны… С моей стороны, это развитие идеи волнового генома для наноэлектронной полупроводниковой искусственной нейронной сети…
– А с моей стороны, коллега, трехмерные – по поверхности и вглубь кристалла – элементы и сети, не требующие многослойной металлизации, когда выход каждого элемента или нейрона, соединяется с входом соседнего элемента и нейрона. Пассивного или активного нейрона в зависимости от его возбуждения или нет при пороговом принципе функционирования.
– Без металлизации трехмерных нейронных сетей – это круто… – Покачал головой Караев. – А вы этот проект в фонд фундаментальных исследований не посылали.
– Посылал, и выиграл двухгодовой грант в фонде Володи Фортова, правда, с мизерным годовым финансированием…
– Я не столь везучий пока по части отечественных и зарубежных грантов… Но надежды юношей питают… Меня поддерживают некоторые отечественные бизнесмены… Видите, книгу помогли издать… Обещайте, что прочитаете «Волновой геном», мне интересно ваше мнение…