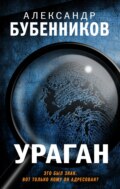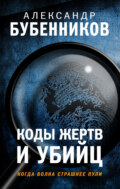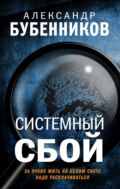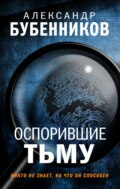Александр Бубенников
Грозы царь – Иван Грозный
Страшился гнева Господнего юный государь, да ничего не мог с собой, со своими охотничьими страстями поделать – уж больно легко грехи его детского рукоблудия и плотского насилия невинных девиц переплелись, благодаря опеке карлов и угодников Глинских, под радостные вопли: «Всем страстям надо в жизни научиться, все радости плоти испытать, чтобы быть искушенным и могущественным», переплелись с грехами содомии…
А еще Иван с лихими собутыльниками другим потехам предавался – пашню пахал вешнюю и с детьми боярскими сеял гречиху, на ходулях скоморохом «в личинах» ходил и в саван наряжался… Наиболее богохульным было ходить на ходулях в масках скоморохов – в личинах – и заниматься непристойными игрищами с саваном и покойником. Непристойная игра в глухих деревнях в похороны «покойника», обряженного в саван, заключалась в том, что мнимого покойника, в роли которого часто выступал артистичный по природе государь, обряжали в саван, укладывали в гроб и ставили посреди деревенской избы. Причем заупокойную молитву заменяла самая отборная площадная брань, к тому же всех собранных на отпевание деревенских девок насильно заставляли целовать покойника «в уста», рот которого был тоже забит тем, что способствует половому возбуждению. И, разумеется, все отпевание «возбудившегося» покойника» заканчивалось дикой разнузданной оргией…
Открыл для себя греховную тайну «пробуждения покойника» юный государь, поскольку в этих похотливых игрищах он сам всегда набивался на роль покойника и обряжался с соответствующими скабрезными песнопениями в саван. Так вот это пробуждение как бы вырывание из ледяных лап смерти, переход через воскрешение, через новый удавшийся шанс возвращения к радостям и греховной земной жизни сопровождался безумным возбуждением и вожделением. И пробуждение тоже через страшный возбуждающий скабрез частушек, от которых покойники либо от стыда краснеют, либо просыпаются, ради греха соитий тел, к греху поближе, а не от греха подальше. Когда у проснувшегося, вернувшегося к жизни покойника неутолимое чудовищное наслаждение от порчи одной девственной юницы не исчезало, а только разгоралось с новой страшной испепеляющей силой: и тогда уже не хватало для полного удовлетворения похоти ни двух, ни трех, ни полдюжины, а то и дюжины девок. А когда юниц-девок не хватало, могли сгодиться в этом чудовищном вожделении и наслаждении «разбуженного покойника-государя» и парубки, подвернувшиеся под руку, подумаешь всего-то разница – одна раскупориваемая дырка юнца вместо двух раскупоренных у юницы…
Ведь знал государь юный, что по канонам христианским запрещено даже входить в церковь половым распутникам и насильникам, прелюбодеям, тем, кто занимается рукоблудием и кто совокупляется с особами своего же пола или безвинными животными… Нельзя было церковь и хулящим все и вся скоморохам ходульным и бранчливым в «в личинах», и играющим «в покойника» ради оргий и содомского греха. Такие грешники никогда не достигнут царства Божия – что толку в знании наизусть Библии?.. Да на что-то надеялся, пытаясь совместить несовместимое: грех и святость, как паломничества в святые обители и разнузданную, пьянящую охоту на зверей, девок и парубков…
Но, Иван, вкусив греха плотского и догадываясь о том, что о его охотничьих страстях, возможно, наслышан его наставник Макарий, перешел на одной из встреч с ним в наступление:
– А знаешь ли, владыка, что плохой пример православным подают многие попы и монахи… Много навидался я в своих путешествиях по святым местам…
– Паломником или охотником?.. – спросил с очевидной подначкой владыка и выразительно окинул с ног до головы ретивого ученика.
– Паломником, владыка… – ответил Иван, неожиданно покрывшись стыдливым юношеским румянцем; но тут же взял себя в руки и пошел с напором в решительное наступление. – Во многих городах и деревнях, где я побывал простым паломником, имеются такие лихие попы и монахи, специально принимающие духовный сан, чтобы вести веселую жизнь, бражничать и буйствовать в грехе, разгуливать и развратничать по селам в свое плотское удовольствие…
– Сам видел, государь, или чужим речам внимал?.. – спросил сурово и жестко Макарий.
– Сам, сам, владыка, видел… И за свои слова ручаюсь… Чуть ли ни во всех монастырях – нет такого благостного исключения – лихие настоятели и монахи предаются беспробудному пьянству… Занимаются рукоблудием, а то и девок портят…
Макарий устремил на государя испепеляющий взор и возвысил голос:
– Не возводишь ли напраслину, государь, говоря про все монастыри…
Иван выдержал этот взгляд наставника, обращенный прямо в душу грешную своего нерадивого ученика, и ответил твердо и с достоинством:
– Я сказал, владыка – чуть ли ни во всех монастырях, но, вполне так может статься, что и во всех… – Иван тяжело вздохнул и с брезгливой улыбкой, отнесенной прежде всего внутрь, своей душе, продолжил. – К тому же попы и служки в обычных городских и деревенских церквях также напиваются до бесчувствия… Сам не видел, говорить не буду, но челобитчики мне печалились, что многих дочерей попы испортили, многих юных сынов их в содомский грех втянули…
– Даже так? – с ужасом прошептал владыка, нутром почуяв, что не лукавит его ученик, говоря о челобитчиках и лихих попах-содомитах.
– Представь себе, владыка, какое дурное влияние идет от таких развратных попов и монахов на души юные и неискушенные…
– Слаб и не мощен человече перед искушениями Диавола… – тихо простонал Макарий. – Природу греховную человеческую так быстро не обуздать… То расплата за первородный грех…
– А юным отдуваться за грехи первородные и прегрешения праотцев?.. – тихо и горько спросил Иван. – И нет никакой надежды – исправиться и очиститься – так что ли, владыка?..
Возложил свои сухие руки владыка на голову впечатлительного государя и тихо-тихо стал доверительно, как на духу, говорить:
– Пока я на духовном престоле, все возможное сделаю, чтобы уничтожить пагубу от лихих попов и монахов… Обещаю, что все злоупотребления и грехи священнослужителей будут караться… Все пьяницы, развратники и содомиты будут наказаны, а то и отлучены от церкви… Тот, кто изменил вере Христовой, тяжко оступился и погряз в грехе, отдал душу дьяволу, проклят будет навеки… Прокляты будут все, кто пляшет на кладбище в субботу накануне Троицы, прыгает через огонь на языческий праздник Ивана Купалы, колдует на святки и накануне Богоявления… Все же распутники, прелюбодеи, предающиеся содомскому греху будут отлучены от церкви до своего выздоровления… Православная церковь рекомендует своей пастве благопристойность при веселье и в питии… Юнцам и юницам святые отцы пример должны подавать – от простого монаха до епископа и митрополита… – Владыка перешел на тихий шепот и прошелестел одними губами. – …Обещаю тебе, государь, что священнослужители отринут греховных пастырей и будут служить пример прихожанам всем, особенно юнцам и юницам…
Иван почувствовал в горле владыки слезы, и ему стало неловко, что он с такими упреками обрушился на Церковь… Ведь он православный государь… Не может же быть православный государь закоренелым грешником…
Чтобы как-то сгладить ситуацию, Иван с легкой улыбкой воодушевленно промолвил:
– В Можайском лужецком монастыре я разговорился с местным игуменом о тех мужах, кто осмеливается брить бороду и усы…
– Знаю, знаю я этого игумена… – живо откликнулся владыка при упоминании о своем любимом Можайском монастыре, куда он пришел настоятелем из Пафнутиево-Боровской обители и был там архимандритом свыше трех лет, до ухода в Новгород на епископскую кафедру, благодаря протекции полюбившего его государя Василия.
– Вот, этот твердых нравственных устоев настоятель наставлял долго меня, что священные правила запрещают православным мужам-христианам брить бороду и усы… Так и пояснил, что бритье бороды и усов есть в чистом виде латинская ересь… Этот обычай ввел византийский император-еретик Константин Кабаллинос, известный в веках своим преследованием правоверных христиан… Он хотел прославиться и гонениями на христиан и тем, что стриг направо и налево бороды своим прислужникам-еретикам…
– Он плохо кончил, погрязнув в грехах и болезнях… – отрезал сухо владыка. – …И ничуть не прославился… А я вот что не премину сказать: тех, кто, следуя дурному примеру латинского еретика или собственным лихим фантазиям, преступит Божий закон, Господь Бог возненавидит, поскольку он всех нас создал по своему образу и подобию…
Иван решился на вопрос, который давно хотел задать наставнику-владыке:
– Имя императора Константина – Кабаллинос – имеет что-то общее с верой тайных иудеев каббалой?.. Лужецкий настоятель ушел от ответа… А я от матушки наслышан, что династическое противостояние между батюшкой Василием и соправителем моего деда царевичем Дмитрием-внуком, уже венчанным на царство шапкой Мономаха Иваном Великим, возникло только потому, что душой матери царевича Елены Молдавской овладели служители каббалы… Среди них были протопопы московские Алексий, Дионисий, которых дед взял к себе в столицу из Новгорода, а также первый дьяк по иноземным делам Федор Курицын, отец Ивана Курицына, моего дьяка… Многое я хочу от тебя почерпнуть, владыка, в том числе, стоит ли доверять дьяку Ивану, пусть он и отличился вместе с воеводой Дмитрием Бельским в отражении крымчаков на окских бродах…
Мудрый Макарий задумался и твердо, спокойно сказал:
– Не будем все мешать в кучу… Имя императора Константина вряд ли имеет общее происхождение с верой тайных иудеев каббалой… Об еретиках жидовствующих, об их ереси и ее носителях, давай, государь, поговорим, попозже… Есть у меня на этот счет кое-какие суждения… Только уж больно много соборов созывалось, решений было много – как еретиков наказывать и на них ополчаться… Казнями и кострами ересь не изводится… Как и в случае со святыми отцами, все решают живые примеры православных праведников, святителей русской церкви… Вот есть у меня идеи, как канонизировать многих русских праведников в святые церкви, мало их пока со времен первых русских святых, благоверных князей Бориса и Глеба… Вот на этих примерах и церковь от гнили очистится… Да и жизнь духовная улучшится – дышать легче станет… Только сначала венчать тебя надобно на царство, государь, как батюшка завещал в духовной – по достижении совершеннолетия…
– Знаю, владыка, – сказал Иван, – воля батюшки и матушки для меня закон, как, впрочем, и наказ наставника… – Иван поклонился владыке под благословение и поцеловал ему руку.
– Только ведь твои подданные, Иван, пример с православного государя скорее будут пример брать, чем с лихих попов и монахов блудливых… – тихо молвил владыка Макарий.
– Знаю… – ответствовал, покрывшись снова густым стыдливым румянцем, Иван. – …Потому и надеюсь на чудо покаяния и преображения и духовного очищения… Я буду слезно молиться и каяться… Каяться до тех пор, пока не очищусь, не оживу и не воскресну после раскаяния… Как Господу будет угодно, так и будет: не знаю, будет это до венчания на царство или после?..
– Лучше бы до венчания, государь…
– Я тоже так хочу… Только уж судьба государя московского такова… – Жестко и с душевным надрывом произнес Иван. – …Много еще крови прольется до венчания – нутром чую… Вот потому и мечусь между святым паломничеством и охотой со страстями дикими… Священный град русских – Можайск – станет как бы градом водораздела святости и охотничьих страстей… В Можайских землях мой отец Василий славно на зайцев поохотился – на всю мою оставшуюся жизнь зайцев наубивал… Для своей потехи охотничьей дворцы государевы и палаты там понастроил… А мне Священный град совсем не для охоты нужен – для чудотворения святыни Николы Можайского, неслыханного для русской земли паломничества к «Русскому Богу» и явленной им благодати не только для страждущих, но и для всего страждущего государства православного… Будут явлены чудеса Николины каждой русской душе вместе с Русским государством и его православным царем-государем – быть Третьему Риму и его самому священному городу на Руси с неслыханной до этого плотностью церквей и монастырей на клочок святой земли… Вот душа-то русская в этом Священном городе встрепенется, узрев для себя и Руси первого ее царя… Вот враги-то Руси закопошатся муравьями в своей навозной латинской куче, заскрежещут зубами, захотят сжечь, уничтожить этот Священный град русских, дающий их душам невиданную благость и силу… Главный град русских в лесных чащобах Гелон персидский царь Дарий сжег, а главная его деревянная святыня в одеяниях епископских Николая Мирликийского на Можайской земле возродилась в ипостаси Николы Меченосца… Лично для меня он пока одно чудо сделал: во время моления под его грозовым мечом Никола Можайский так надменно и презрительно на меня глянул, так мечом сверкнул гневно, что враз надолго отбил тешиться охотничьими забавами, страсти бушующие унял… Не охотился и не безумствовал в страстях плотских твой государь после Николиного взгляда, душу обжегшего и вдохновившего ее на святые порывы… Теперь-то я точно знаю – быть Священному граду, в котором мой наставник молился перед Николой Можайским за венчание меня на царство Третьего Рима шапкой Мономаха…
Ничего не ответил мудрый и кроткий Макарий, только перекрестил своего выученика и, благословив, отпустил на все четыре стороны государить, служить Христу, а не Антихристу, служить святителю Николаю Мирликийскому в ипостаси Можайского меченосца – великой христианской святыне, а не языческому ряженому болвану, «с корнями Велесовыми», провоцирующими языческие страсти-мордасти, непотребные и необузданные…
6. Новые козни и казни
Когда Ивану было уже четырнадцать с половиной лет, под влиянием своего первейшего друга Федора Воронцова его вынудили возвести опалу на одного из братьев Кубенских, Ивана. Братья-бояре Иван и Михаил Кубенские стояли во главе заговора партии Шуйских против главы Думы Ивана Бельского и митрополита Иоасафа. К тому же Иван Кубенский был среди тех бояр и Шуйских, кто бросился на Воронцова, и он лично хлестал Федора по щекам. По наущению друга, воспользовавшегося тем, что Иван-государь решил объявить недоверие всем руководству Думы, 16 декабря 1544 года Иван Кубенский был схвачен и вместе супругой и детьми был заключен в Переславле, где некогда сидел злосчастный князь Андрей Углицкий.
К удивлению государя Ивана, первым, кто стал печалиться за Ивана Кубенского, оказался его приятель-собутыльник по охотничьим забавам, «игрищам в покойника» и совместным плотским оргиям с голозадыми девками и парубками – Андрей Курбский. Он был всего на год-полтора старше государя, и Иван выделил и приблизил к себе Курбского скорее за удивительную по тому времени образованность и начитанность, нежели за приверженность к охотничьим и плотским страстям. Они чем-то были близки друг другу по духу, по острейшей тяге к знаниям, особенно по библейской и русской истории…
Но их и друг к другу тянуло не только душами, причем настолько притяжение было магнетическое, что иногда Ивану после обильных ночных возлияний даже казалось, что содомский грех у него был не только с деревенскими пацанами, но и с великолепно сложенным красавцем Андреем Курбским, князем Ярославским Рюриковичем. Так он напыщенно именовал себя в честь прямого родства с праотцем, святым благоверным князем Федором Ярославским и Смоленским.
Именно от Андрея Курбского, «Ярославского Рюриковича», Иван впервые услышал, что его знаменитый предок-князь Федор Ростиславич был самым первым князем Николина града, когда его старшие братья, Смоленские князья Глеб и Михайло «обидели» младшего Можайским захолустным уделом. Оживился Иван, хотел поподробней расспросить о его предке-князе, канонизированным святым при непосредственном участии Ивана Великого во время присоединения Ярославля к Москве… А Андрей Курбский сам пришел на святки к государю рассказывать о своем ярославском родиче…
Тогда-то и задумался юный Иван, как, выходит, близки все они князья – из колена Рюрика… Знал государь, что мать опального князя Ивана Ивановича Кубенского, княжна Углицкая, была родной сестрой его отца-государя Василия Ивановича и, следовательно, приходилась ему двоюродной теткой…
Вот, на дружеской ноге с Андреем, воспользовавшись особой прелестью «русских святок» – двенадцати дней после праздника Рождества Христова, до праздника Крещенья-Богоявленья, и стал выслушивать Иван о древнем родовитом происхождении Кубенских князей, к роду которых относился дворецкий Иван Иванович Кубенский.
Со слов Андрея Курбского выходило, что у святого благоверного князя Федора Ярославского от татарской царевны, любимой дочки татарского хана Менгу-Темира, крещеной с именем Анна, были такие святые сыновья-князья – Давид и Константин, в одном едином гробе похороненные. У Давида Федоровича Ярославского было два сына Василий Грозные Очи и Михаил, старший сын Василий получил в наследство Ярославль, а младший город Мологу…
– О младшем брате Михаиле Моложском и его роде отдельный сказ… – предупредил Андрей с таинственным выражением лица. – …Есть одно таинственное предсказание святого отца Геннадия Любимградского из Костромы, связанное с его потомком Василием Сицким, как, впрочем, и с тобой, Иван…
Иван пожал плечами и усмехнулся:
– Ну, если это отдельный сказ, так не мешай все в кучу… Потом, придет время – сказывать будешь…
– Хорошо… – согласился Андрей Курбский. – О Моложских князьях позже… Кубенские же князья составляют главную ветвь князей Ярославских, к которым и мой род относится. Внук Василия Давидовича Грозного, князя ярославского, Дмитрий Васильевич при твоем прадеде Василии Темном, имел титул князя Заозерского. Заозерский удел в Ярославском удельном княжестве или Заозерье – это земли, лежащие к северо-востоку и северо-западу от Кубенского озера…
– Это я знаю… – мрачно уронил Иван.
– Знаешь, да не все… – парировал Андрей. – Дочь этого князя Дмитрия была выдана замуж за главного династического противника Василия Темного, Дмитрия Шемяку…
– Вот откуда у ярославских князей старые новгородские связи – через противника Москвы Шемяку… – Ухмыльнулся Иван. – Давно я догадывался, что не только от Шемяки из Новгорода исходила угроза Москве, но и от Ивана Кубенского государю через его мятежные новгородские связи…
Андрей Курбский сделал вид, что пропустил мимо ушей последнее замечание Ивана, и продолжил:
– Между прочим, сын Дмитрия Заозерского Семен был, вторым по счету Заозерским князем, княжество которого при твоем прадеде Василии было присоединено к Москве, за которою еще до присоединения Ярославля после некоторых колебаний и осталось… – Андрей сделал легкую паузу и негромким проникновенным голосом сообщил. – Так вот Семен Заозерский получил Кубену, то есть юго-восточную часть Кубенского озера с областью реки Кубены. Дети и внуки Семена Дмитриевича Заозерского уже не были удельными князьями. Иван Семенович, старший сын его, при твоем деде Иване Великом был у того в окольничих; неоднократно справлял посольство к крымскому хану. А сын последнего опальный Иван Иванович был близок уже твоему отцу, государю Василию Ивановичу, служил тому верой и правдой, как и тебе готов служить, государь… Нельзя же все время вспоминать зло, которое он учинил вместе с Шуйскими, напав на твоего друга Федора Воронцова?.. Неужели Федор так и не мог простить его?.. Как-то странно, один брат в опале, а другой, Михаил, также причастный к заговору Шуйских против Ивана Бельского и к нападению на Воронцова, совсем ни при чем…
– Выходит, и Михаил Кубенский тоже за брата печалится… – буркнул Иван, недовольно покачивая головой при воспоминаниях о наговоре на Ивана Кубенского Федора Воронцова, также что-то вещавшего о подстрекательстве последнего новгородских бунтовщиков, что так напугали государя в его спальне в поисках митрополита Иоасафа.
– Все ярославские князья за Ивана Кубенского печалятся… – твердо и со значением произнес Андрей Курбский.
– А скажи-ка, Андрей, к какой княжеской ветви ярославской принадлежит твой род князей Курбских?
– У нас с тобой, государь, общий прародитель – великий князь Владимир Мономах, только ваша московская ветвь пошла через третьего Мономахова сына, Юрия Долгорукого… А наша смоленская и ярославская ветвь через первого Мономахова сына Мстислава Великого, а дальше уже от великого князя киевского Ростислава Мстиславича до его прямого потомка Федора Росиславича Можайского, Ярославского и Смоленского, в святцах записанного. Мы, князья Курбские гордимся гораздо более гордимся тем, что происходим именно от святого благоверного Федора Ростиславича Чермного, великого князя Смоленского и Ярославского, помирившего Русь с Ордой своим браком с ханской дочкой, а не от того, что являемся «старейшими» потомками великих киевских князей Владимира Мономаха, Мстислава Великого и Ростислава Мстиславича… Если сын святого Федора Чермного, сам святой князь Ярославский Давид Федорович, похороненный в одном гробе с отцом, является родоначальником всех ярославских князей, то от его внука пошли князья Курбские. Внук Федора Чермного – Василий Давидович Грозные Очи, а правнук Василия Грозные очи получил в удел село Курбы на реке Курбице неподалеку от Ярославля… С тех пор и зовется наш княжеский ярославский род – Курбские… Деда моего Михайла Карамыша-Курбского привечал твой дед Иван Великий, ты это, знаешь, государь…
– Знаю, знаю… – сморщил лоб Иван, не решаясь в святочный день мстительно напомнить приятелю по игрищам и совместным чтениям при свечах толстых исторических фолиантов нечто из ряда вон выходящее. Что отец Андрея Курбского из их ярославского рода, князь Михаил Михайлович состоял в еретической партии великой княгини Елены Молдавской и царевича Дмитрия-внука и многие пагубы против его отца Василия во время острейшего династического кризиса. Что дед Андрея Курбского Михайло Тучков при кончине скоропостижной матушки, великой княгини Елены, ближнему дьяку ее Цыплятеву многие надменные слова и оскорбления изрек. Только не хочется портить себе святочное настроение дурными воспоминаниями. Как никак его друг детства и юности тактично, чтобы не обидеть государя, отказался от претензий на «старшинство» ветви ярославских князей, что от первого Мономахова сына Мстислава, противопоставив ее «младшей» ветви третьего Мономахова сына Юрия Долгорукого.
Иван с какой-то отчаянной горечью подумал: «Слава Богу, не стал вспоминать, что князя Юрия, получившего от отца самый захудалый московский удел «Долгоруким» стали звать за слишком длинные, «долгие» руки к чужой мошне, когда он в кабаках на Москве-реке, да на Яузе торговал хмельным зельем, брал с проезжих купцов десятину деньги, грабил их», но в слух сказал громко и весело:
– Вот я, Андрей, почему-то о тебе и твоем роде Курбских, гораздо больше, чем о роде Кубенских и об опальном старом князе Иване Ивановиче задумался… Сдается мне, что жизнь нас сильней в один неразрывный узелок скрутит, чем с дворецким Иваном Кубенским… А к кому моя государева милость будет сильней – к тебе ли, князю Андрею Курбскому, или ко князю Ивану Кубенскому – одному Господу, да нашим общим любимым святителям Николе Можайскому да Федору Чермному ведомо…
– Так надо быть все же всегда и ко всем милостивей, государь… – начал бурно Андрей Курбский, и уже чуть помягче, на дружеской святочной ноте. – …Все же как никак Святки начались… До Крещенья сам Господь Бог велел всем все грехи и прегрешения прощать…
– Не торопи меня, Андрей… – Иван, вспомнив про обвинительный напор Федора Воронцова, не решился тотчас на быстрое помилование Ивана Кубенского, предусмотрительно прикинув, мол, пусть и владыка Макарий об опальном попечалится. – Опала и ссылка тоже чему-то научают… Ничего, все будет хорошо… Вернем, вернем из Переяславля нашего с тобой родственника, Ивана Кубенского… Такое впечатление, что все мы породненные и единой цепочкой княжеской связанные… Иногда даже кажется, цепью скованные, ничего нельзя предпринять, чтобы что-то к лучшему изменить… Ну, это я так, к слову, после твоего рассказа о родах Кубенских, Курбских…
– Пусть будет по-твоему, государь… Святки на то и существуют, чтобы душа в скором празднестве Богоявления возрадовалась…
Иван, зная Андрея Курбского как великого книжника, захотел испытать того и с хитрецой спросил:
– А что ты еще знаешь о Святках и Богоявлении?..
Андрей понял, что его испытывают, и попытался не ударить в грязь перед своим государем, показывая, что он умеет не только лихо собутыльничать на охотничьих и плотских потехах, но и в Закон Божьем с историей силен.
– …Святки справедливо называют святыми вечерами… – ровным спокойным голосом начал Андрей Курбский, возможно, в воспоминание событий рождества и крещения Спасителя Христа, совершившихся вечером или ночью. Святить двенадцать дней после праздника Рождества Христова Церковь начала с древних времен. Указанием на это могут служить 13 бесед святого Ефрема Сирина, произнесенных им от 25 декабря по 6 января, а также «слова» святителя Амвросия Медиоланского и святителя Григория Нисского. Древнее двенадцатидневное празднование Святок подтверждается церковным уставом преподобного Саввы Освященного, по которому во дни Святок «никакожо пост, ниже коленопреклонения бывают, ниже в церкви, ниже в кельях», и запрещено совершать таинство брака. Тоже подтверждено и кодексом Юстиниана… Вторым туронским собором все дни от Рождества Христова до Богоявления названы праздничными…
Иван подумал: «Все же книжник Андрей Курбский отменный» и решил все же навести государеву критику на Святки из-за древних языческих традиций Руси:
– Между тем, ты, конечно, об этом знаешь, Андрей… – Иван укоризненно покачал головой и поднял вверх строгий указующий перст. – …Святость этих вечеров во многих глухих русских местах нарушалась гаданиями и другими суеверными обычаями, уцелевшими от языческих празднеств того же времени года….
Андрей и здесь решил похвастаться своей начитанностью:
– …Против этого направлены, между прочим, 61 и 62 правила шестого вселенского собора. Действующий у нас закон греческой церкви запрещает: «в навечерие Рождества Христова и в продолжение Святок заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни». То что ряженые и скоморохи вытворяют – это языческая отрыжка, непотребная для правоверных христиан, но на Руси еще столько много осталось языческих праздников – все на Руси перемешано…
– А что говорит Священное Писание про Богоявление?..
Андрей, просияв красивым лицом, стал рассказывать про великий двунадесятый праздник, 6-го января, называемый праздником Крещения Господня, поскольку именно в этот день Церковь воспоминает Крещение Спасителя от Иоанна Крестителя в Иордане.
– Первое же название дано этому празднику потому, что при крещении Спасителя было особое явление всех трех лиц Божества: Отец из отверстых небес гласом свидетельствовал о крещаемом Сыне, и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца… Как гласит тропарь Крещения: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение». Правда, праздником Богоявления в различные времена в разных церквах соединялись представления о нескольких священных событиях. На Востоке он праздновался, по свидетельству Климента Александрийского, в воспоминание Крещения Иисуса Христа… К этому событию приурочивали его даже гностики, последователи Василида, понимая самое событие, конечно, в духе своей еретической системы… Со временем Крещения совпадает время вступления Христа на общественное служение, поэтому с праздником стали соединять представление о Мессианстве Христа, засвидетельствованном Господом-Отцом и Святым Духом при Крещении. Чудо в Кане Галилейской было первым откровением Мессии в Чудесах. То и другое представление было соединено с праздником, и название Епифания стало указывать собственно на крещение, а Феофания – указывало собственно на Чудо. Кроме того 6-е января в Египте считали днем Рождения Христа и, таким образом, вместе с явлением Мессии воспоминали и вообще явление Бога во плоти… Из Египта такое представление распространилось на Востоке, тем удобнее, что там больше трех веков не было определено время празднования Рождества Христова. Таким образом, с одним днем соединялось троякое воспоминание: О вступлении Мессии на общественное служение, Откровение его достоинства в первом Чуде и, наконец, о рождении и вочеловечении. Но названия праздника остались те же, и потому многие восточные отцы словами «епифания» и «феофания» обозначают и Рождество Христово. Но на Западе блаженный Иероним выразительно сказал, что эти слова должны обозначать Крещение, а не Рождение Христа…
Иван вставил в небольшую образовавшуюся паузу фразу:
– …Может быть, не без влиянии латинского Запада впоследствии воспоминание Рождения Христа и на Востоке перенесли на 25-е декабря, а 6 января воспоминали Крещение Христа и явление при крещении всех лиц Святой Троицы…
Андрей кивнул головой и продолжил.
– Первое известие о праздновании Богоявления на Западе мы имеем к времени правления кесаря Юлиана, впоследствии императора… Этот богоотступник праздновал Богоявление вместе с другими христианами в Галлии, в Вьене. Латинская церковь праздновала 6-го января, соединяя с этим днем все упомянутые представления, но главное внимание при этом обращалось на явление звезды, поклонение волхвов, т. е. на откровение Сына Божия в мире языческом, представителями которого являются здесь волхвы. Так как волхвы, по преданию, были цари, то и праздник получил на Западе название «праздник царей» или «праздник трех царей». Крещение Иисуса Христа и Чудо в Кане не были совершенно забыты при этом празднике, но им уделялось мало внимания, они перед поклонением волхвов отступили на задний план…
Иван дружески похлопал приятеля по спине, показывая тем самым, что тот прошел испытание государя, и приятели вместе наперебой стали вспоминать все, что относится к Богоявлению. Вспомнили, что ближайший перед праздником воскресный день называется неделею перед Просвещением. И еще, что в праздновании Бтогоявления, действительно, есть много сходства с празднованием Рождества: в навечерие обоих праздников совершаются царские часы, в навечерие того и другого праздника Церковь одинаково держит пост – Сочельник. И самое главное навечерие Богоявления и в самый день Богоявления бывает великое освящение воды – в отличие от малого, совершаемого в другие дни: в навечерие в церкви и в самый праздник вне церкви на реках, прудах и колодезях…