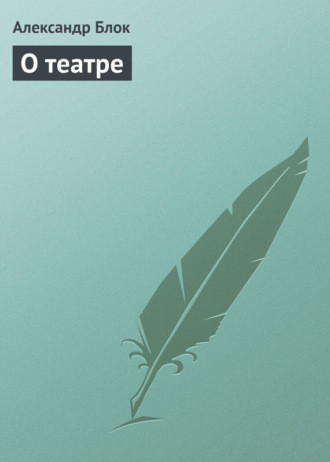
Александр Блок
О театре
Итак – «Черные вороны» Протопопова? Но в таком случае пусть закроются все театры мира, пусть заколотят свежим тесом все входы и выходы и пусть ласкает только весенний ветер жалостно шелестящую траву, которой поросли паперти этих храмов когда-то высокого искусства. Должно изгнать из храма торгующих, тех, кто пришел сюда «для забавы и смеха». Но ведь «Некто в сером», который сделался предметом беззубых газетных пародий, чье имя произносят уста любого интеллигентного забулдыги, – никто, как он, стоя неподвижно в матовом столбе бледного света, бросил в зал со сцены тяжелые, роковые и страшные слова: «Смотрите и слушайте вы, пришедшие сюда для забавы и смеха, вы – обреченные смерти».
Может быть, этих последних слов никто не расслышал? Или если расслышал, то отчего же никто не закричал, не запротестовал, никто не заплакал, никто не убежал из театра?
Мне случилось смотреть представление «Жизни Человека» со сцены. Благодаря полной темноте можно было ходить по сцене, почти рядом с действующими лицами, смотреть на публику и слышать вблизи потрясающие и навсегда памятные мне слова пролога. Вся сцена до глубины была затянута сукном, как бы видно было торжественное и строгое лицо самого театра. Тут еще по-новому я понял всю важность и всю глубину театрального действия. В час представления – театр как будто корабль в трудном плаванье. Сосредоточены лица. Все говорят шепотом, ходят крадучись. В машинном отделении неподвижно, словно насторожившись, торчат бесчисленные рычаги, которыми регулируются свет и тьма. В открытый люк из-под сцены слышен какой-то отдаленный, чуть заметный рокот – это из театрального зала. Когда опускается занавес, этот рокот становится явственным и грозным, как голос прилива. И, кажется, медленно содрогается все здание театра, точно тело большого корабля, в борта которого хлещут волны.
Но когда возвращаешься в зрительный зал, очарование падает, и видишь перед собой даже не толпу, которая, так или иначе, значительна, а просто людей, не имеющих друг с другом ровно ничего общего. И ясно становится тогда, что с этой публикой ровно ничего не поделаешь, что ее интересуют только собственные дела и делишки, что она будет через час спать – поголовно и страшно одинаково, будь на сцене Шекспир или Протопопов, Дузэ или провинциальная любительница.
Есть забавная картинка, изображающая французскую публику на представлении «Эрнани» V. Hugo (1830 г.). На сцене распростерта мертвая донна Соль, а в партере – энтузиаст вцепился в бороду почитателя классической поэзии. Если бы такие сцены происходили в действительности, – кажется, все-таки было бы отраднее. Если бы верхи, например, подрались с партером, если бы публика, возмущенная пьесой или постановкой, хороша она или плоха, была способна закидать актеров гнилыми яблоками. Но этого не бывает и явно не может быть. Не может быть даже того, чтобы публика перестала ходить в театр, единодушно бойкотировала театр или пьесу. Всегда ходит публика во все театры, всегда почти одобряет, редко и робко свистит и шикает, а потом – очень скоро привыкает ко всему, не возмущается уже тем, что возмутило ее недавно. Значит, возмущение было мозговое, исходило не из глубины души, а явилось плодом досужих комнатных фантазий.
Все, что я говорю, слишком известно. Но я не считаю лишним еще и еще раз повторить, что интеллигентная театральная публика наших дней состоит почти целиком из «обреченных смерти», что мы, художники, никогда не примем ее суда над своими истинно живыми вдохновениями и над своим трудом; для нас она – quantite negligeable[1], и ее дело самой устраниться от нашего оскорбительного к ней пренебрежения, от того, что мы на глазах ее, непосвященной, устраиваем ряд опытов, которым приличествовало бы оставаться в пределах «студии», если бы мы не пренебрегали до такой степени современным зрительным залом. Мы предупреждаем эту публику, что она, развлекая себя, занимается, в сущности, бессознательным меценатством, поддерживая в большинстве случаев безжизненные коммерческие предприятия, в каковые обратились наши театры. Мы предупреждаем ее, что она отныне уже не гарантирована ни от каких сценических провокаций, ибо мы, не получая никакого ответа, ни положительного, ни отрицательного, из зрительного зала, вправе делать всевозможные опыты и действительно не знать, что живое и что мертвое в наших исканиях. Мы вправе пользоваться только своими критериями красоты и уродства, добра и зла, потому что нам не позволяют услышать ярого возмущения или благосклонного голоса тех, кому театр действительно дорог и необходим, кто единственно способен «увенчать красоту и низвергнуть безобразие».
Тот, кому нужны развлечения, и только развлечения, – пусть уйдет из театра куда ему угодно – в кафешантан и оперетку. Я думаю, что простой гражданский долг обязывает не смешивать эти два совершенно различных ремесла. Я думаю, что сознание гражданского долга растет и в наши дни. Английская публика в последние годы, например, доказала с достойной всякого уважения, поистине европейской отчетливостью, что театр ей больше не нужен, и вот театры пали сами собой, превратились в арену для общественной забавы и смеха. Россия колеблется между двумя крайностями, ее театр как бы готов уже упасть до вкусов интеллигентной толпы, но непосредственное чувство истории говорит нам, что мы предпочтем другое устремление русского театра: к пышному расцвету высокой драмы с большими страстями, с чрезвычайным действием, с глубоким потоком идей. Это случится только тогда, когда театральную интеллигенцию, которой не нужно театра, сменит новая, молодая интеллигенция со свежим восприятием, с бодрым духом, с новыми вопросами, с категорическим и строгим «да» и «нет».







