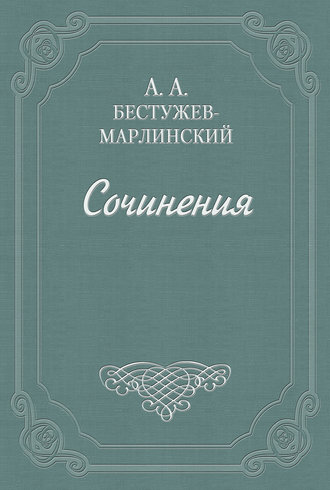
Александр Бестужев-Марлинский
Наезды
Глава VII
Я ль не изведал на веку
Любови терния и розы,
Ее восторг, ее угрозы,
И гнева знойную тоску,
И неги сладостные слезы!
Между тем старый Колонтай, стоя на пороге, хохотал так усердно, что брюхо его волновалось, как парус. Ему вторил пан староста и еще несколько человек стариков – венгерское плескалось из рюмок, которые держали они в руках.
– Каково попал? каково уметил? – восклицал хозяин. – Не беспокойтесь, пани и панны, – у жены моей отстрелен только деревянный каблучок – мой глаз не стареется… мы еще заткнем кое-кого за пояс, пан староста?
– Чудесная выдумка! уморил со смеху, пан Станислав!
В самом деле, когда уверились, что страх был напрасен и мнимая рана ограничивалась каблуком, – смех стал всеобщим. Мужчины не могли надивиться изобретательности хозяина, чтобы в комнате и в танцах выказать удаль в стрельбе, и многие дали себе слово повторить эту шутку при первом удачном случае. И точно, с тех пор обычай этот велся до наших дней. История умалчивает, нравилась ли дамам эта выдумка и всегда ли оставались безвредны их ноги, – только могу ручаться, что не только отстреливание каблуков, но даже пистолетные жмурки были в моде между удалыми поляками, особенно под вдохновением венгерского. Завязав глаза и дав в руки заряженный пистолет одному из товарищей, все другие бегали кругом его, и случалось, что пуля метко пятнала неловких.
Не находя веселья в шумных забавах праздника и преданный сомнениям ревности, Лев Колонтай, не видя Варвары, сумрачен и одинок, бродил по залам замка. Будучи одним из красавцев своего округа, одним из самых любезных мужчин при дворе Сигизмунда, куда порою являлся он, Лев Колонтай был, однако ж, нелюдимого нрава, хоть и не чуждался света. Страстный по природе, отважный по призванию, пламенный патриот по долгу, – он во всем был обманут сущностию или, лучше сказать, собственным воображением, которое рисовало ему земные предметы небесными красками. Горько было для его счастия и самолюбия обнять испещренных скудельных идолов вместо высоких существ, созданных его мечтою. Любовное пустословие, расточаемое без разбору и приемлемое без веры, непостоянство женщин и легкомыслие мужчин в любви, которая стала для ума делом, а для сердца игрушкою; отвага без повиновения в поле и без скромности дома – скоро ему наскучили. Нестерпимое невежество дробной шляхты и дерзость магнатов в народных собраниях; низкие происки при дворе для получения коронных мест и потом наглое неуважение к королю, потому что места сии были неотъемлемы; хищность на чужое добро и расточительность на свое и, наконец, всегда свои выгоды впереди блага отчизны, скрытые под ненавистной личиною ложного патриотизма, – все это породило в нем какое-то презрение и недоверчивость к людям. Он не умел вовсе разлюбить их, но уже не мог уважать – и это чувство проливало на все его слова, на все поступки странный отблеск добросердечия и насмешливости, обходительности и гордости.
Встреча с Варварою в доме отца произвела на сердце светского нелюдима глубокое впечатление, он привык к красоте, к остроумию женщин – но простота, но младенческая искренность были для него утешною новостью. Уверенный в себе, он приблизился, чтобы ее рассмотреть, как мудрец, – и кончил тем, что влюбился, как юноша. В ее чувствах он, казалось, находил отражение своих мыслей; он видел, что она способна любить, подобно ему, глубоко, постоянно. Тяжко бы ему было сознаться в пылкой страсти какой-нибудь из блестящих красавиц своих – но к существу столь беззащитному, столь доверчивому, столь беззаботно прекрасному чувства он почитал долгом священным. Обязывая других, мы к ним привязываемся невольно, и Лев, объявя себя рыцарем девушки, похищенной из семейства, из родины, преданной, огорченной, – старался вниманием своим, своею братской попечительностию сгладить с ее памяти все недостойные с нею поступки, все случайные и умышленные огорчения от своих родных, от наглой прислуги и ревнивых соседок.
Сказать, что осьмнадцатилетняя девушка, брошенная судьбою в чужой край, между врагов отечества, осталась равнодушною к человеку, который стал ей не только покровителем, но воспитателем, советником, другом нежным, было бы, по крайней мере, сомнительно. Варвара была свободна: внимание князя Серебряного началось к ней еще в таком возрасте, когда она не могла ни понимать, ни отвечать на чувства сердечные, и мгновенные с ним встречи оставили только в ее памяти к нему уважение, даже приязнь – но не более. Напротив, склонность ко Льву Колонтаю, основанная на долгом знакомстве и нежной признательности, пламенным почерком врезалась в ее душу. Страсти счастливцев измеряются быстролетными часами; страсти злополучных долговременны, потому что сердце несчастного, засохшее от печали, жадно и глубоко всасывает и елей утешения и яд новых бедствий.
Неопытная красавица русская не могла скрыть от своего победителя ни волнений незнакомой ей страсти, ни борьбы ее склонности с совестию. Она равно ужасалась мысли не любить своего благодетеля и любить неприятеля, иноверца! Набожная и страстная вместе, она то увлекала самого Льва своею пылкостию, то оледеняла его раскаянием. В то время, когда пленительные сны юности, которым мы любим предаваться, убегая от разума, рисовали ей радости любви взаимной, счастье любви увенчанной, – черный призрак вставал пред очами, и мечты разлетались, как испуганные ласточки. Незапное появление князя пробудило тоску по родине. Прежде тысячу раз хотела она бежать двойной неволи – но страх и – скажу ли? – может быть, любовь ее удерживали. Теперь сомнения ее исчезли: помощь одноземца подкрепила ее колеблющееся сердце, и как ни горестна, как ни тяжка виделась ей разлука с милым – но уважение к вере, любовь ко всему русскому, ранние свычаи и обычаи громко звали из плену. Взор Колонтая скоро угадал в князе Серебряном соперника, и все недоверчивые, все ненавистные чувства его пробудились. Гордый в своей нежности, великодушный в самом гневе – и вспыльчивый в обоих, он то кипел ревностью, то опять утихал от ласкового слова, от ясного взора любезной. Колеблемый такими противоположными чувствами, нашел он Варвару в отдаленной комнате; она сидела, оперши обеими руками о столик, и ничего не видела, не слышала. Нагоревшие свечи доказывали, что долго длилась грустная ее дума.
– Панна Варвара не хочет видеть меня, – сказал Лев нежно укорительным голосом.
– Я не должна тебя видеть, Лев, – отвечала Варвара, отвращая лицо, чтобы скрыть катящиеся по нему слезы. – Я не должна любить тебя – о, если б то и другое было в моей власти!
– И неужели, жестокая девушка, ты бы могла так же легко совершить это, как пожелать?
– Бог дает силы на доброе.
– Доброе? – разорвать союз сердец, сделать несчастным человека, виновного только тем, что он любил пламенно, – и это замышляют во имя Бога!.. О Варвара, Варвара! если бы сердце твое в сотую долю было проникнуто моею любовию, никогда бы такой предрассудок не нашел в нем места!
– Мужчины привыкли называть все обычаи старины, все священные правила предрассудками, и часто слабый ум наш увлекается тем, как перо на ветре, – но в душе есть страж неусыпляемый, и повременно слышится его голос!
– Варвара, ты обижаешь меня, смешивая с толпою бесстрастных обольстителей. Никогда сердце мое не было колыбелью порока, никогда уста не чернели неправдою. Намерения мои чисты, как бескорыстна любовь. Сколько раз умолял я тебя решить судьбу мою, – умоляю еще раз: послушайся внушений сердца и осчастливь меня, себя самую – не могу верить, чтобы кто иной так нежно, так постоянно любил тебя, так желал угодить твоим прихотям, предупреждать твою волю, так умел оценить твои добрые качества! Скажи, чем не готов я пожертвовать для взаимности, чего не сделаю, чтоб владеть твоей рукою! – Он с жаром схватил ее руку и с умилением смотрел в очи Варвары.
– Милый, добрый друг мой! – отвечала она с чувством, – словами не выразить и не заплатить мне того, чем я обязана твоим попечением. Ты усладил мою неволю, ты воспитал мой ум, но душа моя развилась на Руси. Ты для меня сделал все, что в силах человеческих, но мог ли ты создать мне родину, мог ли пересоздать самое меня? Я забыла, что ты чужеземец; но могу ли забыть, что я русская? Холод проницает меня, когда вздумаю, что должна буду навек отказаться от языка родного, от могил моих предков, от полей моей родины!
– Ты все любишь, кроме меня, ледяная душа. С тобой тундры Сибири стали бы мне краше отечества.
– Но была ли бы я спокойна, лишив тебя этого незаменимого сокровища!! Нет, милый Лев, для твоего счастья я должна отказаться от собственного. Твои родные уже заранее ропщут на брак с иноверкою – дамы уже острят жало насмешки и клеветы против нас обоих. Ты повсюду будешь предметом вестей и басен.
– И я для пустых звуков пожертвую единственным моим благом на земле, и я за мгновенную благосклонность ветреного света променяю счастие целой жизни! Варвара, ужели я так низко упал в твоем мнении, ужели так мало полагаешь во мне рассудка, чтоб увидеть ничтожность этого, и так мало решительности, чтобы это презреть? Нет, Лев Колонтай имеет голос сказать свою волю и меч, чтобы ее подтвердить!
– Благородный друг! и капли точат камень. То, что украшало нас в юности, становится нередко тяжкою цепью в летах мужества. Не говорю уже, что моя совесть никогда не примирится со мною, если я соединюсь с иноверцем: видно, уж Бог не судил благословить этого союза. Но он может заградить тебе доступ к высоким санам республики, на которые призывают тебя твои достоинства и долг гражданина, – и прощу ль я себе, что была тому виною? Нет, нет, я буду несчастна в самом лоне счастия!
– Я в самом деле начинаю думать, что панна Барбара никогда не любила; такие тонкие угадки, такие дальние расчеты! Это ли голос взаимности, таков ли язык страсти? Когда для меня все надежды, все благополучие – весь мир в тебе, в тебе одной, – ты заботишься о неверном будущем. – Панна Барбара, благодарю за эту осеннюю любовь… Кто меня любит мало – тот ненавидит меня.
– Боже великий! должна ли я слышать укоры совести за горячность мою к тебе и твои укоры за холодность! Безрассудный человек, для того что ты не думаешь о себе, я тем более должна о тебе заботиться. Женское сердце лучше предчувствует то, что не предугадывает ум мужей: брак со мною навлек бы тебе на веку множество горестей – а мне слез… Отбрось эту мысль, добрый мой друг…
Лев Колонтай растрогался на минуту.
– Варвара, – сказал он, – моя судьба была видеть тебя так часто и так долго… почему же не навсегда? Я лелеял эту мысль, как цветок, – и ты хочешь вырвать ее с корнем – это разорвет мое сердце. Не владеть тобою – ужасно, но знать тебя во власти другого – нет, это выше меня!
– Лев, я не разлюблю век, кого полюбила однажды, – но я бы рада была видеть тебя счастливым с иною.
– И в самом деле ты думаешь, что говоришь? И ты бы могла хладнокровно видеть меня с иною – нет, на закаленном булате нельзя ничего сгладить и ничего вновь вырезать. Пусть ведает снисходительная панна Барбара, что я не из тех уступчивых людей, которые спокойно глядят, когда соперник отнимает у них милую, и на чужом пиру питаются баснями самоотвержения!.. Слезы? О, женщины расточительны на них и на увещания, потому что ни то, ни другое ничего им не стоит. Нередко безрассудные в своих прихотях, как благородны они в страстях своих, как мерны в восторгах, как витиеваты в убеждениях! Человеку, который готов жертвовать им жизнию и душою, – как нежно поют они: будьте терпеливы, будьте рассудительны!
– По крайней мере, будьте великодушны! – вскричала тронутая незаслуженными укорами Варвара.
– Если на вашем языке бесчувствие называется великодушием, я никогда его не достигну.
– О, как дорого, Лев, продаешь ты свои благодеяния!
– Я, я продаю благодеяния! я, который и в пылу страсти не преступал твоих заветов, – этот упрек слишком жесток, панна Барбара, – он не твоего созданья. Эта недавняя скрытность, эта выученная холодность – этот дерзкий пришлец Яромир – для кого он здесь? для чего он здесь? Он был на Москве, он мог видеть, знать, любить тебя, – может статься, быть любимым… Ваши значительные взоры, волненье, самые слезы твои – ужасная мысль! Но знайте, что сердце Варвары может не принадлежать мне – но рука ее не будет вовек принадлежать никому – знайте, что если я умею любить, то умею и ненавидеть страстно, и этот вор моего счастия Маевский заплатит кровью за свою дерзость!
Предавшись ревности, Колонтай совершенно вышел из себя. Жилы его напряглись, белые пятна проступали и скрывались на лице – с страшными угрозами мести покинул он комнату.
– Лев, Лев! – воскликнула Варвара вслед ему; но он ничему не внимал, он уж был далеко.
Глава VIII
Ужели сердца тайный страх
Нам семена грядущей муки?
Ужели вестницей разлуки –
Дрожит слеза в твоих очах?
Вечеринка шла своим чередом, шумно и весело. Хозяин, хлопая в ладоши, велел музыкантам играть мазурку.
– Польские косточки и в гробу запрыгают от этой музыки, – сказал он, подстрекая молодежь к танцам. Круги сомкнулись, и кавалеры, побрякивая не шпорами, которых не носили на сафьянных сапогах, но подковами, загнутыми на закаблучье, пустились то по двое с своими дамами, то по трое попеременно в средину и снова свивались в цепи, в круги, в кресты. Трудно вообразить что-нибудь живее и живописнее мазурки, и если польский есть танец войны, то мазурка – танец победы. В ней отпечатан дух народа более отважного, нежели скромного, более пылкого, чем нежного. По смелости своей он принадлежит наиболее военным, по живости – одним юношам; и точно, старики, окружа танцующих, поглядывали только, сверкая очами, друг на друга, как будто говоря: «бывало, и мы гарцевали!»
Многие из них, однако же, припевали куплеты, не имеющие связи между собой, которых в Польше и до сих пор бесчисленное множество. Вот те, которые были в устах старика Колонтая.
Милы полякам
Битвы, беседы;
Храброму лаком
Кубок победы!
Любит он звон мечей,
Любит он блеск очей,
Стройные пляски,
Нежные ласки!
Хором
Кубок и сабля!
Сабля и кубок!
Сладостна капля
С розовых губок!
Молодые люди выбирали куплеты понежнее и позамысловатее этих, но старик Колонтай любил все, что напоминало ему его время, что дышало старинною простотою и удальством напольным.
Князь Серебряный, улучив время, когда все ноги, и глаза, и сердца заняты были мазуркою, сошел вниз, отыскал своего Зеленского и, отведя его на сторону в саду, спросил, нет ли каких новостей.
– Покуда самое хорошее, что перестал дождик, а самое худое, что Мациевский в околице и не сегодня завтра нагрянет сюда. Про тебя, сударь князь, слухи, будто убит в наезде!
– Я докажу этим сорванцам, что я живехонек. Отправлены ли рейтары Колонтаевы под Опочку?
– Ушли недавно; только они так хмельны, что нам не трудно будет обогнать их. У них в каждой корчме привалы.
– Тем лучше… мне хоть умереть, а поспеть домой для отражения. Я поссорился с молодым Колонтаем, но частные ссоры можно отложить и потом разведаться на границе. Осмотрел ли ты сбрую и оружие?
– Даже подковные гвозди в исправности – этот прокля…
– Тсс! тише – мне кажется, кто-то мелькнул за деревьями!
Оба замолкли, прислушиваясь, но только остальные капли падали с кровли в лужу – все было безмолвно.
– Это тень из окон, – сказал, ободрясь, Зеленский.
– В исходе десятого, по моим часам (князь отдал их Зеленскому), ты проведешь коней для нас и для Варвары Михайловны за садовою стеной к старой башне. Я с ней выйду туда – и поминайте как звали. Надеешься ли ты сделать это незаметно?
– Теперь если бы конюхов положить в пушку и выстрелить, так они и тогда бы не проснулись от хмеля.
– Условный знак – два свистка, ответ – удар в ладоши!
Оба потихоньку прокрались в разные стороны.
– Ну что же, homo di poco fede (маловерный), каковы женщины? – сказал, засмеявшись, хорунжий Солтык Льву Колонтаю, подслушав тайну беседы. – Этот Маевский, право, лихой малый – он в один миг обернул около пальца твою суровую красоту; ей-ей, я хочу проситься к нему в ученики!
– Кровь! – произнес Колонтай едва внятно; так гнев задушил его голос. – Коварная обымет труп своего обольстителя!
– Полно дурачиться, милый друг! Если бы мстить за каждую неверность жен и любовниц, так польскому королю пришлось бы набирать амазонские дружины, чтоб воевать с неприятелями. Последуй мне: я с отчаяния глотаю рюмку венгерского, выучиваю новую песню, влюбляюсь снова – и утешен!
– Но кто этот злодей? Как мог он?..
– Это мне самому любопытно узнать, diletto amico mio [5]. Однако ж здесь сыро – и мне хочется сказать пани Ласской, что она танцует, как ангел, если ангелы танцуют. До свидания.
Несколько минут стоял Колонтай неподвижен от гнева и огорчения – и мстительные замыслы вращались в голове его. Наконец он пришел в себя – и тихо возвратился к дому.
Не предчувствуя грозы, готовой разразиться над его головою, князь Серебряный, строя воздушные замки, полон надеждою и любовию, поглядывал на большие стенные часы, которые, будто краковская ратуша, стояли в углу, разукрашены фольгою и резьбою. Душа его прильнула к самой стрелке, и всякий раз, когда раздавался звон четвертей, – высоко билось сердце наблюдателя. Уже была половина десятого, но чем ближе подходила медленно переступающая стрелка к желанной мете, тем сильнее теснился страх в грудь его, – то хотелось ему отдалить роковую минуту, то видеть ее далеко за собою. В это время он заметил Льва Колонтая подле Варвары в жарком объяснении. Казалось, он укорял ее, она уговаривала его с нежностию – сомнения снова проникли в сердце князя и умножили тоску ожидания. Сложа накрест руки и грозно бросая взоры то на Колонтая, то на часы, – стоял он, будто прикован к одному месту.
– Пан Яромир так пристально смотрит на часовую доску, как будто хочет на ней прочесть судьбу свою, – сказала ему пани Ласская мимоходом.
Князь вздохнул.
– Пани Элеонора угадала, – отвечал он, – время и женщины для меня непонятные письмена.
– Говорят, что время разгадывает нас, а я разгадаю пану время: оно – крылатый червяк, который то ползет, то летит летом. Кто хочет поймать его – тот не верь будущему часу!
– Этот урок для меня напрасен, – отвечал князь Серебряный и, видя, что пани Ласская успела посадить с собою за карты Льва Колонтая, как тот ни отговаривался, – очень доволен ускользнул из залы, блистающей огнями, где тщеславие и остроумие, красота и любезность спорили о победе.
Стрелка всходила на десять.
Пробравшись до старой башни, князь долго ходил взад и вперед, волнуем нетерпением и опасениями. Трудно было решить, для какого употребления выстроена была в том месте башня. В старину не помещали в садах развалин замков, никогда не существовавших, не оклеивали мохом пещер, сбитых из сосновых досок и убранных устричными раковинами на гвоздях; а замок, казалось, не был никогда назначаем выдерживать осаду, – и примыкающие к ней садовые стенки были очень невысоки и надстроены частоколом. Как бы то ни было, только верх древней этой башни занят был теперь голубятнею, – а железная дверь, ведущая вниз ее, стояла настежь, – по всему видно было, что там уже издавна никто не жил. Заглохшие дорожки, мрачно и однообразно обсаженные липами и дубами, тянулись в обе стороны.
Скоро послышался князю топот коней за стеною. «Это мой Зеленский», – подумал князь, не смея, однако ж, подать ему голоса.
Через пять минут быстрые шаги кого-то привлекли его внимание, – он слушал не переводя дух, – видеть было невозможно.
– Здесь ли? – прошептал робкий голос, и рука Серебряного встретила трепещущую руку Варвары. – Поспешим, – сказала она, – земля горит под моею стопою – Колонтай так страшно следил меня взорами… спаси меня от плену – от собственного сердца!
– Одно слово, Варвара, прежде чем пустимся на жизнь и смерть; слово надежды, если Бог нас вынесет, слово отрады, если моя доля – пасть: скажи, любишь ли? можешь ли ты любить меня?
– Как брата, князь! Не могу обещать более. Сердце не вольно в выборе – оно любило Льва Колонтая!
Князь Серебряный от этих слов оцепенел, как будто наступил на змею.
– Скорее, скорее, – говорил им Зеленский, сбивая замок, – двери заперты изнутри!
– Мы погибли! – вскричала Варвара, сплеснув руками, – этого никогда не бывало… Боже мой, я вижу свет!
– Теперь мне красна смерть, – сказал князь, обнажая саблю.
Зеленский напрасно рубил частокол, взобравшись на стену: жерди были крепки, темнота и торопливость мешали ему.
Крики приблизились – кровавый отблеск озарил башню – Лев Колонтай задыхался от бешенства.
– Стой, стой! – восклицал он. – Ты не уйдешь, робкий злодей, от моего мщения – я и в аду найду тебя!
– Ступай туда искать себе подобных! – отвечал, вспыхнув, князь, встречая саблею саблю.
Бледная, как мрамор, упала между ними Варвара бесчувственно, но, не внимая ничему, кроме своей ярости, они еще злобней схватились над телом ее в битву. Колонтай нападал с запальчивостию, оглашая воздух проклятиями неверной и угрозами обольстителю. Князь рубился молча от злобы – и уже кровь текла из ран обоих на несчастную виновницу их гнева.
Картина была ужасна. Колонтай махал саблей и пламенником, в левой руке его пылающем; голуби, пробужденные шумом и светом, хлопая крыльями, вились около и, натыкаясь на острия, падали, трепещась, на землю. Робкая толпа, озаренная зеленоватым огнем факелов, и, наконец, женщина, распростертая у ног сражающихся, побелевшая от холода смерти, – все наводило трепет на сердце. Появление устрашенного отца было уже поздно для отвращения кровопролития – Лев с разрубленной головою упал к ногам его!!
– Спасайся, – вскричал князь Серебряный Зеленскому, который невольно был только зрителем битвы, притаясь за частоколом, – и во что бы то ни стало уведомь обо всем Агарева. Пусть он не думает обо мне, пусть он заботится только об отражении набега – вот последняя воля моя – спеши!
– Это он, это он! – произнес Зеленский, когда толпа гостей окружила князя, и скрылся из виду.
Опершись на саблю, вперив неподвижные очи на соперника и любезную, простертых у стоп его, – на два предмета его ненависти и привязанности, теперь для него уже не существующих, поражен безнадежностию в ту минуту, когда, казалось, он хватал за крыло счастие, – князь не замечал, что новое лицо – высокий, сурового вида мужчина вглядывался в него пристально.
– Я не ошибаюсь, – сказал он наконец, – этот удалец – князь Серебряный, тот самый, с которым я был знаком в Москве, с которым дрался под Москвой и который третьего дня сделал набег в наши границы от Опочки!
– Стрелецкий голова?.. – вскричали многие голоса, – повесить его как разбойника, как лазутчика!
Князь медленно, но гордо поднял очи, с усмешкой презрения окинул ими собрание и снова впал в задумчивость. Какая угроза, какая беда могла увеличить его злополучие!
Но если зловещий голос лисовчика не произвел никакого впечатления на князя, зато он пробудил всю злобу отчаянного отца, который напрасно старался привести в чувство любимого сына. Горесть его превратилась в ярость и потоком проклятий излилась из сердца.
– Схватите его, скуйте его, бросьте этого самозванца в сарай сырой, в самый душный погреб, чтоб оттуда был один шаг до ада, – кричал он неистово. – Злодей русской породы, – тебе мало было грабить в границах польских, в моих деревнях, губить и похищать во мраке ночи – нет, ты дерзнул еще вкрасться в дом мой, насмеяться над гостеприимством и, наконец, убийством сына заплатить за хлеб-соль хозяина. Бедный мой Лев, единственная моя утеха… кому теперь передам я имя Колонтаев!
Старик сплеснул руками над головой, и рыдания прервали речи его. Но скоро любовь родительская зажгла в нем опять воспоминание обиды и жажду мести за кровь…
– Но если на старости лет мне придется лечь в гроб сиротою, – воскликнул он, – ты, Серебряный, ты, убийца моего сердца, моего имени и племени, ты бесчестною смертью умрешь на могиле, в которой схоронят все мои надежды; ты будешь первым памятником моей любви к сыну… Тогда!.. нет, всегда – жив он или мертв – ты все-таки не избегнешь погибели; в этом клянусь моей честью и отчизною! Ничто, никто не спасет тебя – я не возьму бочки золота за твой выкуп… Ты падешь на жертву моей мести, на страх всем врагам моим. Сорвите с него польскую одежду, – примолвил он, сверкая взорами, – которую он позорит, и киньте злодея в эту башню. Шесть человек часовых мне жизнию отвечают за его тело – а душу его я с наслаждением вырву завтра!
Во всяком состоянии есть низкие люди, готовые в радости сердца исполнить самые бесчеловечнейшие, самые бесчестнейшие приказания торжествующей силы, отравляя насмешками побежденное несчастие. Многие из шляхтичей надворных кинулись обрывать и вязать окруженного князя, и хотя благородные поляки с негодованием смотрели на это, но они знали, что противоречия только раздражили бы Колонтая, – и молчали. Сопротивление со стороны князя было бы безрассудно – он не произнес ни звука, не сделал ни одного движения в защиту свою – он только бросил презрительный взор на хозяина. Наглые челядинцы грубо втолкнули его в темный погреб и со смехом захлопнули двери.







