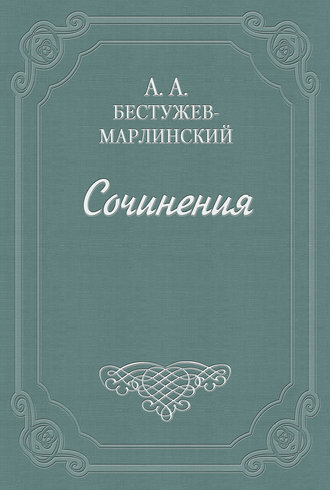
Александр Бестужев-Марлинский
Будочник-оратор
После этого патетического эпизода он приостановился, вздохнул – потом крякнул и, выставя перед собой секиру перпендикулярно, в знак твердости и прямизны, продолжал:
– Одним словом, пусть будут жены стихотворцами, математиками, министрами, явно или под рукой, по праву или на деле – пусть будут, чем хотят, – только не солдатами. Уступаю им пальмы – но лавры принадлежат одним воинам! Не для них создано это прекраснейшее, благороднейшее и первейшее в государстве звание; все другие – средства, – оно есть цель народов… Без войны для чего плодились бы люди? Что бы мы делали в мирное время? Но положив даже (чего Боже меня сохрани), что cedant arma togae[2], что война есть болезнь и что люди созданы жить в мире, – из этого не выведем еще, что женщины способны для строю. Да и как могут быть они полезны войску, когда сам Великий Петр в артикуле своем запретил им на выстрел приближаться к лагерю, чтоб не вносить туда семян раздора и неги! В самом деле, когда подумаешь о терпении и подчиненности нашего солдата – о его бескорыстии, о его храбрости – он защищает отечество снаружи, охраняет его внутри, лезет в огонь очертя голову, – когда вообразишь неутомимость трудов его в походах и осадах, бесстрашие в битвах, – так уму чудно, а сердце радуется. С пудовым ранцем за плечами прыгает он на скалу и на стену, как серна, и с голодным брюхом дерется, как лев, на приступе! Нет для них гор непроходимых, нет крепостей неодолимых. Кто измерит их завоевания, сосчитает подвиги, оценит славу! Кто?
Мой Демосфен, вероятно, истощил бы весь запас тропов и фигур риторических и все общие места, из которых делал он эту окрошку, не исчерпав своего предмета; но шелест шагов заставил прервать речь о венце.
– Кто идет? – затянул он.
– Свой! – отвечал голос. Это был квартальный офицер.
– Все ли тут в порядке? – спросил он.
– Все благополучно! – отвечал будочник, вытянувшись.
– А зачем же у тебя в фонаре вместо четырех светилен горят только две? Отучу я вас воровать казенное масло в кашу.
– Никак нет, ваше благородие, ветром задуло.







