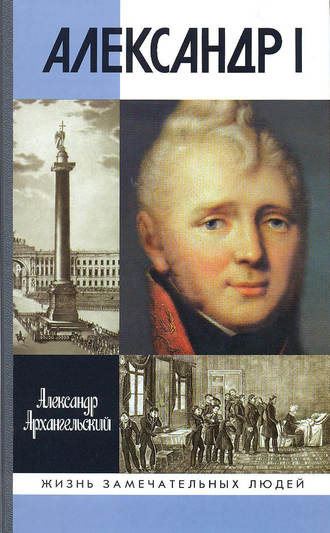
Александр Архангельский
Александр I
Дружба
Нет чувства святее товарищества.
В 1792-м Александр познакомился со славным племянником екатерининского вельможи Безбородко, Виктором Кочубеем. Кочубей горел свободой и желал добра. Только что он вернулся из охваченной революционным огнем Франции; огнем горели и глаза его. Террор еще не начаться, и как было хорошо дышать воздухом Французской революции.
Чуть позже Александр Павлович сблизился с Павлом Строгановым, который тоже знал революционную Францию не понаслышке[40].
Воспитателем Строганова был французский математик Жильбер Ромм. Подобно Лагарпу, Ромм воспитывал аристократического дитятю в демократическом духе; подобно Лагарпу, жил миром идей; подобно Лагарпу, успешно сочетал педагогическую деятельность с организационно-политической работой. В июльские дни 1789-го учитель и ученик (последний под именем Поль Очер) были в Париже, посвящали труды и дни созданию общества «Друзья Закона». Как раз летом 1789 года умер слуга Строганова, Клеман; учитель и ученик не допустили священника к ложу умирающего и затем устроили гражданские похороны. Зато в гроб (погребенный не в церковной ограде, но в саду г-на Ромма) были положены Евангелие и Декларация прав человека и гражданина, а также бутылка с запиской: «Положенные здесь Евангелие и катехизис человеческих и гражданских прав свидетельствуют об его (покойника. – А. А.) религиозных и общежитейских убеждениях…»
Учитель и ученик не ведали тогда о том, что спустя три года член клуба якобинцев, член Законодательного собрания, составитель революционного календаря Жильбер Ромм окажется в числе подписавших смертный приговор Людовику XVI, спустя два года он сам будет приговорен к смерти и заколется кинжалом за минуту до исполнения приговора. К счастью, Строганова по приказу Екатерины задолго до этого чуть ли не насильственно доставят из Парижа в Россию, где будущий наследник престола предложит ему носить тайный знак, чтобы российские якобинцы могли узнавать друг друга…[41]
Строганов не скрыл от кузена Николая Новосильцева (он как раз и доставил Строганова в Россию) своего восхищения благородными помыслами великого князя; кузен, которому к тому времени исполнилось уже тридцать пять лет, решил не упускать выгодную возможность войти в доверенность к будущему властителю России и тоже стал активным участником кружка. Именно он впервые предложил «молодым друзьям» незаметно взять шефство над мятущимся цесаревичем, исподволь направляя его волю и выполняя при нем роль коллективного Лагарпа.
Однако он, в свою очередь, не учитывал эффекта матрешки и не замечал, как над ними вырастает еще одно «прикрытие». Сверху за резвящимися на пленэре племянниками зорко приглядывали малоподвижные дядюшки.
Величественно-жуликоватый граф Безбородко, до конца дней не сумевший (или не пожелавший) избавиться от малороссийского выговора, который придавал его льстивой речи оттенок добродушия и провинциальной простоты.
Строганов-старший, почти всю жизнь проведший в Париже и представлявший собою «странную смесь энциклопедиста и русского старого барина»; «с умом и речью француза он соединял чисто русский нрав и привычки; он имел большое состояние и много долгов, обширный дом с изящной обстановкой, прекрасную картинную галерею, для которой сам составил систематический каталог, бесчисленное множество слуг-рабов, которым очень хорошо жилось у такого господина, и в том числе несколько лакеев-французов. В нем много было беспорядочности: обкрадываемый своими людьми, он сам же первый смеялся над этим»[42].
Александр Воронцов, который спустя несколько лет взял на себя «роль посредника между новыми идеями императора и старой русской рутиной и умерителя тех преобразований, которые, как он предвидел, должны были проистечь из намерений молодого императора»[43].
Они поддерживали молодежь, подмигивали ей, поощряли, подхихикивали. Славные добрые старички. Смелые благородные друзья человечества.
Безбородко по просьбе племянника чуть позже подготовил «Записку для составления законов российских», выдержанную в духе идей Монтескье. И, возможно, связанную с неосуществившимися конституционными планами Великой Екатерины. Строганов «стоял за то, чтобы каждому человеку была дана возможность счастья и свободы». И это не мешало ему в то же самое время быть «в полном смысле придворным куртизаном, то есть царская милость, придворное расположение и хороший прием во Дворце были ему необходимы. Не честолюбие или какие-нибудь расчеты вызывали в нем это чувство; нет, просто холодный прием или вид нахмуренных бровей Государя были ему невыносимыми, делали его несчастным, мешали твердости духа и покоя»[44]. Но это объяснимо и простительно. Век нынешний и век минувший. Верьте им, верьте; только помните: в случае опасности дядя за племянника не отвечает. А в случае успеха может рассчитывать на свою долю высокомонаршего сочувствия…
Последним, властно раздвинув круг и ближе всех продвинувшись к великому князю, появился на его «идейном» горизонте невеликий князь Адам Чарторыйский.
ГОД 1796.
Весна.
Трехчасовая беседа Александра с Чарторыйским. Великий князь признается, что не разделяет воззрений и правил Кабинета и Двора, называет заточенного Екатериной в крепость лидера польских повстанцев Костюшко великим человеком, который «защищал дело человечества и справедливости», хвалит Лагарпа; осуждая кровь Французской революции, желает ей успеха.
«Происхождение Чарторыйского проложило бы ему путь к польскому престолу, если бы ему не помешала в том Императрица Екатерина. Он не забыл этого и обрек себя вечной ненависти к Русским, коих гнушается, к Императору, которого обманывает, к его министрам, которых презирает; но скрывая свои чувства, он один А лишь знает свои намерения».
(Позднейший донос Дюрока министру тайной полиции Футе, из Петербурга[45].)
Чарторыйский в революционной Франции не бывал. Чарторыйский говорил об идеалах свободы так, как говорят о них те, от чьей воли свобода зависит. За Чарторыйским дядюшки не присматривали.
Дюрок не лгал. Потомок польских магнатов, униженных и разоренных последним разделом Польши, князь был воспитан, как положено, в ненависти и презрении к русским. Он говорил, что взгляды его были чисто республиканскими; возможно – чего на свете не бывает. Однако в жилах его (и он это слишком хорошо помнил) текла королевская кровь; однако род его был одним из древнейших в Польше; однако в позднейших "Записках" он не упустит случая подчеркнуть, что в детстве от опасной болезни его смог излечить лишь придворный доктор короля Станислава-Августа. (Какова кровь, таковы и болезни; каковы врачи, таковы и пациенты.) И в случае восстановления Отечества князь Адам мог рассчитывать на большее, чем Лагарп в случае победы антибернского восстания: низвергнутый король Станислав-Август был бездетен.
Беда заключалась в том, что вплоть до эпохи наполеоновских войн единственной силой, способной восстановить государственное тело Польши, была сила, его разрубившая, – Россия. Князь Адам понимал это. И как политик, умеющий пройти между Сциллой безыдеальности и Харибдой утопической эйфории, ценил шанс, который давала ему конфиденциальность с наследником русского престола. Впрочем, ближайшие планы его были проще и обозримее. Он был отправлен в Россию и определен на службу в русскую армию, чтобы ценой коллаборационизма вернуть имения, отобранные императрицей у его деда за пролитие русской крови. В этом отношении дружба с Александром Павловичем также сулила многое. На дворе стоял апрель 1796-го, Екатерина 11 здравствовала, Павел Петрович скрежетал зубами, все шло по плану.
ГОД 1796.
Июнь. 25.
Санкт-Петербург.
У Марии Феодоровны и Павла Петровича рождается третий сын, нареченный Николаем – имя это тоже отсутствовало в мартирологах русского императорского дома. Восприемнцк – Александр Павлович.
«Голос у него бас… длиною он аршин без двух вершков, а руки немного поменьше моих». (Екатерина II – Гримму.)
Дитя равняется с царями…
Он будет, будет славен.
Душой Екатерине равен.
(Гаврила Державин. «На крещение Великого князя Николая Павловича», 1796 год.)
«Новорожденный был назван Николаем. Смотря тогда на него, как он лежал в пеленках и кричал, утомленный обрядом крещения, весьма продолжительным в русской церкви, я не предвидел, что это слабое, миловидное существо, красивое, как и всякий здоровый ребенок, станет со временем бичом моего Отечества». (Адам Чарторыйский. Мемуары.)
«Я от бабушки ушел…»
Великий князь талантливо вел назначенную ему бабушкой роль. Но, в отличие от Кочубея, не пылал романтической страстью к свободе; в отличие от Строганова – не рвался в бой за нее; в отличие от Чарторыйского – не посвящал каждую минуту жизни достижению патриотической цели, естественно сплавленной с личными амбициями. Он – играл. Он играл с ними в игру либерализма; од играл в бабушкином спектакле; он играл в кошки-мышки с отцом. И до конца серьезно относился лишь к одной возможности, одной перспективе – переиграть всех. А затем, с предписываемой правилами высокого сценического искусства грациозностью, склонив голову на правое плечо, плавно раскинув руки как бы для нежных объятий, неотрывно глядя в зал и мелко семеня на цыпочках, вовремя ускользнуть за кулисы. Ибо чем сильнее было давление бабушки, отца, Двора, обстоятельств, мыслей о судьбе царственного брата Людовика (все люди царской крови – братья) и воспоминаний о кончине царственного дедушки Петра Феодоровича Третьего, рассказов об ужасах Пугачевского восстания – тем отчетливее и радостнее становилась перспектива ухода.
Если бы в Законе Божием Александра наставлял не отец Андрей Сомборский, он, возможно, почерпнул бы эту идею из трогательного жития индийского царевича Иоасафа, которому старец Варлаам открыл сокровища христта анской веры и который отверг все радости царской жизни ради сладкой муки сораспятия Христу. Но Александра наставлял отец Андрей. И потому жития благочестивого Иоасафа, над которым проливало слезы не одно поколение русских людей, он не знал.
Зато его хорошо учили Лагарп и Муравьев. А потому Александр помнил пример славного римского полководца Цинцинната, призванного из деревни принять обязанности диктатора и спасти Рим и после скоропостижной победы вернувшегося к деревенским трудам. И римского же императора-реформиста Диоклетиана, доходившего с армией до границ Рейна, подавившего восстание в Египте, завоевавшего Армению и Месопотамию, чтобы в 305 году по Рождестве Христовом отречься от престола и жить в огромном дворце в Солонах на побережье Далмации. Вероятно (хотя утверждать невозможно), знал они книгу аббата Прево «Воспоминание знатного человека, удалившегося от мира». И совершенно достоверно известно, с каким удовольствием читал он новомодные сочинения в идиллическом роде, герои которых стройными рядами покидали пышные города и царственные чертоги ради уединения под мирным кровом сельской тишины.
Сохранилась учебная тетрадь великого князя за 1787–1789 годы; первое упражнение по русской грамматике, какое мы в ней находим, взято из идиллии «Обитатель предместья» Михаила Никитича Муравьева; открывалась же тетрадь рассуждением «О счастливых селянах»[46]. Особо чтил он самого знаменитого швейцарского поэта той эпохи, Соломона Геснера, стараясь подражать его скромным, чистым, живущим естественной жизнью, знающим горести, но не ведающим отчаяния поселянам и поселянкам.
Практически параллельно с Мерсье, встроившим утопию в реальную историческую хронологию, Геснер приблизил время и место действия пасторали к современности; герои его идиллий жили не в Аркадии, а во вполне реальной Швейцарии – стране, пока еще не обретшей нейтрального статуса (это обретение произойдет после победы европейских держав над Наполеоном – и не в последнюю очередь благодаря позиции Александра I). Но даже Геснер не смог избавить идиллию от принципиальной «одноколейности»: идиллический герой имел право или уйти в идиллию из истории, или вернуться в историю из идиллии, но никогда – перемещаться из одного пространства в другое.
Герой весьма популярного, неоднократно в России переведенного Геснерова сочинения «Эвандр и Альцимина» (1762), воспитанный пастухом царевич, восклицает в миг прощания с сельской сенью:
«О вы, безмятежные тени! вы, тихо журчащие ключи! и вы, прекрасные поля, в которых лета юношества моего столь спокойно протекали! вас я оставляю для жизни, которая мне неизвестна.» По сие время жил я собственно для меня, а отныне должен жить для народа, быть так! я все силы мои напрягу»[47].
Именно таким царевичем-пастушком, обреченным на вечную разлуку с мирными дубровами ради сомнительного удовольствия власти, и ощущал себя Александр. Знающая толк в жанрах бабушка и о том позаботилась.
«Если бы вы видели, как господин Александр мотыжит землю, сажает горох, высаживает капусту, идет за плугом, боронит и затем, весь в поту, бежит ополоснуться в ручье, после чего берет сеть и вместе с сударем Константином лезет в воду ловить рыбу. И вот они уже отделяют щук от окуней, потому что, видите ли, щуки поедают других рыб… мы берем книгу для чтения с тем же настроением, с каким садимся в челнок, чтобы грести; и надо видеть нас сидящими в этом челноке…»
(Екатерина II – Гримму, из Царского Села 3 июня 1783.)
Это было в духе времени; в 1788 году было завершено строительство фермочки Марии-Антуанетты, на самой окраине Версаля.
Выглядывая по утрам из окон центрального дворца, старшие Людовики как бы окидывали взором пространственную модель своего королевства – бескрайнего, упорядоченного, всеобъемлющего. Всему было отведено свое место, выделена своя роль: офицеры охраняли, садовники обихаживали, цветочницы собирали, мусорщики выметали, фонтаны пенились, лодочки плыли, жизнь продолжалась.
Младшим Людовикам стало неуютно в отцовских владениях. Им хотелось чего-нибудь менее помпезного, более человечного – чтобы взгляд, бросаемый по утрам с балкона, не блуждал тоскливо в поисках далекого горизонта, а сразу упирался во что-нибудь миленькое и уютное. В игру теней на холмистых лужайках. В миниатюрный фонтанчик в укромном уголке сада. Так центр версальской жизни сместился чуть вправо: рядом с главной аллеей вырос Малый Трианон. Вырос, но не подрос: здесь королевский дворец был как бы уполовинен, парк сужен и лишен регулярности, в облицовке появился томный розовый мрамор.
Но французские монархи быстро и неумолимо теряли вкус к величию. Уже следующее поколение королей сочло скромный Трианон неуютной громадиной. Большими должны быть картины, изображающие королевскую жизнь (французская живопись XVIII века более чем склонна к гигантомании и пышности.) А сама королевская жизнь должна быть маленькой и счастливой. Так и учредилась на самом краю версальского парка деревенская ферма. Не пруды, а прудики с золотистыми прожорливыми карпами, которые гужевались у самого берега и, жадно разевая рты, выпрыгивали из воды за кусочками хлеба. Не мрамор Каррары, хотя бы и розовый, а плотно спрессованная и ровно подстриженная солома. Не фрейлины и пажи, а пастухи и пастушки, не грязные и бородатые подданные с их вечными проблемами, а чистые черненькие свинюшки, стриженые овечки и козочки с бугорочками рогов.
Никаких аллей, никаких далей, никакой перспективы. Боковая дорога истории сузилась до предела. Горизонт сомкнулся. Осталась крохотная прорезь – как раз для королевской головы. Через год совершится Французская революция, в 1793-м в эту прорезь обрушится нож революционной гильотины, и на дорожки огромного парка ворвутся те, кого так боялись и так не любили последние французские короли, от кого они так робко прятались на своих крохотных фермах: их несчастные подданные…
И если Екатерина играла в пастораль легко и беззаботно, то ее внук отнесся к этой игре и ее правилам абсолютно всерьез. Не случайно в миг своего высшего торжества, возвращаясь из только что взятого Парижа через Швейцарию, Александр «отправился на поклонение к могиле любимого певца». А в Богемии, в годовщину Лейпцигской битвы, собственноручно пахал поле; так же поступал в будущем и граф Лев Николаевич Толстой.
…Сюжет ухода от давящего, обрекающего на неизбывную пожизненную муку царского дела и представление об идеале мирной, тихой частной жизни накладывались друг на друга, сплетались, как средство и цель:
«Вот, дорогой друг, важная тайна… В наших делах господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя… стремится лишь к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления?.. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного поприща (я не могу еще положительно назначить время отречения) поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастие в обществе друзей и в изучении природы».
(Письмо Александра Павловича В. П. Кочубею от 10 мая 1796 года)[48]
Это была не безвольная мечта о воле; это была деятельная утопия безволия, предложенная в ответ на непосильный вызов Революции. То есть – не игра мысли, а твердое, хотя и не до конца продуманное намерение. Ради его воплощения великий князь впервые вышел из слепого повиновения бабке и обогнул воздвигнутое ею препятствие – преждевременное, внеочередное бремя власти.
ГОД 1796.
Август. 13.
В Петербург под именем графа Гааги прибывает наследный принц шведский Густав, встреченный у границы и сопровожденный в Северную столицу Михайлой Кутузовым; цель приезда – обручение с великой княжной Анной Павловной.
Сентябрь. 11.
Не приняв условия брачного контракта, по которому его русская жена сохраняла православие, Густав не является на объявленное обручение.
С Екатериной II случается удар.
16.
Опасаясь близкой кончины, Екатерина предлагает внуку занять престол «вне очереди» еще при ее жизни.
24.
Александр направляет ей письмо с выражением уклончивого согласия; одновременно сближается с Павлом (в письме Аракчееву, отправленном накануне, Павел поименован «Его Императорским Величеством», из чего историк конца XIX столетия генерал Николай Карлович Шильдер предполагает тайную присягу Александра отцу в присутствии Аракчеева. Впрочем, великий князь Николай Михайлович Романов, автор двухтомных материалов к биографии нелюбимого им предка, роскошно изданных в 1912 году, такую возможность начисто отметает).
План Екатерины нашел на встречный план, как находит коса на камень. И – странная вещь, непонятная вещь. Ее твердокаменность была сокрушена его мягкотелостью. Императрица была умна и хитра. Но ей и в голову не могло прийти, что желание обрести блаженное безволие пробудит в наследнике железную волю. Что великий князь, при всей переменчивости характера, проявит неуклонную, пожизненную, как сам крест царской власти, верность однажды поставленной цели. Он еще не понял, что для отказа от власти тоже нужна власть; что никто не позволит ему отречься от престола и променять царство на ферму, пока престол ему не принадлежит; что он в состоянии погубить чужой замысел, но не может осуществить свой.
Если бы понимал – согласился на план Екатерины, на мирный бескровный переворот. Но он – не понимал, а Лагарп – не объяснил. Во-первых, потому, что Закон превыше всего, превыше целесообразности, превыше здравого смысла. Не тот закон, что писан законодателями (с этой точки зрения намерения Екатерины осуждению не подлежат, ибо до Павла никакого юридического установления о престолонаследии не существовало, только петровское правило о престолоназначении; да и Павел, при всем его уме и реформаторских наклонностях, утверждая новую норму, заботился не только о юриспруденции, но и о своей безопасности на случай заговора со стороны Марии Феодоровны). А Закон извечный, незримо разлитый во Вселенной; Закон как таковой; Закон как идея Закона. Отступать от него можно лишь в том случае, если исхищено святейшее из прав человеческих – свобода; здесь же речь о свободе не шла. Во-вторых, осчастливливатель 40 000 000 русского народу, оправдатель германских жертвоприношений не хотел рисковать. И по-человечески это понятно. В-третьих, он должен был беречь себя для своего собственного «проекта», своей собственной постановки на своем собственном политическом театре. И потому невольно содействовал провалу постановки – екатерининской. Последний акт затеянной ею драмы обернулся пятым актом не предусмотренной ею трагедии и столько лет приуготовлявшийся итог оказался полностью противоположен замыслу. (Как говорил в таких случаях Пушкин, какую «штуку удрала» Татьяна: «отказала Онегину и бросила его: этого я от нее никак не ожидал»[49].)
ГОД 1796.
Ноябрь. 5.
Утро.
У Екатерины – апоплексический удар.
В ночь с 6 на 7.
Государыня скончалась.
Принесена присяга Павлу Петровичу.
Александр не успел уйти от бабушки.
Бабушка сама ушла от него.






