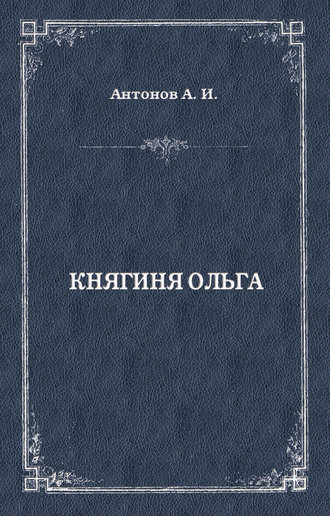
Александр Антонов
Княгиня Ольга
Глава третья
Плач в Киеве
С той минуты, как гонец появился на древлянской дороге и его коня привели на теремной двор, и до того часу, как княгиню Ольгу позвали в гридницу, прошло немало времени. Хотя древляне наказали гонцу передать черную весть княгине Ольге с глазу на глаз, градские старцы сего не допустили. На теремном дворе гонца сняли с седла, распутали руки и отвели в гридницу, где бояре и воеводы потребовали прежде всего им открыть то, с чем он явился. Мудрые мужи сочли своим долгом защитить княгиню от первого удара, надеясь на то, что мужественная женщина легче перенесет горе, услыхав о том от них, ее радетелей.
Но старый воин Улеб понял сие по-своему. Знал он, что гонцов с черной вестью государи нередко убивали. Что ж, такова судьба многих сеунчей. Улеб не боялся смерти, ему, старому воину, многажды приходилось сходиться с нею в битвах. Еще в Древлянской земле он дал слово павшим от рук коварных злочинцев рассказать все в первую голову великой княгине. Ведь он оказался единственным очевидцем всего, что там случилось. Но умирать ему, однако, было нельзя, потому как останутся неотомщенными его младшие братья и многие сродники, кои служили в дружине князя. И вот Улеб стоит перед воеводами и боярами, упрямо замкнув рот. Он все-таки решился явиться перед великой княгиней и все ей поведать. Они же уговаривали его, просили, требовали, угрожали, за грудь хватали – и все с одним: расскажи, что случилось в Древлянской земле.
А в гридницу валом ломились горожанки. Ведь там, в Древлянской земле, вместе с князем Игорем были многие сотни воинов. И теперь их жены, матери, сестры – все скопом взывали к Улебу, дабы он раскрыл роковую тайну.
– Улебушка, сват, аль забыл Маланьюшку, кою просватал за своего племяша киянина. Что с моим голубем Владом? – кричала заплаканная молодайка.
Этот крик словно разбудил Улеба. Он вскинул голову и увидел слезы не только на лице Малании, но и на лицах многих женщин, теперь уже вдов и сирот. И дрогнуло сердце старого воина, подумал он: «Что там горе великой княгини, ежели вдвое горе тем, кто потерял семеюшку, батюшку-кормильца». И торопливо, словно боясь, что не успеет сказать о всем, чему был очевидцем, крикнул:
– Слушайте, сердешные, никому живота не оставили, кто был при князе Игоре на Древлянской земле! Всех порубили злодеи древляне! Всех! Меня лишь пощадили, дабы донес до вас черную весть! Тяжкий жребий я исполнил, теперь же судите меня судьей и приставом. Голову кладу на камень! – И Улеб замолчал, склонил голову на грудь и заплакал.
В гриднице несколько мгновений стояла тишина. И кто-то из бояр успел спросить:
– А батюшка князь, что с ним?
– И он сложил голову, – совсем тихо ответил Улеб.
И гридница взорвалась, загудела, заголосила. Кто-то еще пуще заплакал, кто-то слал древлянам угрозы. Женщины с рыданиями вскидывали руки, рвали на себе волосы. Плакали старики, бывалые воеводы, жестокосердые бояре и даже молодые воины.
Черная весть, словно степной стервятник, вылетела из гридницы и полетела над теремным двором, над улицами и площадями Клева, и вскоре все горожане знали о том, какое горе к ним пришло. И побежали к княжеским теремам сотни новых горожан, дабы убедиться в подлинности прихлынувшей беды. Смятение охватило весь Киев. Знали же многие о том, что несколько дней назад дружина Игоря, ходившая в полюдье на Древлянскую землю, разделилась на две части. Горожанам было ведомо, что большая часть во главе с воеводой Малком ушла за данью к смолянам. И теперь всем горожанам оставалось лишь гадать, чьи мужья, отцы, сыновья и братья ушли с Малком, а кто остался при князе Игоре.
Помня об этом, воевода Посвист попытался успокоить тех, кто толпился, плакал и вопил близ гридницы.
– Утихомирьтесь, жены и матери! Еще никому не ведомо, кто из вас осиротел, кто потерял отца-батюшку, а кто семеюшку! – Голос его звучал мощно, и на княжеском дворе стало тише.
Как только плач и стенания затихли, отроки и гридни вытеснили горожанок из залы, потому как на теремном дворе собрались многие вельможи, которых созвали сеунчи по повелению великой княгини. Им, кто был мудр и умен, надлежало решить судьбу древлян. Им, градским старцам, воеводам, боярам, княжим мужам, было ведомо, в какой раз древляне поднимаются бунтом против великокняжеской власти, против своего законного государя. В палате было шумно, все уже забыли о гонце Улебе, все угрожали злочинцам. Лишь градские старцы помалкивали. Наделенные мудростью и знанием великокняжеской жизни, образом правления державой, они искали первопричину бунта древлян. Им было ведомо, что древляне издавна славились добрым нравом, чтили своих властителей, будь то великие князья всея Руси, или свои, искоростенские. Да была в этом одна странность: бунты древлян венчали начало и конец великокняжеского правления Игоря. Что тому причиной – вот задача, кою должно было разрешить старейшинам Киевской Руси. Наконец-то в гриднице появилась великая княгиня Ольга. Она была бледна, но спокойна и величава. Глаза ее сухо поблескивали. Все, что ей суждено было пережить, еще будет пережито. Теперь же, перед лицом своих подданных, ей надлежало оставаться уравновешенной и любящей матерью своих детей. Умудренные жизнью вельможи только удивились силе воли и выдержке этой загадочной славянки. С высоты княжеского помоста она осмотрела зал, заглянула в лица вельмож и остановила свой взор на Улебе Владиславе, который стоял в окружении княжеских телохранителей.
– Зачем вы его держите? – строго спросила княгиня. Отроки отошли от гонца, и Ольга позвала его: – Улеб, подойди ко мне.
Склонив голову, воин поднялся на помост, опустился на колени и застыл. Ольга же велела ему подняться, тронув за плечо. Он встал.
– Говори все, с чем прислан и чему был очевидцем на Древлянской земле. Имя назови, кто первым руку поднял на князя, на дружину.
– Говорю, матушка княгиня. По воле божьей Перуновой мне не дано было пасть с братьями моими, я был схвачен в дозоре. Связав, да кляп воткнув, повели к стану, где князь и воины почивали. Там шла резня, потом стало тихо. Ко мне подошел князь Мал и сказал: «Отправьте его в Киев. Тебе же, воин, наказываю передать великой княгине, что в наше стадо пришел волк и мы его убили», – с тем князь Мал и ушел. – Улеб склонил голову и замолчал, по измученному лицу его текли слезы.
И княгиня Ольга молчала. Она стала еще бледнее, и глаза ее затуманились от слез. И все, кто был в гриднице, молчали, и многие вельможи прослезились. И никто не осмеливался нарушить тишину. И долго бы молчали киевляне, оплакивая смерть своего князя, да пора было узнать причины его гибели. И Ольга, одолев слабость, повелела:
– Говори все, как ведаешь, с того часу, когда вступили на Древлянскую землю.
Улеб выпрямился, плечами повел, пытаясь расправить их, и тихо начал печальную повесть о гибели князя Игоря и его дружины.
– Как и в прежние годы, мы пришли в Древлянскую землю с миром. Дань, кою платили древляне, взималась по совести. И древляне знали, за что платят дань: их оберегали от набегов кочевых и хищных племен и потому они жили в покое. И на сей раз мы объехали Древлянскую землю и взяли свое по праву, но не больше. Исполнив государево дело, мы вышли на дорогу, ведущую к смолянам. Великий князь Игорь был доволен древлянами и лишнего с них не потребовал. Но в пути по Древлянской земле в дружине возник ропот. Те воины, да больше из варягов, кои в прошлые полюдья ходили с воеводой Свенельдом, сплотились и подступили к великому князю с обидой. И слово сказал варяг Фарлоф-старший. «Ты, великий князь, добр к своим данникам, – начал он, – и берешь с них мехов, узорочья, мечей, седел, меда и воска мало. Потому мы, твои отроки и гридни, босы и наги, потому в обиде и нищете». «Полно, Фарлоф, – ответил князь, – не вижу, чтобы ты был бос и наг: сапоги яловые на тебе, кафтан болгарского сукна. Но что ты хочешь, говори?» – «Зачем упрекаешь меня, князь. Не я один, но все мы хотим быть как воины Свенельда. Они, ходя за данью, богаты оружием и всякою одеждою, они вольно берут у данников все, что им мило. Потому и мы просим тебя, князь, по справедливости быть с нами. Да и себя не обходи». – «Как сие сделать, не знаю», – ответил князь. Фарлоф-старший посмотрел на своего младшего брата и велел ему: «Говори ты. Я же свое сказал».
И перед великим князем выступил Фарлоф-младший, богатырь телом, да злочинец духом.
«Говорю тебе, великий князь, от имени моих соратников: веди нас в Искоростень, и когда мы возьмем все, что нам нужно, и девы древлянские будут наши, тогда мы воздадим тебе честь. Все по справедливости, потому как у нас жизнь коротка…»
– За двумя братьями, за их сродниками стояли еще почти пятьсот воинов, коим речи Фарлофов были милы, – продолжал повесть Улеб. – Все они прежде ходили со Свенельдом за поборами и брали в два, в три раза больше сверх меры. Сетовал великий князь на то и с нами делился досадой. Да не осудил в свое время знатного, но алчного воеводу Свенельда. А на сей раз попытался увещевать жадных варягов. «Ведомо мне, что в Киеве и в других городах и местах у вас, Свенельдовых земляков, много добычи спрятано. Зачем же зариться на чужое без меры? А у кого нечего обуть-одеть, придите ко мне на теремной двор, поделюсь своим. Я стар, и мне мало чего надо».
«Нет, князь, – настаивал Фарлоф-младший, – ты утешь нас ноне, пока от Искоростеня далеко не ушли. Нам не токмо добро нужно, но и утехи ждем. И тебе от того худо не будет».
Улеб помолчал, обдумывая, как вернее сказать. Знал старый воин, что князь устал от походов, от жизни, шел ему шестьдесят девятый год. Потому, считал Улеб, и оказался сговорчив.
– И тогда сказал великий князь Фарлофу-младшему и всем, кто стоял за его спиной: «Идите моим именем и возьмите еще одну дань в прок будущего года». – «Нет, государь, – возразил Фарлоф-старший, – без тебя мы сию дань не получим. Идем с нами. Не вести же тебя». И было далее так: великий князь возвысил голос и сказал дружине: «Все, кто жаждой не мается, идите в другие земли собирать государеву дань. И поведет вас воевода Малк. Иншие останутся со мной, пойдут к древлянам!»
– Как сказал свое великий князь, так дружина раздвоилась и большая часть ушла за Малком. Меньшая же с личной сотней князя повернула на Искоростень. Я не жаждал добра, но остался среди злоумышленников, потому как сердце вещало беду. Мы прошли к Искоростеню через два селения и всюду варяги брали у древлян все, что хотели. Князь Игорь гневался, запрещал вольничать, но жаждущие чужого добра и утехи будто обезумели. Так, очумелой ордой, мы пришли к городу. Были уже сумерки, и Фарлоф-младший потребовал именем великого князя открыть ворота. Древляне отказались пустить воинов в город, велели ждать утра. Варяги же пошли зорить селение близ города, там насильничали, убивали. Сие стало ведомо князю Малу, и поздним вечером в наш стан пришли от князя послы и сказали: «Ты, великий князь, отец наш, потому должен печься о нас, но не разорять. Мы тебе отдали дань сполна. Теперь же у нас в домах только стены остались. Потому просим: уходи в Киев». – «Утром разберемся, – ответил князь Игорь, – а пока идите к себе и готовьте дань за будущий год». – «Слышали, великий князь, сказанное тобой, да не жди от нас добра». С тем они и ушли. А пока добрались до городских ворот, лихие варяги раздели их, оставили лишь в исподнем.
– На другое утро тот же посол, именем боярин Клим, сказал мне, уже скрученному по рукам: «Мы как пришли от корыстолюбивого князя Игоря, все рассказали, стеная, нашему князю Малу. Он же спросил, стоя перед нами, нагими и босыми: «Что делать с волком, коему удалось ворваться в хлев, где стадо овец?» Мы же ему ответили: «Ежели не убьем волка, он все стадо порежет».
– Ночью все было так. Я сидел в дозоре, прячась в яме, смотрел за городскими воротами. Они не открывались. Но сзади ко мне подобрались древлянские воины. Я и крикнуть не успел, как скрутили меня, в рот кляпушку воткнули и унесли к воротам, кои в сей же миг открылись и из них валом повалила древлянская дружина, а впереди шел сам князь Мал. Не успел я и десяти раз вздохнуть-выдохнуть, как в нашем стане началась резня и стоны до меня доносились. Да я ничего из того уже не видел.
Утром же меня привели на место побоища в рощу и все показали. Видел я и могилу, кою копали для великого князя. Всю рощу устилали воины великого князя, а наши кони мирно паслись на лугу.
Голос Улеба прервался, он заплакал, слезы потекли по щекам, по бороде, но он закончил печальную быль.
– Мне сказали: «Теперь ты все видел, поедешь в Киев и там расскажешь великой княгине Ольге, как мы поступили с волками». Древляне спросили меня, где мой конь, но я молил их, дабы они лишили меня живота, я бился, лез на мечи. Они же еще туже скрутили руки, поймали коня, посадили в седло и повели за пределы своей земли. И вот я здесь и все поведал, теперь прошу милости: убейте меня! Убейте же! И положите на жертвенный огонь! – И Улеб упал на колени.
О нем, однако, сей же миг забыли. Но позже все-таки вспомнят и наградят тем, что просил.
Все взоры были обращены на великую княгиню. Она не плакала, но была похожа на рыбу, кою вытащили из воды и оглушили. Все, что окружало ее, слилось в огромную серую пелену, лишь в середине которой светились два ярких пятна – глаза ее мужа, великого князя Игоря, чистые и теплые, как просини в небе в зените лета. Она стояла и покачивалась из стороны в сторону. А в гриднице зашумели, заговорили все разом, воины хватались за оружие, грозили древлянам сровнять их жилища с землей, уничтожить все племя под корень.
Княгиня Ольга ничего этого не видела, не слышала гула голосов. Оставаясь в оглушенном состоянии, она оперлась на руку боярыни Павлы и покинула гридницу. На теремном дворе княгиню ожидало новое потрясение: плакали по убиенным сотни россиянок. Им вторили тысячи других, заполонивших площадь перед княжескими теремами. Отовсюду до Ольги долетали крики: «Горе нам, горе! Где наши семеюшки, где батюшки, где братья? Горе нам, горе!» Слышались и мужские голоса, они были надрывны и устрашающи: «Крови! Крови! Руды!!»
Княгиня Ольга не находила слов что-либо ответить киевлянам. И она медленно двинулась к красному крыльцу палат. Но не успела дойти до него, как к ней подошел верховный жрец Богомил – лет сорока, с сухим и гордым лицом, с черными колючими глазами и носом, подобным клюву хищной птицы. Он тронул Ольгу за руку и в силу привычки властным голосом сказал:
– Перунов раб и твой слуга, великая княгиня, зовет тебя на Священный холм. Идем же, дочь моя, и ты очистишься от печали, наполнишься силой мщения. – Княгиня Ольга в сомнении остановилась, но жесткий голос жреца заставил ее одолеть слабость: – Не гневи мироправителя, супруга убиенного, иди за мной!
Ольга лишь молча кивнула головой и пошла следом за Богомилом. Ее сопровождали Павла и несколько гридней-телохранителей. А следом двинулась толпа киевлянок. Богомил приостановился и, придерживая княгиню за локоть, о чем-то тихо заговорил. Ольга отвечала лишь изредка. Их беседу заглушали крики горожан: «Смерть древлянам! Руды! Руды!»
На Священном холме жажда крови зародилась и в великой княгине. Ольга сразу и не поняла, что такое в груди у нее загорелось. Но сильный ветер с Древлянской земли, оттуда, где убили ее супруга, отрезвил ее, она учуяла запах крови, и в ней пробудилось нечто нечеловеческое. На Священном холме к приходу Ольги зарезали быка, она даже услышала его предсмертные рев и стоны. Пылал огромный костер, и жрецы разрубали быка на части и бросали их на огонь. Запахло горелым мясом. Княгиня Ольга увидела, как жрецы исполняют жертвенный обряд, и сама невольно включилась в него. Пламя в груди Ольги разгоралось все сильнее, казалось, оно слилось с жертвенным огнем, и княгиня дала волю бушующей страсти, повелела Богомилу привести на жадный огонь жертву ее именем. Это повеление Богомил передал молодым жрецам, и они, ретивые исполнители Богомилова слова, бросили жребий, кому из русичей войти в Перуново капище и там сложить свою голову на жертвенном камне. Жребий пал на Улеба. Да по-иному и быть не могло, потому как верховный жрец еще в гриднице во время исповеди отметил его особым знаком и сказал о том своему услужителю.
Близко к полуночи в избу Улеба на Подоле пришли четверо сильных, словно воины, жрецов. Улеб сидел у опустевшего жбана с медовухой и остался равнодушным к тому, что его подняли из-за стола, накинули кафтан и увели на Священный холм. Следом за ним, покорно, как и должно поступить истинной язычнице, покинула избу жена Улеба, Харита. В полночь же, в присутствии княгини Ольги, которая лишь сказала старому воину: «Ты прости меня, Улеб, тому должно так быть», – его и Хариту умертвили сыромятными удавками, положили на жертвенный камень и пустили кинжалами на пламя жертвенную кровь.
Перун, освещенный красным пламенем, не проявил никаких признаков торжества или благодарности за принесенные ему жертвы. Княгиня-язычница поняла недовольство своего бога. Ему нужны были новые и обильные приношения. Ольга холодно и без душевного волнения подумала: «Мой бог, я устелю дорогу к тебе телами моих врагов». С тем и покинула Священный холм.
Глава четвертая
Отец Григорий
Недоволен оставался малым приношением Перуну и верховный жрец. Покинув капище с горящими на жертвеннике телами Улеба и Хариты, Богомил в сопровождении трех жрецов спустился на площадь к княжеским теремам. Там было еще людно. Язычники призывали к отмщению и проводили княгиню Ольгу от холма до княжеских теремов с криками: «Крови! Крови!» Она миновала горожан молча. Но появившийся в обезумевшей толпе Богомил нашел то, что искал, и подлил масла в пылающий костер:
– Дети Перуна, бога земли и небес! Он гневается на вас. Вы дали волю назареям, христовым скотам! Идите и снимите с них овечьи шкуры, приведите на жертвенный огонь! И вы увидите, что сие есть волки, а не овцы. Их происками и молитвами погибли ваши отцы, мужья и братья!
Богомил знал, что какую бы расправу ни учинил нынешней ночью народ над христианами, она не будет поставлена ему в вину. И призыв верховного жреца пал на благодатную почву. Жажда мщения прорастала стремительно. Богомил вновь возвысил голос:
– Идите в жилища назареев, властвуйте в них именем бога Перуна! Лишайте живота всех, кого схватите!
И толпа с криками повалила в христианский квартал, в коем в эту ночь никто не спал. Христиане предчувствовали, что гнев и жажда мщения обрушатся в первую голову на них, и пребывали в страхе, помня разгул язычников, допущенный волею князя Олега. Тогда идоляне разрушили их храмы и беспощадно убили множество детей Христа, не щадя ни малых, ни старых.
Бог зла еще не докатил язычников до Соборной площади, близ которой жили христиане – варяги и славяне, но там уже возникла паника и все, кто мог бежать, спешили покинуть свои жилища, унести детей. Бежали все: женщины и мужчины, отроки и отроковицы. В домах оставались лишь немощные старики и старухи. Но среди христиан, не способных защитить себя и ближних, нашелся мужественный сын Божий. То был священник церкви Святого Илии отец Григорий.
Он появился в Киеве год назад, пришел из Царьграда вместе с греческими послами. А когда те посетили храм Святого Илии, Григорий отошел от них, встал рядом с протоиереем Михаилом, да так и остался в соборной церкви. Протоиерей Михаил, родом грек, знал Григория по Византии. Там они вместе служили в монастыре Святой Мамы. Отец Михаил высоко ценил священнослужителя из россов, знал, что он книжен, что истинный христианин и тверд в вере. Протоиерей Михаил, отслуживший в Киеве уже несколько лет, был рад появлению Григория. И год их совместной службы лишь укрепил душевные чувства отца Михаила. И теперь, когда пришел час испытаний, старый и немощный протоиерей возлагал все надежды на спасение от приближающейся к ним беды на священника Григория.
Вооружившись крестом и посохом из древа Святого Павла, Григорий в эту ночь стерег храм. И в окружении трех послушников и нескольких старцев не покидал паперти собора уже несколько часов. Когда же в храм стали сбегаться верующие, он распахнул пред ними врата их последнего убежища. И лишь только на площади перед храмом появилась толпа разъяренных язычников, он поднял над головой крест и двинулся навстречу толпе. Он шел и читал молитву:
– Да воскреснет Бог Иисус Христос, и расточатся враги Его. Яко исчезает дым да исчезнут; яко тает воск от лица огня… Таки да погибнут от лица Любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем…
Григорий шел медленно, но твердо. Толпа язычников остановилась, замерла – ни криков, ни шорохов, ярость на лицах угасла. На них шел всего один человек, но, как показалось язычникам, наделенный силой всей их толпы. Над человеком в черном одеянии сиял неопалимый свет. Но язычников он опалил, они ослепли и, закрыв руками глаза, попятились, повергнутые в ужас.
А священник Григорий все шел и шел, за его спиной уже лежала пустынная площадь, посох его стучал о землю все сильнее, крест вознесся еще выше, сияние озарило всю улицу впереди и площадь за спиною Григория.
– Господи, огради меня силою Честного и Животворящего Твоего креста и сохрани меня от всякого зла, – продолжал Григорий читать молитву, преследуя идолян.
И толпа рассеялась по улицам и переулкам, ночь помогла язычникам спрятаться по амбарам и поветям. А перед отцом Григорием остался лишь один Перунов служитель, верховный жрец Богомил. Силою духа он не уступал Григорию, твердостью характера даже превосходил. Черные глаза его метали молнии. И они поражали тех, в кого Богомил целился. Сошлись две силы, но одна из них служила злу и вела позорных язычников убивать невинных, разорять их жилища, предавать огню все, что можно было сжечь, другая же сила несла добро и призывала людей к милосердию, к любви ближнего.
– Матерь Богородица, помилуй меня, грешного, в добродетели укрепи и соблюди меня, да никакая смерть не похитит меня неготового… – вознес молитву Григорий громче прежнего и положил крестное знамение на Богомила.
Тот же не выдержал сего удара и дрогнул, и закрыл лицо широким рукавом багряного плаща, и попятился, истомно взывая к своему идолу:
– Бог мой, Перун, порази молнией и громом отступника веры отцов! – Но Перун не внял мольбе Богомила, и тот, повернувшись, скрылся в темной улице.
На площади перед храмом воцарилась тишина, лишь старцы на паперти шуршали словами молитвы да славили святого отца Григория, крестом и посохом отразившего врагов христиан.
– Полно, полно вам, старцы, похвала во вред православному христианину, – остановил их священник Григорий и добавил: – Несите бдение с помощью Господа Бога, я же помолюсь с паствою. – Но в ризнице силы покинули его. Опустившись в греческое кресло, Григорий откинул голову на высокую спинку и закрыл глаза. Он сидел неподвижно и, казалось, уснул. Но нет, сон не шел к нему, хотя он и жаждал его. В тысячный раз, может быть, Григорий окунулся в прошлое, ворошил сено сорокалетней давности, да все не удавалось доворошить до конца и предать сей труд забвению.
В ту далекую пору, на заре десятого века, он, семнадцатилетний юноша, заболел любовью к соседке, десятилетней княжне Прекрасе. А точнее сказать, болезнь пристала к нему много раньше. И первое удивление своим горячим чувствам к прекрасной девочке он испытал, когда Прекрасе было пять лет. Жили они рядом в центре Изборска, и окна его дома, где он жил с родителями, смотрели на княжеские палаты, где росла будущая великая княгиня Ольга. В пятилетнем ребенке Егор распознал все, чему потом будут дивиться зрелые мужи, хотя бы раз увидевшие княжну, княгиню, славянку Прекрасу. Григорий никогда не пытался описать ее облик. У него не хватало слов выразить, какие у нее были глаза, то ласковые, то лукавые, то сердитые и даже гневные, но всегда прекрасные. Он не знал, с чем сравнить стать отроковицы, а позже – девы. В золотую косу Прекраса могла закутаться, как в беличью полость. И умна, рассудительна она была не по годам, озорна и игрива. Да книжна. Могла просиживать за берестяными грамотами целыми днями. До восьмилетнего возраста Прекрасы Егор часто встречался с нею, случалось, играли вместе на площади перед палатами. И вдруг отец строго-настрого запретил ему даже подходить к Прекрасе. Вскоре же князь Избор вовсе увез ее из города, спрятал в деревне. И случилось сие вслед за появлением из Киева великого князя Олега. Узнал Егор в те дни, что отроковица Прекраса наречена в невесты сыну князя Рюрика Игорю. И чтобы сберечь ее от сглазу, от какого-либо девичьего урона, ее отвезли в деревню Выдубцы под присмотр двух сестер князя Игоря и стражей у ворот дома. Сестры Игоря держали невесту в затворничестве и строгости.
Прекраса, однако, была вольнолюбива, властна и отчаянна. Она то обманывала хитростью своих домоправительниц и нянек, то открыто с лихостью покидала подворье и гуляла с деревенскими отроковицами по окрестностям деревни, где ей вздумается.
Егор в ту пору проводил лето в деревне Хвосты, отписанной еще князем Рюриком посаднику Глебу, отцу Егора. И потому он изредка осмеливался нарушать наказ отца, встречался с Прекрасой в Выдубцах. И в одну из таких встреч он истинно утвердился, что Прекраса – не его судьба. Десятилетняя отроковица сказала ему, как зрелая и мудрая женщина:
– Егорша, тщетна твоя потуга: сгоришь, но не возьмешь того, чего желаешь. Потому не ищи меня более. Суждено мне быть женою князя Игоря.
– Но ты его не ведаешь, – возразил Егор, – может, он на упыря болотного похож. Я же пред тобой.
– Ты пригож и ведом мне нравом мягким, да судьбу не обойдешь, не объедешь. Потому прощай и не казнись по мне. – Лицо ее в сей миг было холодно и печально.
Егор в то мгновение понял, что Прекраса из тех птиц, кои царят в поднебесье. Он ушел из Выдубцов, стеная в душе и еще не ведая, что сердечная рана его так и не зарубцуется до исхода жизни.
А ближе к осени в Выдубцах появились князья Олег и Игорь и увезли Прекрасу в Киев.
В те же дни покинул Изборск и Егор. Он подрядился гребцом на караван судов, который возвращался из Пскова в Херсонес. В Киеве караван пристал к берегу и простоял сутки. Егор порывался сбегать на княжеский теремной двор в надежде хоть одним глазом увидеть Прекрасу. Но сдержался и просидел все сутки на корме греческой скедии. А через сутки быстрая днепровская вода понесла скедию в низовья Днепра, и с нею на сорок лет уплыл из родной земли сын изборского посадника Егор.
В Херсонесе, куда вернулись греческие скедии, Егор не задержался. Он узнал, что близ селения Инкерман есть мужской монастырь, и ушел туда. Там его крестили в христианскую веру и нарекли имя Григорий, он стал послушником. Он провел в Инкерманском монастыре несколько лет, изучил греческий язык и грамоту. Не приняв монашеского сана, он однажды уплыл в Царьград. Там поселился в посаде, близ монастыря Святой Мамы, где останавливались купцы-русичи, когда прибывали в Царьград с товарами. Монастырь располагался между городской стеной и проливом Боспор. В монастыре была церковь, и Григорий почти каждый день ходил в сей храм на церковные службы и был замечен священником Михаилом. И однажды отец Михаил позвал Григория в ризницкую и там спросил:
– Сын мой, нет ли у тебя желания послужить православной вере?
– Вельми большое желание есть, – ответил Григорий.
– Тогда приходи завтра к обедне. Я уготовлю тебе место в храме. Вижу в тебе истинного христианина, – сказал отец Михаил.
В ту пору в Византии при императоре Леоне служили семьсот Олеговых воинов. Они стояли близ монастыря Святой Мамы. Многие из них были крещены в христианскую веру. Возвращаясь из походов, они шли помолиться в храм, где теперь служил Григорий. И ему было отрадно знать, что на чужой земле он не одинок. С некоторыми из них Григорий познакомился, сдружился. Но мирное и благостное течение жизни вскоре оборвалось. Для Григория наступила тягостная, полная тернистых испытаний и рабского труда жизнь. Причиной тому оказалось вторжение в Византию русской рати, кою привел великий князь Олег. Разгул язычников Олега, как сие увидел сам Григорий, был безобразен. Они сжигали жилища, разоряли храмы, монастыри, бросали женщин с детьми в море, пленных греческих воинов расстреливали из луков или прибивали гвоздями к деревьям. Повелением Олега все воины, кои служили императору Леону, призывались вернуться на Русь, а поначалу должны были послужить в дружине и участвовать в битвах против войска Византии. Но гвардейцы императора перехватили сеунча Олега, и все воины-россы были схвачены, обезоружены и отправлены в глубь страны на каторжные работы. Григорий тоже был арестован. Его обвинили во враждебных замыслах против империи и как Олегова лазутчика сослали в каменоломни. Шесть долгих лет провел на каторжных работах Григорий, добывая для императорского двора мрамор. Освобождение пришло по воле нового императора. В Константинополе волею императора Романа собиралось большое посольство на Русь. Туда же выезжали многие священнослужители проповедовать христианство. И священник церкви Святой Мамы Михаил дерзнул обратиться к патриарху, дабы тот освободил ревностного христианина из россов. Григория вернули в церковь Святой Мамы и поручили перевод священной книги на язык россов.
Григорий, движимый вдохновением, трудился денно и нощно и успел сделать перевод Православного Молитвослова и несколько списков с него ко дню отплытия на Русь греческих послов. После сего Григория посадили за перевод Евангелия, и он трудился над ним около трех лет. Позже, когда Григорий вернулся на родную землю, он привез свой рукотворный труд, второй список Евангелия, на родную землю.
С годами жизнь Григория в Византии становилась все более умиротворенной. Может быть, он там и закончил бы свой бренный путь. Но в Царьград суждено было прибыть великой княгине Ольге с посольством. Когда он услышал о том, что суда княгини Ольги вошли в Золотую бухту, то испытал ни с чем не сравнимую радость и волнение. Уведомив протоиерея Николая, занявшего место уехавшего на Русь протоиерея Михаила, Григорий ушел в гавань в надежде увидеть там великую княгиню, когда она на третий день пребывания в гавани сошла с судна и отправилась в императорский дворец, в посольский особняк. Григорий смотрел на нее издали, не осмеливаясь открыть своего лица. Она показалась ему прежней прелестной Прекрасой, но еще более величественной. С этого часу Григорий заболел тоской по родине, и все помыслы его были об одном: как вернуться на отчую землю. И когда через год после пребывания княгини Ольги в Царьграде на Русь собиралось большое посольство, а с ним отправлялись многие священнослужители-миссионеры, отец Григорий дерзнул обратиться к патриарху и испросил его позволения войти в число миссионеров. В ту пору высшее духовенство Византии прилагало много усилий для того, чтобы христианство стало на Руси государственной религией.






