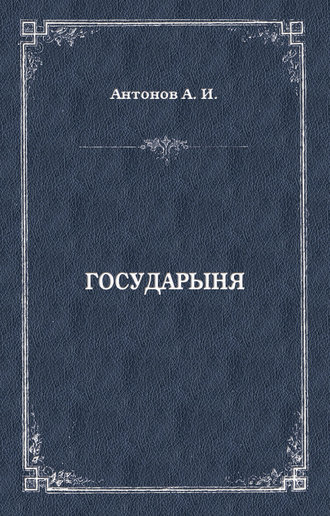
Александр Антонов
Государыня
Конечно, митрополит Симеон знал и обратные примеры. У королей и королевичей польской династии Пястов были жены-россиянки, которые принимали католичество. Мария Святополковна, жена Болеслава Кривоустого, приняла католическую веру, но осталась истинной россиянкой. Связи с Русью, которыми муж Марии пользовался благодаря ей, были так прочны, что на Руси Болеслава считали русским князем. Но об этом митрополит Симеон не рассказывал княжне Елене, остерегаясь дополнить сумятицу, царящую в душе будущей великой княгини Литовского княжества.
И пришел день, когда святые отцы добились своего. Елена дала на исповеди слово митрополиту Симеону, что, как бы ни сложилась ее судьба в Литве, она исполнит волю государя всея Руси и останется в греческом законе до исхода дней своих. Труднее было привыкнуть к наказу отца: «И хоти будет тебе, дочка, про то и до крови пострадати, и ты бы пострадала, а того бы еси не учинила». Однако и с этим она смирилась и приняла его как должное.
– Я ко всему готова, батюшка. Ты и святые отцы укрепили мой дух. Я ничем не огорчу тебя, родимый, – молвила Елена отцу во время их последней беседы.
Приблизился день расставания с родной землей. Что-то подсказывало Елене, что она разлучается со всем окружающим ее с детства навеки. В стольном граде готовились к празднику Крещения Господня, а Елена в эти дни думала уже о своих последних светлых днях в Москве. Она видела себя в святочные дни на Москве-реке, на Неглинке, где резвилась вместе с потешными, она каталась с гор с сестрами и братьями, советовала им, как позадорнее устроить игрища. Вскоре, однако, все задуманное порушилось. На второй день Крещения, в самый разгар праздника, под несмолкаемые звоны колоколов в Москве появилось великое посольство литовское. Прибыли три пана-наместника: виленский, полоцкий, бреславльский, – с ними некий лях с Волыни, Георгий, и два брата-половчанина – Корсаковичи. Главой над ними, как и в прежние годы, был Ян Заберезинский. В тот же день послы пришли в кремлевские палаты бить челом государю всея Руси Ивану Васильевичу, дабы получить от него благословение увезти невесту Александра в Вильно.
Иван Васильевич не был расположен к спешке, тем более в торжественные дни празднования Крещения Господня.
– Некстати они явились. Свое Рождество отгуляли, а на Русь прикатили под ногами мешаться в светлый праздник, – сказал сердито государь боярину Василию Патрикееву.
– А ты, батюшка, заставь их помолиться в наших соборах и по православному обычаю. То-то будет им что вспомнить о православии.
– И ты думаешь, что они исполнят нашу волю? – с хитринкой посмотрел на боярина государь.
– Как могут отказаться! За милую душу помолятся, – улыбнувшись, ответил Василий Патрикеев.
И государю захотелось повеличаться, показать послам великолепие русских церковных торжеств, ненароком заставить-таки их помолиться. Бог един, счел государь, и урона чести послам не будет, как почувствуют благость обрядов, сами потянутся к православию. Не сомневаясь в своей правоте, Иван Васильевич поручил Василию Патрикееву от его имени пригласить послов на богослужение в Успенский собор. Вначале они запротестовали: дескать, это нарушение канонов католичеств, – но боярин был человеком себе на уме и нашел лазейку к душам послов. Он сказал Яну Заберезинскому:
– Как побываете в главном соборе державы, отстоите службу да помолитесь, так от церкви и от государя-батюшки ждут вас богатые дары. Так уж заведено на Руси, – прибавил для красного словца боярин.
Как уговаривал Ян Заберезинский послов, Василий Патрикеев не ведал, но на другое утро они пришли в Успенский собор в полном сборе, отстояли службу молча и зачарованно. Да и было отчего: послов поразила торжественность богослужения, великолепие храмового убранства и единение душ прихожан и священнослужителей. Пел и молился в храме русский народ.
По мнению Ивана Васильевича, Святое Богоявление, Крещение Господа Бога, не только вносило в души православных христиан благолепие, но и возносило их дух. Сам государь не стыдился слез и плакал от умиления, когда на утрене волшебный хор Успенского собора пел: «Величаем Тя, живодавче Христе, нас ради ноне плотью крестившегося от Иоанна в водах иорданских». В торжественном пении великий князь слышал и глас Иоанна Предтечи. Он звучал ясно, слова словно сходили с губ у самого уха государя: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем; я не знал Его, но Пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым”; и я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий».
К удивлению своему, все это слышала и княжна Елена. Она не знала, кто сказал ей: «Бог Отец свидетельствовал, возглашая: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение”», – но всему сказанному Елена поверила. На сердце у нее стало благодатно, спокойно, она была готова к любым жизненным невзгодам и испытаниям. «Господь Бог страдал, и я пострадаю», – промолвила она в душе и принялась истово молиться.
Миновал день после празднества Богоявления, и Иван Васильевич назначил литовским послам час торжественного приема. Были приглашены многие вельможи. Собрались на прием людно. В Столовой палате было тесно. Ян Заберезинский вручил государю всея Руси верительную грамоту и произнес краткую речь, в которой изложил просьбу великого князя Литвы Александра отпустить его невесту в Вильно.
– А вот выкуп тебе, великий государь, и твоим близким, – заявил Заберезинский и распорядился внести в палату дары.
Тут были алые и голубые ганзейские сукна, меч и броня со щитом из Ливонского ордена, добытые литовцами в сечах, разные ларцы красного и черного дерева из Палестины.
Иван Васильевич принял дары благосклонно, лишь при виде последних двух даров помрачнел лицом и даже отступил от них, словно боялся оскверниться. А Заберезинский, который преподнес дары, смотрел на них с завистью. Многое отдал бы он, чтобы завладеть ими. Он держал в руках портрет Папы Римского Александра VI и католическое Евангелие в золотой оправе по бордовой коже переплета. Великий князь, однако, погасил в себе раздражение, но не поблагодарил посла и строго спросил:
– Зачем привез в мою державу неугодное мне и нашей православной церкви?
Заберезинский не растерялся, у него был приготовлен ответ:
– Великий государь всея Руси, мы выполнили твою просьбу и с честью отстояли две службы в вашем соборе. Уважь и ты нашу веру. Когда уезжали в Москву, прибыл в Вильно папский легат. Он и передал нам эти дары для тебя от понтифика вселенской церкви Папы Римского Александра. Было сказано при том Папой, что он высоко чтит царя русов и твою супругу Софью Фоминишну, которую он знал девочкой. Он желает вам здравия и надеется на ваше благорасположение.
– Хорошо сказано главою Римской церкви. Я принимаю дары и пошлю ему свои при первой же оказии.
Иван Васильевич прикоснулся к портрету и посветлел лицом, когда увидел, с каким искусством исполнен образ понтифика западной церкви. Великому князю было трудно отвести взор от живых, умных и проницательных карих глаз, от лица, выражающего благородство.
– Иконописен, – тихо молвил Иван Васильевич и спросил: – Какой муж писал сей лик?
– Сказано было, что портрет написан мастером Леонардо да Винчи. Сам Папа Римский испанец из графского рода Борджиа, Родриго де Борха из Хатины, что близ Валенсии. Он достоин кисти великого художника, каким чтут в Риме Леонардо да Винчи.
Государь слышал о великом мастере от Софьи Фоминишны и не счел нужным отказаться от дара, исполненного рукой волшебника. Иван Васильевич высоко ценил итальянских архитекторов, ваятелей, художников. Многие из них до сих пор работали при его дворе. Великий князь свято хранил память о покойном Аристотеле Фиораванти, воздвигнувшем Успенский собор. Он посмотрел на своих бояр, увидел уже постаревшего Семена Толбузина, который дважды ходил в Италию за мастерами высоких ремесел, и позвал его:
– Тебе, Семен, лучше знать, куда поместить сей дар. Распорядись да покажешь потом.
– Исполню, государь-батюшка. А место ему и Евангелию, по моему разумению, в Грановитой палате, – с поклоном произнес боярин.
Осмотрев еще раз дары литовцев, государь спросил Заберезинского:
– Чем я могу одарить моего зятя Александра за эти дары?
Ян поклонился, но сразу не ответил, повернулся лицом к своим спутникам. Они тихо о чем-то поговорили, и от имени послов Заберезинский сказал:
– Дары эти требуют единственно великой приязни государя всея Руси к литовскому князю.
«Никак не ожидал этого», – подумал Иван Васильевич и спросил:
– Какой приязни? Говори без загадок.
– Наш великий князь просит твою царскую милость быть ему вторым отцом, – ответил Ян Заберезинский.
«Не много ли чести?» – мелькнуло у государя, и он воздержался от какого-либо обещания.
– То дело оставим до утра, а теперь прошу веселиться в палатах наших.
С этими словами Иван Васильевич встал с трона и, поручив Семену Ряполовскому угощение и развлечение послов, удалился с Софьей Фоминишной и Еленой в свои покои.
На следующий день, прежде чем завершить свадебный сговор, Иван Васильевич велел боярину Василию Патрикееву вновь пригласить литовских послов в храм, а когда они пришли в согласие, повел их в Благовещенский собор на обедню. «Вот вы мне Евангелие и лик своего святителя, а я вам мое любимое детище и благолепие Божественной литургии, – посмеиваясь в душе, думал государь. – Да, может, и отпадете от своей веры, коль души вам пронзит православное слово».
Как и в первый раз, паны стояли в храме чинно и ничем не нарушали торжественный обряд богослужения, но не крестились и лишь все до единого любовались новым русским храмом, его убранством. Там же, в соборе, после литургии, Иван Васильевич сказал послам:
– Видели вы воочию благолепие нашего радения Господу Богу. Потому передайте зятю нашему Александру, дабы построил при своем дворце православную церковь для великой княгини, и тогда быть ему моим названым сыном. Серебра и злата на воздвижение храма я не пожалею и мастеров своих пришлю.
Послы переглянулись и дружно промолчали. Направляясь к выходу из храма, Ян Заберезинский подумал: «Не отдаст из православия великий князь свою дочь. Что делать?» – и уже на паперти коротко поговорил со своими послами. Те сказали, что надо согласиться с Иваном Васильевичем. Когда он вышел из собора, за всех ответил маршалок Станислав Глебович:
– Мы в согласии с тобой, государь всея Руси. Мы поможем великому князю Александру построить храм и своего капитала вложим на его возведение и благоустройство.
– Спасибо, панове послы. Вы разумны, как я и ожидал, – ответил Иван Васильевич и повел свое большое семейство во дворец.
В тот же день в царских палатах был большой званый обед, и на нем дьяк Федор Курицын по поручению государя объявил о дне отъезда из Москвы княжны Елены в Вильно. Еще он пояснил послам, каким должен быть чин венчания молодых:
– Желательно государю всея Руси, чтобы великого князя литовского венчал епископ.
– То в законе нашей веры, и будет он венчан в католическом храме, – ответил Ян Заберезинский.
– А великую княгиню должен венчать владыка Смоленский Иосиф в православном храме, – продолжал Федор.
У Заберезинского и на это был готов ответ.
– Он уйдет в Вильно из Смоленска вместе с невестой. А в Вильно с великим нетерпением ждет невесту жених, лик которого мне велено нынче передать вам. – Заберезинский обратился к гетману Ляху: – Пан Георгий, подай-ка мне портрет.
Пан подал завернутый в полотно портрет великого князя. Заберезинский развернул его и преподнес Ивану Васильевичу.
– Ты, государь всея Руси, желал видеть лик своего зятя. Вот он, полюбуйся.
Иван Васильевич принял портрет с некоторым волнением. Александр был нарисован весьма красивым: лицо белое, щеки румяные, глаза темно-серые, усы лихие. И хотя это лицо показалось государю лубочным и ничего не говорящим о натуре, он сказал Софье Фоминишне:
– Настоящий литовский король. Что ж, сей лик останется в наших покоях. А тебе, дочь моя, – обратился он к Елене, – пусть живой Александр на всю жизнь милым другом будет. Благословляю тебя.
Послы ударили челом и по очереди поцеловали руку у родителей невесты. Сюрприз с портретом внес некую задушевную струю в торжество и пришелся по душе многим русским вельможам.
– Ишь как славно послы к нам подъехали, – произнес боярин Василий Патрикеев.
Час отъезда Елены был назначен через два дня и приходился на вторник 13 января 1495 года. Начались великие хлопоты-сборы. А в день проводов хозяева и гости встали задолго до рассвета. В Успенском соборе отстояли молебен. По окончании службы великий князь и вся его семья вышли на паперть. А когда архиереи и послы собрались рядом, Иван Васильевич, окинув взором людское море на Соборной площади, торжественно повторил свою прежнюю речь послам. Свидетелями этой речи стали все москвитяне, и они теперь знали о ходе переговоров во время сватовства. Сказал государь горожанам и о том месте великой княгини в Литве, какое она должна занять. В конце он с грустью добавил:
– Ей там будет трудно, вельми трудно: остается она православной среди латинян. Сами посудите, каково ей, дети мои, будет стоять в греческом законе. Помните о том, молитесь за дщерь Иоаннову. И я с вами молиться буду.
Торжественность проводов, речь батюшки, государя всея Руси, доброжелательные лица горожан – все это откладывалось в груди и в памяти княжны и, как после скажет Елена, оставило неугасимый свет в душе. Она удивилась, как умел влиять ее отец на умы и чувства людей. Завершив слово, Иван Васильевич вручил дочери список своей речи, который так и не понадобился ему:
– Возьми и храни, ибо сие когда-нибудь сослужит тебе.
Елена приняла список и поцеловала руку отца. И он ее поцеловал. Потом княжна обняла мать, и они долго стояли, прижавшись друг к другу. Пришла очередь проститься с братьями и сестрами, к которым Елена питала нежные чувства. Она поклонилась москвитянам и всем кремлевским святыням. И вот уже отец с матерью повели ее к просторной тапкане. На глаза Елены навернулись слезы, и, чтобы не разрыдаться, она поспешила скрыться в экипаже, где ее ждали жены главных русских послов: мамка-княгиня Мария Ряполовская, женщина лет сорока, румянолицая и улыбчатая, боярыня Ефросинья Скуратова, боярская дочь, ровесница Елены Анна Русалка и неизменная спутница отрочества и юности боярская дочь Палаша.
Утерев слезы, Елена выглянула из тапканы и была ошеломлена тем, что перед нею возникло. Она увидела довольного отца, довольных братьев и сестер. Это поразило Елену и больно укололо в сердце. Лишь единственный близкий человек разделял с Еленой печаль разлуки. Это была ее мать, Софья Фоминишна. Она рыдала, повергнутая в неподдельное горе. Ее пытались успокоить, но она отворачивалась от доброжелателей и готова была бежать за тапканой. Провожая дочь, не вспомнила ли Софья Фоминишна свой отъезд из Италии? Но как различны были их судьбы! Мать уезжала от тяжелой римской опеки в православную, единоверную державу, дочь из благочестивого православия – в католическую страну.
В последние мгновения отъезда Елены какая-то неведомая сила повлекла Софью Фоминишну следом за дочерью. Но где ей, отяжелевшей от горя, было успеть за быстрой тапканой! К ней подбежали боярыни, попытались остановить ее, она гневно крикнула на них: «Прочь с дороги!» – и продолжала бежать. Кто-то распорядился подать великой княгине возок. Ее усадили в него, возница ударил коня, и тот помчался следом за поездом княжны Елены. А за возком побежали дочери и сыновья великой княгини, только княжич Василий остался близ отца.
Обряд проводов был нарушен. Иван Васильевич, наблюдая все это, вознегодовал и винил себя за то, что все получилось как-то не по-людски. Он вернулся в храм и велел епископу продолжать молебен. Досада Ивана Васильевича не угасала, она усилилась, когда боярин Василий Патрикеев доложил ему, что Софья Фоминишна догнала тапкану Елены, пересела в нее и повелела дочери остановиться в слободе Дорогомилово. Вместе с Еленой были остановлены послы и все, кто сопровождал княжну, лишь обоз с дворней и тысяча воинов ушли вперед, на Кунцево. Выслушав боярина, великий князь в сердцах и с болью крикнул:
– Господи, что за блажь одурманила государыню!
Софья Фоминишна задержала дочь в слободе на два дня и две ночи и просила у нее за это прощения.
– Ты уж не казни меня, родимая. По живому от сердца тебя отрываю. Никогда не думала, что так опалит мою душу разлука с тобой.
– Матушка, не казнись, мы поплачем вместе над моей тяжкой долей, – пыталась утешить Елена мать.
Великая княгиня дала-таки волю слезам и горю, а еще тому, что не смогла высказать в кремлевских палатах. За два дня мать и дочь наговорились вволю, и им стало легче.
– Эти два дня, матушка, я никогда не забуду. Ты мне столько радости подарила!
А на исходе второго дня в Дорогомилово примчал великий князь. Он долго корил Софью Фоминишну за проволочку, а Елену вновь увещевал и давал наказ стоять за православную веру.
– Тебе не должно погасить мои надежды на одоление литвинов в нашем многолетнем споре. И помни, что от твоего радения за Русь мы будем прирастать исконными нашими землями, – сказал он дочери на прощание.
– Я постараюсь, батюшка, я постараюсь, – твердила Елена.
В эти часы, проведенные с отцом, Елена почувствовала, как ее нежные чувства к нему угасают, потому как он упорно добивался того, чтобы ее жизнь на чужбине превратилась в сплошное борение с недругами, в чей стан посылал ее родитель. Душа подсказывала ей, что она прощается с отцом навсегда. Но приняла Елена это предчувствие как-то отрешенно и спокойно, не предугадывая последствий.
Морозным и тихим, еще сумеречным утром Елена распрощалась с родителями и покинула Дорогомилово. На душе у нее было черно и пусто.
Глава девятая
Дерзкий Илья
Князь Илья Ромодановский после спасения княжны Елены редко появлялся не только в государевых палатах, но и в Кремле. Казалось бы, и повода к тому не было – не показываться среди придворных вельмож, да Иван Васильевич винил-таки его за службу во время пожара. Дал Илья промашку и позволил татям похитить великокняжескую дочь. Но позже государь простил его и даже наградил званием окольничего, однако от службы при дворе молодого князя освободил. Илья днями не покидал отцовского подворья, что стояло в конце улицы Варварки. В летнюю пору он часами просиживал на берегу Москвы-реки, смотрел, как текут ее светлые струи, как чайки ловят плотвичек, иногда под вечер купался в теплой, как парное молоко, воде. Было похоже, что он ни о чем не думал, ко всему стал безучастен, живет без интереса к тому, что происходило в окружающем мире, в Москве, в Кремле.
Но так лишь казалось тем, кто видел Илью мельком. В душе молодого князя бушевали страсти, и причиной тому служила боль надвигающейся утраты. Илью все сильнее пожирал огонь полыхающей любви, и он не находил, да и не искал средств погасить сей огонь. Тогда, в час спасения в подземелье Арининского монастыря, княжна обняла его и многажды поцеловала. Он понял, что ее поцелуи были не только знаком благодарности за спасение. В Елене вырвалась на свободу глубоко упрятанная страсть. В тот миг Илья ответил ей тем же. Они оба поняли истинное значение тех поцелуев. А их слова, вылетевшие в тот миг из сердечных глубин, застыли в груди князя, словно вырубленные из камня. Теперь Илья знал, что их сердца горят в одном пламени. Они провели в объятиях друг друга всего минуту-другую, но в это короткое мгновение сердечной близости это откровение в выражении чувств показалось Илье вечностью.
С того дня, когда он, оставив Владимира Гусева в Арининской обители, привез княжну Елену в Кремль и с рук на руки передал ее великому князю, и наступила для Ильи полная тьма. До него доходили слухи, что в Кремль один за другим приезжали иноземные сваты, и вот он узнал об окончательном сговоре отца Елены Ивана Васильевича с литовскими послами-сватами. Он узнал, что мужем княжны станет великий князь Литвы Александр. Страсть, казалось, помутила разум Ильи. Он днями и ночами думал о том, как избавить свою возлюбленную от литвина. Он верил, что сама Елена готова с радостью избежать этого супружества. Горячая южная кровь князя Ромодана, потомка византийского сановника по отцовской линии, требовала действий. В бреду дерзновенных мыслей Илья решил покинуть родительский дом и отправиться в Литву, там добиться того, чтобы Александр отказался от Елены. Но в минуты просветления разума Илья понимал, что это безумие, что ему не дано избавиться от соперника. Однако жажда уехать в Литовское княжество в нем не угасла, и он велел своему верному холопу Онисиму собрать его скрытно в дальний путь. Онисима же попутала нечистая сила, и он проговорился своей зазнобе Праксе, которая служила в княжеских покоях. Пракса поведала тайну своей любимой тетушке, которая стояла при княгине Марии ключницей, и тайное стало явным.
Вскоре у Ильи с отцом, князем Василием, произошла жестокая стычка. Горячий нравом и скорый на расправу князь Василий явился в покой сына с плетью в руках. Он держал ее с такой силой, что побелели суставы пальцев. Темно-вишневые, как у сына, глаза метали молнии. Высокий, сухопарый, с орлиным носом, князь Василий был страшен.
– Зачем несешь на мою голову позор?! Зачем тянешь весь род на плаху под топор?! – закричал он с порога. – Какая вражья сила влечет тебя в Литву? Что замыслил там сотворить? Говори! – И старый князь замахнулся плетью.
Илья стоял перед отцом с высоко поднятой головой. Он был готов к тому, что отец учинит над ним расправу. Случилось же это в те дни, когда по его вине украли княжну. Тогда плеть трижды ожгла ему спину. Знал Илья, что одно слово лжи, и плеть вновь достанет его до ребер. На этот раз он не дрогнул и сказал отцу правду:
– Батюшка, казни. Замыслил я неугодное Богу, да не в силах остановить себя. Жизнь мне не в радость!
Илья стоял перед отцом беззащитный и бледный как полотно, и лишь глаза горели мученическим огнем.
«Да он же готов ко всему! И до смерти забей, так не дрогнет!» – мелькнуло у князя Василия, и рука с плетью упала. Однако он с гневом, но без крика спросил:
– Безумец, думал ли ты о нас?
– Прости, батюшка, и о том забыл. Разум мой в тумане. Сколько ни молюсь пред образами, ничто не помогает.
– Воли взял много – вот в чем твоя вина. А как дойдет до великого князя твоя дерзость, считай, всему конец. Знаешь же, что испокон веку государи за это виновных на плаху отправляют. Да с первого шага надо было одуматься, остановиться.
– Не властен я над собою оказался, батюшка. Как во сне пребывал два года.
– А надо властвовать. Тебе ли не ведомо, что у царских детей царские судьбы? А ты кто? Что за тобой? Дашь ли ты державе то, что принесет ей супружество Елены с литовским государем?
– Ведомо мне, батюшка, что не дам. Но напасть свалилась на нас, и мы полюбили друг друга.
– Вот как оженю, так и люби Богом и родителями данную тебе супругу, – продолжал негодовать князь Василий. – Знаю, тебя к Елене влечет одна наша кровь, но и тому государь не будет внимать. Ему боль державы превыше всего.
Однако, сказав это, князь Василий спросил себя: «Превыше ли?»
У князя Василия Ромодановского были основания задавать себе подобный вопрос. Хотя он и стоял сообща с князьями Василием Патрикеевым и Семеном Ряполовским в числе первых бояр-князей возле государя и право сие было приобретено честью, отвагой и мужеством в служении державе, но в последнее время под ногами у них вместо земной тверди оказался речной песок и его вымывало из-под ног этих столпов отечества. Все трое были слишком близки к великой княгине Софье Фоминишне, питались ее умом и знаниями, кои в конце концов и были поставлены им во грех.
Иван Васильевич не замечал этого, да и не хотел замечать в первые годы супружества с Софьей Фоминишной, но сам с каждым годом отдалялся от ревнителей великой княгини. Еще в конце семидесятых годов Иван Васильевич проявил интерес к еретическому течению в православии, использовал еретиков в своих целях. Он напустил их на новгородских иереев, втравил в спор по поводу «учения» еретиков и догматов церкви. Он завел дружбу с вождями ереси, священнослужителями Алексием и Денисом, и в семьдесят девятом году привез их в Москву.
Тогда князья Патрикеев и Ромодановский пытались отторгнуть еретиков от великого князя. Государь не внял радению истинных друзей и продолжал чтить любезных ему Алексия и Дениса, благоволил им. А те под крылом великого и милосердного государя принялись с немалой жаждой обращать в свою «веру» многих, кто стоял близ Ивана Васильевича. Они вошли в доверие к дьяку Федору Курицыну, к его брату, дьяку Ивану Волку Курицыну. Даже сноха Ивана Васильевича, дочь молдавского господаря Стефана, Елена, была втянута в круг интересов еретиков.
Знал князь Василий Ромодановский, что московские еретики не враги православной церкви: они несли новые «веяния». Ведь один из еретиков, Иван Волк Курицын, составил сборник истин «Мерило праведное». В него вошла даже Русская Правда Ярослава Мудрого. В сборнике не затрагивались интересы церкви, но возвышалась роль государевой самодержавной власти.
В это же время подвигнул себя на создание мыслительного труда и дьяк Федор Курицын. Он написал «Лаодикийское послание», в котором изложил идеи о самовластии души, о свободе воли, о пробуждении в россиянах жажды к грамотности. Труды братьев Курицыных, казалось князю Василию Ромодановскому, не нарушали уставов православия, но шли им встречь. Но и он, и князья Патрикеев и Ряполовский, а прежде всего архиереи церкви были против Курицыных и прочих еретиков и осуждали государя за то, что он благоволил им.
Московские архиереи поддержали требование новгородского архиепископа Геннадия, который добивался созыва церковного собора и расправы над еретиками, как это делала католическая церковь, о чем многажды писал митрополиту всея Руси Зосиме. И состоялся собор, где многие священнослужители требовали казни еретиков. Однако государь Иван Васильевич и митрополит Зосима не согласились чинить смертную казнь над еретиками. Князь Ромодановский оказался в числе осудителей государя и владыки. Он считал, что государево милосердие не шло на пользу православной вере и державе.
Прошли годы, но Иван Васильевич не забыл того осуждения его деяний. Теперь князь Василий прикидывал, какая мера наказания ждет его, ежели вдруг порочный замысел его сына станет ведом государю. Думать о том было страшно, и, дабы пресечь какие-либо потуги Ильи, князь Василий дал себе слово в ближайшее время женить его. «Вот и образумится», – решил он. Подойдя к сыну вплотную, взяв его за грудки, князь гневно сказал:
– Дома сиднем сиди, с подворья – ни шагу. Уйдешь – пеняй на себя. Достану, своим судом живота лишу, а там пусть Господь судит за грехи.
Оттолкнув Илью, он ушел. Молодой князь ни словом не обмолвился, не возразил на решение отца заточить его в домашнем тереме. Шли дни, Илья неприкаянно шатался по палатам, по службам. Читать пытался, в мастерские к столярам ходил, сам за инструмент брался, ларец резной надумал сработать. Не враз удалось тонкое ремесло, ан был упорен. Недели через две получился ларец, хотя и не ахти какой большой, но красивый. На дверцах голубь и голубка черноголовые и белобокие были вырезаны. Костромские мастера хвалили: «Лепота, лепота, да смутьянисто».
На Святочной неделе за вечерней трапезой в кругу семьи и близких князь Василий взял в руки серебряный кубок, наполненный вином, и торжественно сказал:
– Матушка-княгиня Мария Власьевна, сыны и дочери мои и все сродники, близок день, когда наш старший сын пойдет к венцу. Невеста ему найдена, и сговор состоялся. Обратного пути нам нет. За то с Божьей помощью и выпьем.
Долгую минуту в трапезной стояла тишина, только потрескивали свечи. Сказанное князем Василием для всех было полной неожиданностью. Даже княгиня не знала, что супруг ищет сыну невесту. Но вот князь выпил вино, поставил кубок и спросил:
– Аль не рады?
– Да как же не радоваться, – первой отозвалась княгиня Мария.
И разом все заговорили: дескать, самое время ладком, мирком да за свадебку. Лишь князь Илья сидел словно каменный, в лице не было ни кровинки, а глаза смотрели в пространство и ничего не замечали. Даже слез матери, которая сидела напротив сына и поняла его состояние, Илья не увидел. Она же не только плакала, но и улыбалась. Да все было просто: княгиня Мария ведала о сердечной маете сына и страдала вместе с ним, но она знала крутой нрав супруга и улыбалась ему. Самая любопытная из сестер князя Василия, худая и остроносая княгиня Елизавета, спросила:
– Кто же суженая Илюшеньки, братец Степаныч? Ведь должно нам узнать, с кем породнимся. Аль не так?
– Не так, Лизавета, не будет по-твоему. Всему свой час, – ответил ей брат Василий.
Князь Ромодановский не был намерен оглашать имя невесты. Так было заведено в боярских и княжеских родах, и случалось довольно часто, что жених и невеста до дня венчания не знали друг друга, не ведали о своей судьбе. Делалось это ради одного: дабы избежать бунта со стороны жениха или невесты. И в подтверждение этого князь Василий добавил:
– Тебе, Лизавета, все бы ведать. Вот как минует Крещение, все узнаешь во храме.
– И на том спасибо, братец Степаныч, – ответила недовольная сестра Василия.
Но по Москве уже прошел слух, что князь Василий Ромодановский заглядывал в хоромы князей Шуйских, кои жили на Пречистенке. Да многие и сошлись во мнении, что старого князя Василия интересует дочь Шуйских Ксения. И хотя ни лицом, ни статью она не взяла – и князь Василий сожалел о том, – но род Шуйских шел от князей Невских. А о главе дома поговаривали, что он прямой потомок князя Александра Невского, и тут уж князю Ромодановскому не приходилось желать лучшего. Сильны были Шуйские и в милости у государя находились. Рассчитывал князь Василий женитьбой сына вновь упрочить свое положение при великокняжеском дворе.
Однако князь Василий не до конца изведал характер старшего сына и силу его любви к великой княжне не знал. Князь Илья, еще не ведая, с кем у отца был сговор, пошел поперек его желанию и дал себе обет, что воле батюшки не покорится. Повод у него к тому имелся довольно убедительный. Знал он, что в княжеских родах все-таки почитали волю молодых отпрысков, давали им право выбора будущей жены или, на худой конец, право знакомства с будущей невестой. По родословной Илья знал также, что за несколько поколений в роду князей Ромодановских этот неписаный закон не нарушался. «Порушится ли он теперь, мы еще посмотрим», – решил князь Илья, готовясь к новой схватке с отцом.






