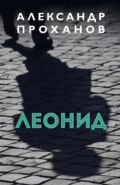Александр Проханов
Война страшна покаянием. Стеклодув
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Он оставил машину с шофером на заснеженной Бронной. Пешком, наслаждаясь блеском и красотой вечерней Москвы, стал спускаться по Тверской вниз, повторяя путь, который столько раз за долгую жизнь совершал среди этих фасадов. Оставаясь каменными, неизменными, со своими арками, лепными украшениями и мемориальными досками, они, словно недвижные берега, наполнялись струящейся в вечных переливах некой рекой, по которой уносились его воспоминания. Все в одну сторону, вниз, от туманного Пушкина с живой, брошенной в снег розой, к янтарно-белому Манежу и розовым башням с высокими в рубиновом зареве звездами. Когда-то мама, держа его детскую руку, хотела перейти просторную полупустую улицу. Навстречу, едва их не сбив, промчался черный, на белых шинах, лакированный «ЗИС». За стеклом лимонно-желтое, недовольное промелькнуло лицо Молотова. Здесь же, школьником, он шагал в весенней первомайской толпе среди флагов, шаров, транспарантов, держа красный флажок, и на площади, среди ликующих возгласов, восхищенных лиц, увидел на мгновение розовый кристалл мавзолея. Далеко, в кителе и фуражке – Сталин. Сказочное видение, пронесенное сквозь целую жизнь. Юношей, стоя на тротуаре, он смотрел, как мимо, в грохоте, в дрожании земли шли на парад танки – бугры и уступы зеленой брони, стоящие в люках танкисты, едкая синяя гарь, и когда стальная волна прокатилась мимо витрин и окон, на асфальте – седая насечка, запах гудрона и стали. С девушками – каждый год разные, с полузабытыми лицами, полузабытым смехом, запахом и цветом волос – гуляли, забредая в кафе, и он смотрел, как бегут за окном автомобили, и сквозь тонкую трубочку близкие женские губы всасывают сладкую струйку коктейля.
Теперь он шел по Тверской, по свежему, бело-синему снегу, рассеянно любуясь праздной толпой. Нескончаемо лился глянцевитый поток автомобилей, из которых у дверей ресторанов и ночных клубов выходили молодые, красиво одетые люди. То просияет серебристой синевой соболиный воротник, то из распахнутой шубы сочно брызнет шелковый галстук. Как алмазный водопад, низвергались вниз белые лучистые огни. Вверх, навстречу поднимались нескончаемые рубиновые сгустки. Его глаза ликовали, наслаждаясь янтарными витринами, полыхавшими вывесками и рекламами, под которыми снег трепетал фиолетовым, алым, зеленым. Дома, озаренные магическим светом голубоватых и золотистых светильников, казались ледяными дворцами, воздушными замками, в волшебных переливах, таинственных излучениях. Город был дивно красив, сказочно великолепен, и казалось, в нем идет вечный праздник, собраны неземные богатства, и жить в этом городе было упоительным счастьем.
Он проходил мимо тяжеловесного помпезного здания, облицованного грубым гранитом. В складках гранита лежал снег. Черная липа была усыпана драгоценной огненной капелью, словно райское древо. Центральный телеграф казался космическим кораблем, в его глазнице медленно вращалось голубое мистическое око. Клубилась у театра толпа. Сверкали хрусталями и самоцветами дорогие отели. Автомобильный поток соскальзывал к площади, загибался, ускользал за огромный черный уступ Государственной думы, в фасад которой угрюмо и незыблемо, словно наскальное изображение, был врезан герб СССР.
Среди гранита, в темном монолите дома, сияла прозрачная витрина. Ювелирный магазин, спрятанный в каменную толщу, приоткрывал свои чудесные сокровища, манил толпу россыпями драгоценных камней, золотыми ожерельями и браслетами. В витрине восседала женщина, вся в бриллиантах, то ли статуя, то ли заколдованная царица, очарованная хранительница несметных богатств. Тонкое лицо, обнаженная шея и руки были бархатно-черные, словно она принадлежала к сословию жриц и явилась сюда с берегов Нила или Ганга. Волосы ее были цвета платины, чуть голубые, – признак таинственной расы. Быть может, той, что некогда населяла землю и покинула ее по неизвестным причинам, оставив занесенные песками города, заросшие джунглями храмы, покрытые льдами и морскими водами капища.
Он остановился перед витриной, чувствуя стопами холодный снег, а зрачками волшебную силу недоступной женщины, спящей в хрустальном саркофаге с открытыми глазами. Она казалась ему странно знакомой. Словно он где-то ее встречал, она являлась ему мимолетно. Мелькнула среди других и была забыта, чтобы вдруг возникнуть через много лет на Тверской. Быть может, он видел ее на рауте в Вашингтоне, среди офицеров американской военно-морской разведки, где она подносила к фиолетовым губам игристый бокал с шампанским. Или на рынке в Равалпинди, среди разноцветных огоньков и лампадок, когда быстро темнело, в небе дышало аметистовое вечернее облако, уныло кричал муэдзин, и она грациозно прошла, задев его белой накидкой. Или стояла на берегу Меконга, среди разгромленных статуй буддийского монастыря, и он проплывал мимо на военном катере, залюбовавшись ее смуглым лицом. Или она была женщиной его сновидений, если вся его долгая жизнь была сном, и этот сказочный город, и дерево в драгоценных гирляндах, и глобус в синей глазнице, и видение Сталина – все это длящийся сон, предполагающий скорое пробуждение.
Он смотрел на женщину, испытывая к ней влечение. К ее прекрасному темному лику с открытыми, без зрачков, как у каменных статуй, глазами. К обнаженной высокой шее, на которой переливалось бриллиантовое колье, вспыхивающее разноцветно при малейшем движении зрачков. К ее обворожительным гибким рукам с тонкими запястьями, на которых сверкали лучистые каменья. Ему хотелось коснуться губами ее хрупких пальцев, хотелось целовать узкую ладонь, теплую жилку, скрытую драгоценным браслетом, чувствуя сияющий холод и блеск камней. Он приближал к витрине лицо, мысленно целуя полуоткрытую грудь, угадывая под шелковым платьем ее длинную шелковистую форму и малиновый сосок. Ему хотелось взять в руки тонкую щиколотку и, целуя колени, скользить ладонями вверх по гладкой темной ноге, чувствуя, как она наливается силой, начинает трепетать. Глаза его были жадно раскрыты, восхищались бриллиантами, которые брызгали цветными лучами. Казалось, женщина пробуждается, начинает чуть слышно дышать, слабо улыбается, и они, разделенные стеклом, приближают друг к другу лица. Это напоминало сон, соитие во сне, сладкое вожделение, которое он никогда не испытывал. Он утолял это вожделение ненасытным созерцанием, дрожанием зрачков, в которых страстно переливались бриллианты.
Вдруг он почувствовал бесшумный толчок. Затмение в левом глазу. Будто перед глазом опустили темную шторку, и бриллианты, которые он созерцал, погасли. Перед другим глазом они продолжали лучиться, сыпать разноцветные искры, переливаться стоцветной росой. Он закрыл этот глаз ладонью, наступила полная тьма. Только слышался шорох машин, женский смех, пролетело душистое облачко табака. Убрал ладонь – темноликая женщина отодвинулась в глубь витрины, сидела отстраненно, как изваяние, равнодушно демонстрировала бриллианты.
Он понимал, что ослеп на один глаз. Слепота наступила мгновенно и безболезненно, будто у него изъяли из глазницы око, наполнив полость мягким непрозрачным составом. Это не испугало, а удивило его. Удар, который он испытал, последовал с высоты, из мглистого московского неба и явился ответом на его вожделение, на его жадное созерцание. Будто кто-то запрещал ему прелюбодейство, наказывал за соитие с целомудренной жрицей. Он отвел от витрины зрячий глаз, все еще сберегая в нем пленительный женский образ. Испугался, что померкнет и этот глаз, не желавший расставаться с запретным зрелищем. Отошел от витрины, надеясь, что, удалившись от места грехопадения, вновь обретет зрение.
Вдоль переносицы проходила вертикаль, и все, что было левее этой вертикали, оставалось объятым тьмой. Правая же сторона была полна блестящих автомобилей, свежего снега. Переливалось райское дерево. Проходившие мимо мужчина и женщина целовались.
Это было знамением. Было посланием свыше, которое он не мог разгадать. Было словом, безмолвно и властно к нему обращенным, и это слово погасило его око. Внезапность случившегося вызывала в нем ощущение, что кто-то, безымянный, долго и терпеливо наблюдал за ним – не день и не два, а, быть может, целую жизнь, терпел то, как он проживал эту жизнь, и, наконец, не стерпев, послал ему гневный знак.
Так объяснял внезапное свое ослепление Петр Андреевич Суздальцев, стоя на Тверской под черной, увитой гирляндами липой, словно под древом познания Добра и Зла. Всматривался слепо в загоревшиеся кнопки мобильного телефона, звонил шоферу, вызывая машину.
* * *
Явившись в военную клинику к врачу-офтальмологу, он заметил выражение равнодушной любезности на его длинном смуглом лице. Веки у врача были пятнистые, розовые, словно после ожога. В потухших глазах пациентов кипела тьма, брызгала в глаза офтальмолога раскаленными брызгами. Врач, оснастив свой лоб окуляром, зажег портативный фонарик с раскаленным лучом. Луч сверкнул по здоровому глазу, ушел в глубину пораженного ока, рассыпался на мельчайшие искры, окружавшие черную тьму. Луч словно разбился о преграду, превратился в мельчайшую пыль. Офтальмолог убрал луч, снял со лба окуляры, и Суздальцев заметил, что на лице его появилось почти испуганное выражение, и пятна на веках порозовели, словно это был ожог тьмы.
– Вы переносили когда-нибудь сотрясение мозга?
– Контузило в Афганистане.
– Не болели гепатитом?
– Было дело. После работы в Анголе.
– Не страдали серьезными инфекционными заболеваниями?
– Тропическая малярия, после Никарагуа. Меня лечили по кубинской методике, ударными порциями антибиотиков.
– Испытывали в настоящее время сильные стрессы?
– Доктор, мы все испытываем сегодня непрерывный стресс.
– Пересядьте, пожалуйста, в это кресло.
Суздальцев занял место перед оптическим прибором с двумя застекленными трубками. Его голову поместили в стальной капкан – лоб охватывал обруч, подбородок упирался в плотную лунку. Врач снова водил лучом, направлял его под разными углами в глубину померкшего глаза, будто исследовал глухую пещеру, стараясь разглядеть наскальные рисунки. Луч превращался в легкую пыльцу, окружавшую темноту. Второй, зрячий, глаз содрогался от вторжения раскаленной иглы, будто она выжигала больной иероглиф, и в этом иероглифе чудилась бриллиантовая женщина, россыпи камней на смуглой груди.
– Положение очень серьезное, – произнес офтальмолог голосом, в котором слышались сострадающие, печальные нотки. – Вы перенесли инфаркт глаза. Кровоизлияние, разрыв артерии, паралич глазного нерва. У вас в глазу, если так можно выразиться, кровавый кисель. Под угрозой – второй глаз. Вам необходима немедленная госпитализация.
Пока врач писал направление в госпиталь, Суздальцев, не пугаясь, ощущая неизбежность и предопределенность случившегося, старался представить свое око в виде флакона, наполненного малиновой жидкостью. Бесшумная пуля попала в глазницу, взорвалась бриллиантовой вспышкой, превратила драгоценный сосуд в кровавый сгусток, во вместилище тьмы.
Машина отвезла его в госпиталь, и он покорно и терпеливо отдал себя в руки врачей. Без тени испуга, без надежды на исцеление, готовился к полной слепоте. Воспринимал ее не как внезапное несчастье, а как таинственное послание Того, Кто до этого распахивал перед ним бесконечные зрелища мира, открывал фантастические картины бытия, принуждая их созерцать. Повинуясь приказу свыше, он мчался с широко распахнутыми глазами навстречу зрелищам, стараясь их понять и запомнить, покуда их не убрали, как убирают с мольберта картины великих мастеров, опускают на окна темные шторы.
Его поместили в отдельную палату, и его дни делились на две половины – утреннюю, когда он подвергался многочисленным процедурам, и послеобеденную, когда врачи отступали, и он был предоставлен себе самому.
Утром ему делали несколько уколов – в мышцу, безболезненные, словно укус комара, и в глаз, когда тончайшее острие больно впивалось под глазное яблоко, и в жидкий кровоподтек впрыскивалась целебная сыворотка. Его пропускали сквозь сложный конвейер оптических приборов, когда в глаз, раздвигая веки и не давая моргать, вставлялась трубка, и врачи, сменяя друг друга, вонзали лучи, стреляли легчайшими сгустками воздуха, заставляли наблюдать движение зеленоватой корпускулы, воздействовали на пораженные ткани подобием солнечных лучей, побуждая глаз откликнуться на солнечный свет. Ему вбрызгивали в вену красящее вещество, оно проникало в сосуды глаза и, подвергаясь рентгеновскому облучению, обнаруживало картину разрушения. «Сосудистую катастрофу», – как говорили врачи. Он рассматривал цветную, компьютерную фотографию пораженного глаза, и она была похожа на аэрофотосъемку темного озера, в которое впадает множество ветвящихся ручьев и речек. Образ его слепоты, снятой из космоса.
Ему представлялась вареная голова семги с приоткрытым зубастым ртом и серебряными пластинами жабер, и то, как он вычерпывал из рыбьей башки темно-золотой глаз. Вареное рыбье око лежало в ложке с желтоватым белком и тускло-остекленелым зрачком. Еще он вспоминал убитого в пустыне Регистан вертолетчика, которому в голову попала пуля крупнокалиберного пулемета. Одна половина лица была срезана до кости, а из другой свисал на кровавых нитях огромный бело-желтый глаз.
Его подвергали лазерному воздействию. Сестра закапывала в глаз препарат, расширяющий зрачки, и когда она над ним наклонялась, он чувствовал щекой ее мягкую грудь. Врач с короткой седоватой стрижкой и жестким лицом снайпера всаживал в пораженный глаз разящие очереди, пробивая крохотные отверстия, сквозь которые должна была уйти кровавая жидкость. Каждый удар лазера сопровождался шипящим звуком, попадание отмечалось светящейся робкой пыльцой, напоминавшей далекий, гаснущий фейерверк. Зато второе, зрячее, око пугалось солнечной огненной вспышки, которая наполняла глаз невыносимым светом, расплавленной белой плазмой. Лишенный возможности моргать, с широко раскрытыми веками, глаз ужасался вторжению слепящего света. И это странно напомнило ему солнце Герата, когда он поднимался на вершину каменной башни, где был расположен командный пункт. Предстояла массированная бомбардировка города, и кто-то немой и грозный направлял из небес бесшумные слепящие вспышки, то ли запрещая ему смотреть, то ли, напротив, безмолвно принуждая: «Смотри!»
Оказавшись в палате, он принимал телефонные звонки от бывшей жены, пожелавшей его навестить. От детей, которые волновались за него и просили позволения прийти. От немногочисленных друзей, прослышавших о его несчастье. Он всем отказывал, отшучивался: «Я теперь одноглазое Лихо. Одноглазый циклоп Полифем». Предпочитал одиночество, чувствуя, что ему предстоит новый, быть может, завершающий период жизни, и нужно к нему приготовиться.
Он смотрел на себя в зеркало оставшимся зрячим глазом, словно перед наступавшей слепотой хотел себя запомнить. Пепельно-бледное, в металлических морщинах и складках лицо. Узкие, тесно сжатые, с тайной насмешкой губы. Упрямый лоб, на котором насечками нанесены все его победы и поражения. Худая, с жилами и колючим кадыком шея. Под хмурыми бровями – настороженные, недоверчивые серые глаза, один из которых поражен прямым попаданием, а другой уже захвачен в тончайшую сетку прицела.
Грядущее сгущалось, как сумерки, готовые перейти в непроглядную ночь. Это не пугало его, но сулило новые переживания, ощущение новой, поставленной перед ним задачи. Тот, Кто поставил перед ним очередную задачу, не был руководителем военной разведки, из тех, что в разные годы отправляли его на воюющие континенты с требованием доставить в Центр уникальную военную или политическую информацию. Этот верховный руководитель был Тем, Кто создал его из крохотного пузырька протоплазмы, сотворил из него человека, выпустил в жизнь, поручив добывать в этой жизни, от рожденья до смерти, таинственные знания о бытии, добиваясь прозрения среди затмевающих разум земных катастроф. Потеря зрения была не злополучным событием, не болезнью, а необходимым условием для того, чтобы увидеть прожитую жизнь иными глазами, обращенными внутрь. Угасание внешнего зрения сулило раскрытие сокровенных внутренних очей, которыми он сможет увидеть своего Создателя. Стоя перед ним, отчитаться за прожитую жизнь, высыпать ему в ладонь ничтожные крохи знаний, которые ему удалось собрать. И Создатель рассмотрит эти маковые росинки и сдует их с ладони за ненадобностью. Или пересыплет в драгоценный ларец, где собраны крупицы опыта, доставляемые испокон веков другими разведчиками.
Он ложился на кровать, закрывал глаза и старался заглянуть в глубь души, ожидая, что откроются внутренние очи, и он узрит небывалые, невиданные прежде картины. Но внутреннее зрение лишь повторяло внешнее. Виделась все та же сухая саванна Мозамбика, заминированная пустошь «аэродрома подскока», и крохотный, похожий на стрекозу, самолет приземляется, блестя винтом. Душная никарагуанская сельва в горячих болотах, и он раздвигает грудью липкую тину, неся на плече ствол миномета. Красные песчаники на берегу океана в провинции Кунене, советник ангольской бригады глотает из горла виски, подбрасывает бутылку, разбивая стекло автоматной очередью, а он своим сильным заостренным телом ныряет в ледяной океан, плывет среди розовых камней, хватая руками ленивую скользкую рыбу.
Внутренние очи оставались запечатанными. А внешние подвергались воздействию оптических приборов, лучей, лазерных вспышек, которые были бессильны перед Тем, Кто затмил ему зрение. Взял в невидимую длань его прозрачный, вдоволь насмотревшийся глаз, стиснул, пропуская сквозь пальцы стеклянную влагу, и лишь сверкнул в пустоте серебряный крестик штурмовика, наносящего удар по Герату.
* * *
Он вернулся из клиники домой, сосредоточенный и спокойный, позволяя ухаживать за собой приезжающим детям. Смотрел, как розовеет в вечернем воздухе зимняя Москва, словно прощался с нею. Видел, как начинает льдисто мерцать высотное здание на площади Восстания, похожее на голубую, высеченную изо льда скульптуру. Прощался с оттенками розового, золотого, зеленого. Чутко ждал, когда к нему явится Тот, Кто позволял ему напоследок налюбоваться на этот мир.
На его столе красовалась небольшая ваза из синего стекла, прозрачная, рукотворная, с вкраплением пузырьков, с хрупкими стеклянными нитями, оставшимися от трубочки стеклодува. Это было знаменитое гератское стекло с особыми переливами лазури, оттенками зелени и морской синевы, возникавшими от добавлений в расплавленное стекло горных изумрудов и лазуритов. Среди шатров и дуканов гератского рынка, среди черной, как вар, толпы была мастерская стеклодува. Бесцветным пламенем сиял раскаленный тигель. Плескалась вялая жидкость стекла. Краснолицый стеклодув наматывал на длинную трубку прозрачный шар света. Дул в него, расширяя щеки и выпучивая фиолетовые глаза, словно играл на флейте. Шар расширялся, из белого превращался в алый. Начинал темнеть, зеленеть. Мастер ударом ножа откалывал хрустальную пуповинку. И ваза, окруженная лазурным сиянием, остывала на верстаке, словно крохотная спустившаяся из неба планета.
Суздальцев ощупывал вазу пальцами, чувствуя ее хрупкость и колкость. Приближал лицо, наслаждаясь той особой, мусульманской синевой, в которой присутствовало божественное свечение, вызывавшее в душе сладостное благоговение. Поворачивал вазу, любуясь игрой пузырьков. Стекло сохранило в себе воздух Герата, в котором высились смуглые изразцовые минареты, сухо и ярко желтели глинобитные дома Деванчи, на клумбе, перед мечетью краснели розы, колонна бронетехники, разведя пушки «елочкой», втягивалась в узкую улицу, и он, нагнувшись с брони, сорвал вялую душистую розу.
Он любовался вазой, и свет начинал в ней меркнуть, она темнела, как гаснущая голубая лампада. Пропал ее видимый образ, в руках оставался невидимый, хрупкий на ощупь предмет, а в глазнице еще трепетала синева. Но она исчезала, словно стеклодув втягивал обратно свое дыхание, убирал из глазницы изображение вазы.
«Ну вот, я ослеп», – подумал Суздальцев, пугаясь не тьмы, а присутствия Бога, который был явлен ему в лазури и теперь, отобрав зрение, ждал, что слепец станет открывать в себе духовное око, чтобы им созерцать необозримые просторы духа. «Боже, я ослеп, и теперь я Тебя увижу.» Он ожидал, что ему явится Божье лицо, как тот «Спас Ярое око», или «Спас Золотые волоса», что он видел в Третьяковской галерее, куда в детстве, в морозный московский денек, водила его мама. Но Спас не являлся, а в глазах стоял бархатный мрак.
С тех пор время его потянулось, как тревожное ожидание и непрестанная печаль. Он вглядывался в себя, надеясь, что в душе вот-вот раскроется глаз, неподвижный и ясный, заключенный в треугольник, рассылающий вокруг лучи ясновидения, каким изображают в храмах «Божье око». Но внутренне зрение оставалось все тем же, внешним, было наполнено видениями, среди которых прошла его жизнь. Песчаная насыпь с железнодорожной колеей, ведущей к тайландской границе. Сахарно-белый Бейрут с дымом одинокого взрыва. Синее шоссе под Лубанго с исковерканной сожженной «Тойотой».
Теперь он много лежал с раскрытыми глазами, которые были будто запечатаны сургучом, как депеша, предназначенная для могущественного получателя. Он больше не мог читать, и вспоминал стихи, которые, словно предчувствуя слепоту, выучил наизусть и теперь декламировал вслух, изумляясь их новому звучанию. Это были стихи Гумилева. Суздальцев находил в них множество созвучий, отыскивал странное тождество, с которым жизнь умершего поэта воспроизводилась его жизнью.
«Туркестанские генералы» были стихами о нем, молчаливом и одиноком, безмолвно пережившим исчезновение великого времени, уход России с Востока, куда некогда, через Устюрт и Мангышлак, двигались русские полки, покоряя Хиву и Бухару.
Они забыли дни тоски,
Ночные возгласы: «К оружью»,
Унылые солончаки,
И поступь мерную верблюжью.
Это четверостишье вызывало в памяти белесые, опудренные солью степи Шинданта, караван верблюдов, медленно перебредавший шоссе, тусклый звяк колокольчика, который ночью сменялся звуком одинокого выстрела.
Африканские воспоминания были также созвучны.
Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.
Тут же воскресал глянцевитый цветущий куст на берегу океана, мерцающие проблески бабочек, взмах сачка, и он целует трепещущую марлю, благоухающую цветочной пыльцой, глядя в безбрежную синеву океана.
И, конечно же, стих о ночном бдении.
За то, что пощадил я вас,
И одиноко сжег свой час,
Оставьте будущую тьму
Мне также встретить одному.
Это было напрямую о нем, о его тьме, о потребности остаться в этой тьме одному, чтобы пережить преображение в смерти.
Расстрелянный белогвардейский поэт, проигравший свою «белую империю», через сто лет, словно духовный брат, обращался к нему, «красному» генералу, потерявшему свою «красную Родину». И это было загадочно и сладко, он плакал слепыми глазами, и это были их общие слезы.