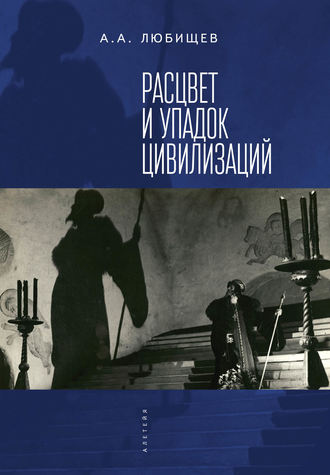
А. А. Любищев
Расцвет и упадок цивилизации (сборник)
© А. А. Любищев, наследники, 2008
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2008
Тайный жребий профессора Любищева
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И клятве ни один не мог меня привлечь.
А. К. Толстой
Нина Берберова в мемуарах «Курсив мой» говорит о персональной символике, о важности распознать свои личные мифы, создающие внутреннюю структуру личности и помогающие устоять перед ударами судьбы. Александр Александрович Любищев в 1952 году в небольшом эссе «Основной постулат этики» сформулировал свой завет-миф: жить и поступать так, чтобы способствовать победе Духа над Материей. Конечно, имеется в виду не злой дух, а добрый дух. Но сама фамилия Любищев уже есть знак добра.
Стиль творческого и жизненного поведения Любищева (1890–1972) являл удивительную гармонию трех начал: рационального, интуитивного и эмоционального. Таких людей с библейских времен называют мудрецами. Они открыты к людям и всем потокам жизни. Но и это не все. В одном из писем Любищева есть признание: «Я люблю трепаться и валять дурака». В своем генофонде он находит гены гиляризма (веселости) и оптимизма. Мудрость была и остается веселой, как сказано еще в притчах Соломона. И мудрость Любищева была как раз таковой. Она поднимала дух у отчаявшихся и раздавала щелчки критики в ответ на самомнение и непогрешимость научных и философских догм.
В его стиле необычайно ярко воплощались свойственные ему «гены антидогматизма и интеллектуального загребенизма». Эта любищевская метафора действительно характеризует его необычный врожденный дар, о котором единодушно писали самые разные его корреспонденты. С позиций генетики это можно сравнить с другим редким природным даром – способностью к цветному звуку, свойственному ряду поэтов (Бодлер, Блок). Эта особенность заметна во многих творениях Набокова. Он же дал ее краткое выразительное описание («Дар», «Другие берега»): розовая фланелевая буква «м», грязная, как прошлогодняя вата «ы», гуттаперчевое «ч». При этом одна и та же буква «а» по-разному окрашивалась у него на разных языках. Мать Набокова тоже была одарена этой способностью, но цветовая палитра одних и тех же букв у них не совпадала!
Свой врожденный критический дар Любищев ценил, тренировал и развил в необычайной степени. Во-первых, он любил полемику. Во-вторых, смолоду, после прочтения любой статьи или книги он делал в своих дневниках их концептуальный и историко-культурный анализ. В-третьих, ему был свойственен платоновско-сократовский диалогический или диалектический метод, когда в позиции оппонента выявлялись исходные постулаты, о которых тот в начале диалога или не подозревал, или просто принимал на веру, считая логически безупречными, и этот, сопоставимый с цветным слухом дар, был рано оценен коллегами и затем всеми, кто соприкоснулся с творчеством Любищева. Достаточно сказать, что уже в начале 20-х годов такие биологи как Л. С. Берг и Н. И. Вавилов посылают ему на критический анализ свои работы. И недаром в 60-е годы физик академик И. Е. Тамм, будучи знаком с Любищевым еще по Таврическому университету в Крыму, называл его статьи-письма непревзойденным образцом эпистолярного жанра.
Любищеву нравилась аналогия из рассказа А. Франса, где дьявол заявляет, что истина – белая, а все убеждения разных сект – только отдельные лучи спектра, составляющие единую Истину. Большинство его оппонентов старалось сохранить в чистоте свою линию спектра. Любищева привлекали необычные, даже самые одиозные построения. Их элементы могли быть включены в общий синтез. Он умел каким-то непостижимым образом даже среди околонаучной сферы, граничащей с шарлатанством (алхимия, астрология, парапсихология, «восточная мудрость»), находить «жемчужные зерна», которые он очищал и поднимал на рациональную высоту.
Спор с обоими, отказ примкнуть к какому-то стану был тайным жребием Любищева. Он отнюдь не делал из этого секрета, охотно цитируя строки любимого поэта А. К. Толстого: «Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя / Пристрастной ревности друзей не в силах снесть / Я знамени врага отстаивал бы честь». При этом его критический меч оставался добрым, лишенным мстительности и фанатизма. Ибо чувствовалось главное – движение к истине, уважение, а не поражение оппонента и желание понять его наиболее сильные доводы, не придираясь к запятым.
Одним из равновеликих Любищеву друзей-биологов (по интеллекту, образованности и устремлениям к высшим духовным ценностям) был Борис Сергеевич Кузин (1903–1973). Если у Любищева доминировало критическое, рациональное начало с любовью к математике и статистике, то Кузина отличало глубинное имманентное влечение к художественной и иррациональной сфере, почти профессиональная погруженность в область музыки («орбита Баха») и поэзии. Он переводил с латыни Горация и Катулла, писал стихи, а его эссе с описанием случайной и прямо-таки провиденциальной встречи в Армении с боготворимым им поэтом Мандельштамом можно читать и перечитывать как прекрасный образец прозы. Чудо-встреча летом 1930 года большого поэта и большого натуралиста оказалась в подлинном смысле слова животворно-взрывной для обоих. К Осипу Мандельштаму вдруг вернулась способность писать стихи, утраченная на ряд лет после волкодавной травли советскими критиками («мне на шею кидается век-волкодав»). Мандельштам позднее напишет об этой встрече: «Когда я спал без облика и склада / я дружбой был, как выстрелом, разбужен».
Саркастически и парадоксально мыслящий Кузин пришел постепенно к выводу, что в спорах не только не рождается истина, но чаще всего портятся дружеские отношения. Ибо два собеседника – это два по-разному настроенных инструмента, и мысль каждого воспринимается искаженной, как в диалогах дон Кихота и Санчо Панса. Но диалоги с Любищевым были исключением. В вышедшей недавно книге воспоминаний Кузина (Петербург: Инка пресс, 1999) находим такие строки из его письма в октябре 1950 года: «Любищев прожил у меня неделю. Оба мы остались очень довольны этим свиданием. Поговорили обо всем. Как водится, непрестанно спорили с ним и ругались. Но научные споры с ним не приводят к порче отношений. Он бесконечно добродушен и столь же объективен. С точки зрения развития критических способностей Любищев не может сравниться ни с одним из известных мне зоологов. Но чудак он первостатейный и совершенно подкупающий своей простотой и добротой. Для меня его приезд был величайшим удовольствием и настоящим отдыхом».
Мнение большинства при спорах в науке и на социально-исторические темы мало заботило Любищева. Ибо с большинством можно считаться тогда, если каждый его член вырабатывает свое мнение совершенно свободно и непредвзято. А этого никогда не бывает – слишком силен идол авторитетов и давление окружающих. Любищев же любил идти наперекор и напоминал афоризм Оскара Уайльда: если со мной все соглашаются, я чувствую, что не прав.
Творческое наследие Любищева велико и разнообразно. Оно включает работы по теоретической биологии, собранные в посмертной книге «Проблемы формы, эволюции и систематики живых организмов» (Л.: Наука, 1982), статьи в области истории науки и культуры, философии, выписки и комментарии к прочитанным статьям и книгам, колоссальную переписку с известными деятелями науки и культуры и многими самобытными корреспондентами.
В 2000 году в серии «Философы России XX века» издательство «Алетейя» выпустило два тома работ Любищева «Линии Демокрита и Платона в истории науки и культуры» и сборник «Наука и религия», куда вошли и многолетние эпистолярные диалоги с двумя его друзьями – биологами Б. С. Кузиным и П. Г. Светловым. Видимо, теперь не будет казаться преувеличением, когда Павел Григорьевич Светлов в дни 70-летия Любищева отметил его «совершенно особое место в нашей научной общественности», назвав «лидером оппозиции к казенщине в нашей философии».
Конечно, слово «казенщина» лишь в слабой степени отражает духовную атмосферу, которая стала складываться сразу после прихода к власти большевиков. «Вы являете первый опыт введения социализма посредством подавления свободы… Вообще сердце сжимается при мысли о судьбе того слоя русского общества, который принято называть интеллигенцией», – писал Короленко в 1920 году в ставших теперь известными письмах Луначарскому. Короленко невольно оказался пророком, хотя не желал им быть. Место философии занял суррогат веры, воинствующий материализм, невежественный и догматически-агрессивный. Науки и искусства после периода постреволюционного взлета из самоценных областей человеческого духа шаг за шагом стали стягиваться обручами идеологии и рассматриваться как служанки в главной задаче – строительстве социализма в одной отдельно взятой стране. Вслед за репрессиями религии и целых ветвей гуманитарных наук последовали концентрационные лагеря…
Неожиданно поэтическая метафора-предчувствие начала века оказалась в СССР близка к реальности: «А мы, мудрецы и поэты / Хранители тайны и веры / Унесем зажженные светы / В катакомбы, в пустыни, в пещеры» (В. Брюсов). Эти строки приходят на ум, когда читаешь переписку двух хранителей тайны и веры – Б. С. Кузина и Любищева. Кузин в середине 30-х годов оказался в ссылке на полупустынной биостанции Шортанды, а Любищев в годы войны – в Киргизии, катакомбном Пржевальске. Однако их эпистолярные эмоционально острые и увлекательные споры в пространстве мысли и духа и сегодня, спустя десятилетия, выступают как «зажженные светы». Мысль и стремление к личной свободе, видимо, нельзя полностью истребить из человеческой популяции.
Начиная с 30-х годов были лишь единичные случаи, когда ученые позволяли себе попытки выходить за пределы идеологических резерваций. В области естественных наук – это Павлов в его протестующих письмах в Совнарком и Вернадский в его научно-философских работах. Но все это оставалось никому не известным. И вот, пожалуй, Любищев был первым, кто, начиная с 1953 года, открыто решился на критику идеологических и философских устоев режима. Сначала это были научные и научно-публицистические статьи против лысенковщины. Любищев рассылал их в руководящие наукой инстанции, в редакции газет, многим своим коллегам, подчеркивая их открытость для чтения и распространения. Хотя при жизни Любищева ничего из его научной публицистики не было опубликовано, она неявно сыграла важную роль в антилысенковском противостоянии (см.: Любищев А. А. В защиту науки. Л.: Наука, 1990). Догматическое казенное представление режима о «двух лагерях» в философии и науке настолько отвращало Любищева, что он в пику казенщине открыто называл себя идеалистом. Сейчас уже трудно представить драматизм ситуации, в которой очутился Любищев в 50-е годы, с открытым забралом вступившись за генетику и науку вообще, где абсолютное большинство честных ученых, находясь под мощным прессом официальной идеологии, не делали различий между противоположениями типа «научный – ненаучный» и «материализм – идеализм».
Достоевский оставил нам «Дневник писателя», читая который мы погружаемся в острые идейные и этико-философские споры, волновавшие русское общество в пореформенный период XIX века. Особенностью «Дневника писателя» была его публицистичность, ориентация на диалог с читателем, исповедально-раскованный эмоциональный стиль. Из творческого наследия Любищева может быть составлен аналогичный «Дневник ученого». Ибо не было ни одного серьезного события, ни одной заметной книги или статьи на протяжении более двух десятилетий послевоенного времени, которые остались бы без внимания Любищева в его письмах, заметках, эссе. С тем только важным различием, что Достоевский вел свой дневник и диалоги с читателями в открыто издаваемом журнале «Гражданин», редактором которого он стал в декабре 1873 года. А Любищев спустя почти сто лет отстукивал свои заметки-эссе на драндулетной пишущей машинке на тонкой папиросной бумаге (постоянно в поисках копирки) и рассылал их своим друзьям и корреспондентам, а иногда в некоторые редакции, как отклик читателя без надежды на публикацию. Эпистолярная публицистика Любищева распространялась в научном сообществе по типу самиздата и способствовала преодолению «разрухи в головах».
Писатель Даниил Гранин, автор первой книги о Любищеве «Эта странная жизнь», вышедшей еще в 1974 году, размышлял спустя двадцать лет, почему при нынешнем потоке гласности и остроте публикаций мысль Любищева сохраняет неубывающую свежесть: «Она покоряет не столько смелостью, сколько внутренней свободой, нравственным достоинством и прежде всего совершенно своеобразной точкой зрения… Суждения его куда более независимы, чем наши нынешние, казалось бы, получившие волю». Есть такое понятие в индийской философии – сатъяграха – упорство и бесстрашие в искании истины, отказ следовать порядкам и выполнять действия, которые нельзя принять на моральной основе. Сатъяграха входило в кредо Махатмы Ганди, и недаром его философия и действия были близки Любищеву.
В настоящем томе эссе и заметки из творческого наследия Любищева сгруппированы в три раздела. В первый из них – «Историческая публицистика» – вошли размышления Любищева так или иначе связанные с одними из самых катастрофичных событий мировой новейшей истории. Это Вторая мировая война («Мысли о Нюрнбергском процессе»), это геноцид армянского народа в начале XX века, предтеча гитлеровского геноцида («О романе Франца Верфеля „Сорок дней Муса-Дага“»), это французская революция с ее массовым террором, ставшим как бы репетицией и оправданием большевистского террора («В. Гюго. „Девяносто третий год“»). Сюда же мы включили размышления Любищева об идеологии Сент-Экзюпери, написанные им в 1960-м году после прочтения записных книжек писателя, вышедших во Франции в 1953 году. Парадоксальные, глубокие и в то же время по-французски изящные заметки Сент-Экзюпери о судьбах цивилизации в XX веке произвели глубокое впечатление на Любищева и послужили ему поводом для бесстрашного для его времени сопоставления сталинизма и гитлеризма и осмысления трагического опыта построения советского варианта социализма. Наконец, в этот же раздел мы включили написанное в один присест в типичном любищевском стиле эссе «Апология Марфы Борецкой» – о переломном моменте в русской истории, о чем Любищев, следуя А. К. Толстому, писал в другом эссе так: «Разгром Новгорода – несчастье не только для Новгорода, но и для всего русского народа и даже отчасти для всего человечества» («Если бы» // «Звезда». № 10, 1999).
Во второй раздел «Идейное наследие русской литературы» включены размышления по поводу творчества ряда классиков русской литературы, роль которой в формировании русского общественного сознания была необыкновенно велика, затмевая и историю, и философию. Но при этом нередко убеждения чувств подменяли убеждения разума и в таком виде передавались из поколения в поколение. Критический анализ Любищева безусловно не утратил актуальности и оригинальности. В третий раздел, условно названный «Двух станов не боец», включены десять самых разных мини-эссе Любищева. Как по каплям воды можно узнать вкус моря, так и читателю эти мини-эссе помогут соприкоснуться с духовным миром, стилем жизни и творчества Любищева.
М. Д. Голубовский
Е. А. Равдель (урожд. Любищева)
Александр Александрович Любищев
(1890–1972)
(Биографический очерк)
31 августа 1972 года умер мой отец, Александр Александрович Любищев. Его смерть была всеми воспринята как внезапная катастрофа – он не был постепенно угасающим старцем, кончина которого ожидается закономерно. До конца своих дней отец был таким, как всю жизнь – человеком разумным и добрым. Он считался очень здоровым и, хотя с 1969 года ходил на костылях вследствие перенесенной травмы, перелома шейки бедра, все близкие так же, как и он сам, надеялись на его силы и крепость. Отец думал, что сможет прожить дольше, как и его отец, мой дед, т. е. до 87 лет, по крайней мере. Но его настигла тяжелая болезнь, о которой никто не подозревал.
В начале августа 1972 года он поехал с женой в г. Тольятти по приглашению директора Биостанции АН СССР, Николая Андреевича Дзюбана. Там он должен был прочесть небольшой цикл лекций, но успел – только одну: в ночь после выступления он заболел и сразу же был помещен в больницу, где его положение было признано тяжелым. Рано утром 25 августа я прилетела в Тольятти и провела с ним последние семь дней его жизни.
Похоронили его там же, в Тольятти; дирекция и сотрудники Биостанции взяли на себя все организационные хлопоты; тело его предано земле там, куда он приехал, полный энергии, полемического пыла и творческих планов. Гроб с телом отца стоял сначала на крыльце Биостанции над Волгой, где и произошло прощание; было сказано много проникновенных и умных слов…
Поскольку наука никогда не была моей профессией, мне не удастся рассказать о работе отца так, как это могут и уже делают ученые, но мы с ним всегда были очень близки духовно, он много общался со мной и моими братьями.
Я постараюсь рассказать о жизни моего отца – по мере моих сил и осведомленности.
I. Петербург-Петроград
Отец родился в Петербурге 5 апреля 1890 года в семье очень богатого лесопромышленника, жившей в собственном доме на Греческом проспекте в огромной квартире со множеством прислуги. Образ жизни этой семьи был обычным для петербургской крупной буржуазии. Благополучие, основанное на частной собственности, насколько мне известно, стало у отца с раннего детства вызывать протест. Но отца своего он любил, с уважением относился к его активной деятельности, к его религиозности и положительным чертам его характера – доброте, щедрости и здравому смыслу. Мать отца, моя бабушка, по его рассказам не выглядела привлекательной в своем образе мыслей и поступках, хотя ничего особенно дурного в ней не было. Самой отрицательной чертой вообще, и в ней в частности, отец считал равнодушие к судьбам других, «не своих» людей. Несогласия отца с родителями не выражались в скандалах и криках, не было и споров. Примерно с одиннадцати лет он установил для себя свой собственный режим жизни, занятий и развлечений. В семье, например, выполнялись церковные обряды, регулярно посещалась церковь. Отец мой рано от этого отказался; мой дед часто потом вспоминал, что это делалось отцом не в оскорбительной форме, а так, что причины отказа вызывали уважение – он «всегда был занят».
Учился отец в 3-м Реальном училище. С очень раннего возраста он избрал себе определенный научный путь, разделил все области знания и культуры на обязательные для себя и ненужные. К последним он отнес тогда полностью всю художественную литературу, театр, искусство. В те времена многое в человеческой культуре он считал порождением «буржуазного образа жизни и праздных вкусов».
Отец избегал пользоваться услугами горничных, сумел добиться у родителей переустройства комнат для прислуги. От забот своей матери об его одежде, устройстве и комфорте он рано и решительно уклонился. По его рассказам я знаю, что тогда он считал корнем всех бедствий человечества частную собственность, называя ее воровством. По сбивчивым и путаным позднейшим рассказам бывших горничных их дома я знаю, что отец и перед ними, молодыми тогда девушками, развивал свои идеи. Но из дома он не ушел… И жил, хотя и ограничив себя скромными рамками, на «прибавочную стоимость». Потом в нашей семье, когда мы стали подрастать и обобщать виденное и слышанное, это выражение стало предметом для шуток.
Занимался отец очень много. Еще мальчиком он преуспел в определении насекомых и изучил серьезные труды по естествознанию. В школе выделялся математическими способностями, ему прочили карьеру именно в точных науках. В классе он был первым учеником, училище окончил с золотой медалью. К истории и литературе интереса не проявлял и ничем тогда в этих отраслях знания не отличался. Но он не считал это пробелом в своем образовании, так как не находил возможным тратить время и силы, предназначенные только науке, на такие «неважные» вещи, как художественная литература и история. И как это изменилось потом!
Отец много занимался с отстающими учениками, своими товарищами. Он потом говорил нам, что это было для него чрезвычайно полезно и вполне заменило ему подготовку заданий и проработку обязательных программ.
Обучение в 3-м Реальном училище Петербурга отец считал хорошим. В статье «О школе» (1953) он во многом ссылается на свой собственный ученический опыт. Метод обучения, система заданий и проверки, даже учебные программы, он находил целесообразными и хорошо продуманными. Ничем лишним учеников не обременяли. В особенности развитию отвлеченного мышления способствовало писание сочинений на заданные темы, смысл которых надо было сначала самому «раскрыть» и дать собственное толкование. Курс математики был обширный, в последних классах проходили начала дифференциального исчисления и аналитической геометрии. Требования были очень высокими. В классе, где учился мой отец, из 25 человек в первом классе до конца дошли без отставания всего пять человек. Конечно, отец понимал, что условия тогда были совсем другими, обучение не носило массового характера, как сейчас, но, тем не менее, многое из системы 3-го Реального училища отец считал возможным поставить в пример современной организации образования.
Никого из школьных товарищей отца я не знаю. Все они рассеялись, никаких связей у нас с ними не сохранилось. Вероятно, отец отличался от большинства школьников своими склонностями, занятиями и образом жизни. Спорт он, однако, очень любил, особенно лыжи и коньки. Как он сам рассказывал, в зимние каникулы он обычно уезжал на родительскую дачу в Териоках (Зеленогорск), ходил там на лыжах и таким образом избегал общества, собиравшегося на праздниках в доме. Этого общества отец чуждался, даже несколько презирал барский его уклад. Некоторые из бывших служащих моего деда рассказывали мне в тридцатых годах, что старшего сына деда они даже толком не знали, так он был от всего далек, так безучастен к делам семьи, но все знали, что он слывет «подрывателем основ», нигилистом.
Можно считать, что отец мой еще в средней школе сформировал планы и цели своего жизненного пути. Точно так же определился он и в отношении общественно-политических взглядов – стал решительным республиканцем и отрицателем права частной собственности. Но активно заниматься политикой ему было некогда – на это он также не отпустил себе времени.
В ранней юности отца в семью деда в качестве репетитора моих теток-гимназисток ходил студент-технолог, Леонид Иванович Елькин. Он был значительно старше моего отца, но они подружились, и эта дружба оказала большое влияние на формирование у отца революционных идей. Л. И. был «крайне левым», сторонником решительных действий. И был он в высшей степени светлой личностью, человеком высокого душевного благородства, самоотвержения и долга. Я познакомилась с ним в двадцатых годах, в Перми. Отголоски настроений того времени прошли через все наше детство. Революция избавила три поколения нашей семьи от «хлопот», от бремени собственности. С этой, весьма нешуточной собственностью (состояние моего деда перед революцией оценивалось в 30 миллионов рублей), почти все члены семьи расстались с легкостью и без сожаления, это я могу свидетельствовать с полной ответственностью… Само понятие собственности в семье моего отца для нас, детей, стало звучать как нечто совершенно порочное. Детским ругательством стало слово «собственник». Такое умонастроение возникло, конечно, под влиянием некоторых, очень лаконичных, замечаний отца, – ведь понять смысл его мировоззрения мы смогли только гораздо позже. Я и теперь часто спрашиваю себя, в чем же была сила этого влияния – ведь с отцом мы бывали очень мало, большей частью с нами находились разные няни, иногда бабушка.
Думаю, что сила идей разума и справедливости даже для маленьких детей была покоряющей и очевидной. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног…», – воодушевлено пел нам папа. И мы «со страшной силой» отрекались и отрясали…
Впрочем, это относится ко временам гораздо более поздним, т. е. к двадцатым годам, а в годы, когда происходило духовное становление отца, т. е. задолго до революции, нас ведь и на свете еще не было.
Окончив Реальное училище, отец в 1906 году поступил в Петербургский университет. (Стоит добавить, что в реальных училищах не было древних языков – латыни и греческого, но была обширная программа по математике, физике и естественным наукам.) Отец имел право без экзаменов поступать в любой технический ВУЗ того времени – Горный, Путейский, Политехнический, Технологический и др. Но он захотел идти в университет, для этого ему пришлось сдать гимназический курс латыни. За лето он подготовился и сдал отлично, поступив на физико-математический факультет, естественное отделение. К латыни он с тех пор пристрастился и всю жизнь много работал с источниками на этом языке. К моменту поступления в университет отец уже был (в 16 лет!) очень образованным человеком в области естественных наук. К тому же, в детстве и в школе он в достаточной мере овладел французским и немецким языками; «Анну Каренину» он прочел в немецком переводе – для того, чтобы, знакомясь с классическим русским произведением, не терять зря времени и заодно практиковаться в немецком языке, необходимом для науки. «Анну Каренину» он нашел скучным и заурядным образцом беллетристики.
Английский язык отец выучил позднее по собственному методу. Он заключался в том, что используются все «отбросы времени» – езда в трамваях, стояние в очередях и пр. – на чтение иностранных книг. Сначала, конечно, все будет непонятно, следует пользоваться словарем и ознакомиться с основами грамматики – все это делать «на ходу». А потом все время читать, читать и читать! «Постепенно, – говорил он, – словарный запас возрастет и уже не будет никаких затруднений. А говорить – вообще очень просто: надо начать письменно излагать содержание прочитанного, таким образом создастся привычка к составлению фраз, а уж говорить после этого – проще простого!»
Отец считал, что лучше всего он владеет именно английским. На этом языке он большей частью переписывался и разговаривал с иностранными учеными. Свободно читать он мог и на итальянском – позднее он прочитал в подлиннике «Божественную комедию» Данте (много споров у него возникло по поводу этого творения с близкими друзьями, даже конфликтов при оценке его значения). Не вызывала у него затруднений также литература на испанском, голландском и португальском языках. Он слыл всю жизнь полиглотом, был этим знаменит среди друзей и знакомых.
С ранней юности отец предназначил себя для науки. Он считал, что для этого необходимо строжайшим образом выделить себе то и только то, что знать обязательно, иначе не хватит жизни. Однако после тщательного отбора круг необходимых знаний оказался столь широким, что стала ясной неизбежность наиболее полного и целесообразного использования времени, отпущенного на жизнь, – в этом отец видел свой непременный долг. В своем дневнике он писал: «Если я хочу совершить то, о чем мечтаю, то необходима строгая планомерность и расчетливость в пользовании временем… это значительно увеличило бы мою работоспособность».
В университете отец работал по морфологии полихет в лаборатории профессора В. Т. Шевякова и побывал на практике на морских зоологических станциях в Неаполе (1909) и в Виллафранке (1910). В Неаполе он был со своим товарищем по университету и другом, Иваном Николаевичем Филиппьевым. Первая научная статья отца была опубликована в 1912 году в трудах Неаполитанской станции (1).[1]
В 1911 году отец окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета с дипломом первой степени. Темой его дипломной работы было сочинение «О перитонеальных мерцательных клетках и окологлоточной перепонке у полиноид» (2).
По окончании курса летом 1912 года он работал на Мурманской биостанции в г. Александровке, заведовал которой Герман Александрович Клюге. Вместе с отцом там работали его университетские друзья: В. Н. Беклемишев, Д. М. Федотов, И. И. Соколов, Б. Н. Шванвич, С. И. Малышев и многие другие. О мурманской жизни мне приходилось слышать много от моего отца и его товарищей. Сохранилось много фотографий того времени. Все они жили вместе, работали много и самозабвенно. Они и развлекались, совершая длительные экспедиции по Кольскому полуострову, плавали на морских лодках, купались в Екатерининской гавани в восьмиградусной воде и потому называли себя моржами. В их рассказах вставал перед нами Ледовитый океан, скалистый холодный полуостров, своеобразие и необычность добывавших там тогда рыбу суровых поморов; мне и теперь кажется, что я вижу Мурман – так называлось тогда Мурманское побережье Баренцева моря.
В те годы в числе близких друзей отца было два замечательных человека: Константин Николаевич Давыдов и Виталий Александрович Исаев. К. Н. Давыдов в двадцатых годах уехал во Францию, но до самой смерти своей в 1960 году он переписывался с отцом. Об этом рассказано в «Воспоминаниях о К. Н. Давыдове» (1964). В. А. Исаев был убит на Кавказе в 1926 году в самом расцвете жизни.
Вскоре после окончания университета отец женился на моей матери, Валентине Николаевне Дроздовой. Она была дочерью священника, митрофорного протоиерея, настоятеля Пантелеймоновской церкви и профессора Духовной Академии в Петербурге. Мать моя окончила Высшие Женские Архитектурные курсы Багаевой при Академии Художеств, это был первый в мире выпуск женщин-зодчих, о чем даже выспренне писали заграничные журналы. Право на инженерную деятельность они имели почти наравне с мужчинами: почти – потому, что какие-то ограничения все же были, и именно по этому поводу некоторые активистки курсов ходили скандалить в Государственную Думу. Мама сразу после окончания поступила на службу в студию архитектора Шмидта. Она свободно владела французским и немецким языками, прекрасно рисовала и вполне владела, кажется, своим ремеслом. Отец познакомился с нею в поезде Петербург-Териоки; случайное знакомство сыграло очень важную роль в жизни и чувствах отца. В матери он увидел особу нового типа, свободную женщину, достойную почитания. По рассказам отца, когда они, катаясь на лодке, попали в сильную бурю, мама моя «не визжала и не падала в обморок»… Вероятно, роман моих родителей объясняется гораздо проще и естественнее: отец был совершенно неискушенным в амурных делах скромным молодым человеком, а мама – красива и молода. До этого он избегал общества вообще и, в частности, того, которое собиралось у них в доме, в том числе и девушек своего возраста. Все они виделись ему совершенно чужими, он не находил с ними никаких общих интересов, все в них казалось ему суетным и узким. Он был, как я уже упоминала, очень скромен и не стремился «обличать нравы», но несомненно, судя по его рассказам, у него было чувство пренебрежения к «буржуазному обществу». В ранней юности на него сильное впечатление произвел Писарев, особенно его «Крушение эстетики». Идеи нигилизма, стремление к упрощению жизни и привычек под эгидой высоких целей, установление социального равенства – были лейтмотивом психологии отца в его юности и молодости. Кроме того, он считал себя некрасивым и неинтересным, полагая, что ничем не сможет заинтересовать женщину. Впрочем, эти мысли не тяготили его, и он не видел в этом трагедии – он пришел к такому выводу и остался спокоен. И действительно, внешне он, как мне рассказывали другие, выглядел «непрезентабельно»: большой, сильный, небрежный в манерах, в потрепанной университетской тужурке, в университет ходил пешком, никогда не пользуясь отцовскими выездами, и выглядел обычным, даже нуждающимся студентом; многие, оказывается, таким его и считали.



