
Александр Александрович
Записки певца. Воспоминания прославленного тенора, артиста оперы Мариинского театра, участника «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже и Лондоне
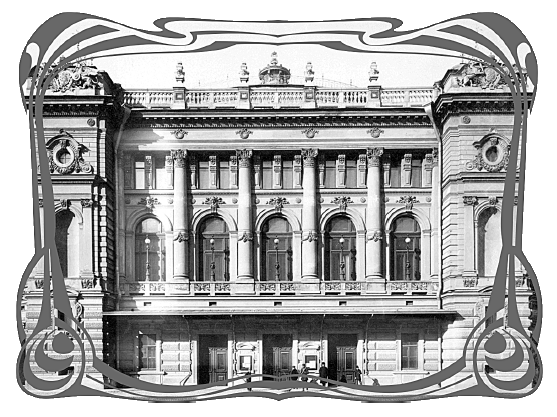
Светлой памяти моей матери
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2024

Введение
Все и всегда обращаются к певцу с просьбой не только спеть, но и рассказать что-нибудь.
Артисту, говорят, есть что рассказать… Он столько видит… Он встречает таких людей, о знакомстве с которыми представителям иных профессий и мечтать не приходится.
Жизнь артиста полна приключений, – то веселых и занимательных, а то чуть не трагических…
Радость, горе и все страсти человеческие нигде так ярко не выражены, как именно в жизни артиста…
А иногда и к психике человеческой артисту удается подойти ближе, чем кому бы то ни было… И т. д. и т. п.
Я не берусь судить – справедливо ли и верно ли все это… Это не мои мысли. В особенности меня смущает последнее положение – о подходе к человеческой психике. Но я знаю по опыту, что певцу иногда приходится и рассказывать. И некоторые наши рассказы – и мои в частности – интересуют людей, их советуют записывать, «чтоб не пропадали».
В результате попадаешься на эту удочку и ловишь себя на том, что, примерно на сорок третьем году профессиональной артистической деятельности, берешься за перо и впрямь пробуешь записывать все, что вспоминается из прошлого, – и дело, и безделье, и стоящее, и «так себе», – все!.. И получается довольно большой материал – нечто вроде «записок певца», да еще певца-то русского. А у нас, у русских, все ведь как-то «не так, как у людей». У нас во всем столько необычного, странного, крайнего, – некоторые говорят даже «дикого» и, во всяком случае, своеобразного, непохожего на других…
Хорошо ли все это?.. Это вопрос, конечно, другой. Но все-таки это – так, и в связи с этим мне приходится подчеркнуть, что и моя жизнь, а в ней и мое прошлое, и весь мой артистический путь совсем не похож на путь обычный.
Я, например, не только не готовил себя к артистической деятельности, но я никогда себе и не представлял, что смогу быть артистом. Мне казалось, что это не для меня. Я с малых лет был конфузлив, застенчив, боялся обращать на себя внимание, быть заметным, и я всегда и все уступал другим.
Да и склонности к артистизму я в себе не чувствовал, как не чувствовал и вообще никаких склонностей. Я рос, как все растут, самым обыкновенным ребенком, ничем особенно не интересуясь.
Только в университете я стал как будто интересоваться наукой. Но по окончании его вдруг резко повернул в сторону и, почти сам того не заметив, очутился… на императорской сцене, да еще, как говорится, «на теноровом положении»… Одно это уже «ни на что ведь не похоже».
И в дальнейшем я тоже пошел каким-то необычным путем. Меня слишком баловала судьба, и мне как-то особенно повезло. Несмотря на то что специальной подготовки для работы на большой сцене у меня не было (в консерватории я не учился, в театральном училище не состоял), все же в театре я удержался (а это часто бывало труднее, чем в него попасть). А одновременно и вне театра я попал в такие музыкальные круги и прикоснулся к таким вершинам искусства, что теперь все больше и больше прихожу к заключению, будто я «родился в рубашке»…
Однако я видел не только счастливые дни. Мне пришлось принадлежать пению и в годины небывалых потрясений родины (например, начиная с Первой мировой войны 14–18 гг.), а позже идейно работать среди бушующего народа…
Еще позже, когда я очутился за рубежом и в профессиональной области остался «один как перст», мне пришлось, что называется, «закусить удила» и за границей развить самостоятельную деятельность. Не бог весть как она значительна, но по своему характеру и по некоторым результатам она заключает в себе кое-что любопытное.
Исходя из всего этого и задумываясь сейчас над тем, о чем, собственно, собираюсь рассказывать в своих «записках», скажу так: прежде всего я постараюсь коснуться того, что у нас было хорошего в былой России, и постепенно перейти к тому, что уцелело от него и что пригодилось потом при работе за границей.
И не хочется мне пока ничего выделять. Буду рассказывать в некоторой последовательности решительно обо всем, но не гоняясь за строгой хронологичностью.
Разумеется, мне придется говорить и о себе, но не о том как и где я пел, каким пользовался успехом, а о том, главным образом, в какие условия я попадал и что и где я, благодаря артистической профессии, видел и наблюдал…
Ну, так с Богом, благословясь!..
Испанский дворец. Эпизод
Однажды (еще при короле Альфонсе XIII и королеве Виктории) мы пели в Королевском театре в Испании. Дело было зимой в разгар сезона, и мы целой труппой почти два месяца жили в Мадриде.
Придворному капельмейстеру и дирижеру Королевской оперы сеньору Сакко дель Вале пришло в голову предложить мне с двумя товарищами, С.В. Шумовым и К.Д. Запорожцем, спеть в дворцовой церкви за богослужением 2 февраля в день тамошнего праздника Пресвятой Девы.
– Выберем, – сказал он, – хорошую музыку и споете… Стеснять вас ничем не будем, – пойте как хотите!.. А поместитесь на хорах. Заодно оттуда все и увидите!.. В храме будет большое торжество – не пожалеете!..
Разумеется, мы с радостью согласились, тем более что он нам предложил поистине прекрасную музыку – трио «Sanctus» и «Benedictus» для мужских голосов a capella (т. е. без аккомпанемента), сочинения некоего Loebmann’а.
Она не показалась нам трудной, и мы с третьей, сколько помнится, репетиции пели ее совершенно свободно и наизусть.
В назначенное время к нашему отелю был подан особый почетный экипаж, запряженный мулами (это считалось там особенно приличествующим случаю), и нас повезли во дворец (он был, впрочем, недалеко).
Во дворцовой церкви на хорах собралось до нас человек двадцать хористов – с ними дирижер и органист.
Когда мы появились среди них, нам показалось, что все они по отношению к нам настроены недружелюбно, – ни тени привета, смешки украдкой, косые взгляды.
Оглядевшись немного, мы сняли верхнее платье, остались в черных пиджаках и поместились на отведенном нам месте – впереди всех у перил. Как раз в этот момент начинался торжественный вход в церковь королевской четы и ее свиты… Зрелище действительно исключительное… Все были, я бы сказал, нарочито костюмированы по-старинному. В глаза бросалась благородная игра красок. Преобладало темно-малиновое с золотом и белое. Мужчины – в коротких панталонах, чулках и туфлях. Дамы – в светлых сборчатых платьях, с большими стоячими гребнями и – непременно – с косынками, по-тамошнему – «мантильями», на головах. Ох уж эти мне «мантильи»! Из-за них жена моя, тоже приглашенная во дворец, не попала в него и не видела замечательного зрелища. Своей мантильи у нее не было, занимать у чужих постеснялась… Появиться же во дворце без этого убора было бы дерзостью… Так она и просидела дома!..
Король (если не изменяет мне память) был в голубом мундире. Он вошел один, держа «наперевес» большую, едва ли не в метр длиною, толстую зажженную восковую свечу.
Королева же – в белом – появилась в сопровождении придворных дам. Все – тоже со свечами.
Следом за ними стали входить поодиночке министры и вельможи, и каждый из них особым поклоном – очень старым, с приседанием – приветствовал короля и королеву, – каждого порознь. Я после изображал всю эту церемонию в движениях.
Затем началось богослужение, отличавшееся большой торжественностью. Множество духовенства. Красные мантии кардиналов. Прекрасное пение хора на фоне органа.
Но вот служба подошла к месту, соответствующему нашей православной «Милости мира», и нам дали знак начинать.
В полной торжества тишине и в сознании ответственности минуты я задал тон, и мы запели[1]. Пели мы просто и строго, без вычур, без аффектации, стараясь чутко прислушиваться друг к другу и не выделяясь индивидуально, т. е. пели так, как и полагается петь ансамблю.
И когда мы кончили, служба продолжалась своим чередом, как будто ее хода ничто и не нарушало.
Через некоторое время кончилась и служба. После нее мы еще раз наблюдали церемонию выхода из храма, не менее характерную, чем вход.
Когда, наконец, все ушли и церковь опустела, стали собираться уходить и мы, но задержались на хорах, впившись глазами в огромную, толстую, изумительную (цены ей нет!) церковную книгу, лежавшую на особом, тоже очень большом и высоком аналое. По ней певчие и пели во время службы.
Книга поистине замечательная. Она в чудесном кожаном переплете, листы ее из специального толстого пергамента, текст – крупными латинскими буквами, а ноты еще крупнее, квадратной формы.
Пока мы рассматривали книгу и любовались ею, нас незаметно окружили хористы. К нашему удивлению, у них – совсем иные, чем прежде, при нашем появлении на хорах, лица. У многих горят глаза. Пытаются заговорить с нами на ужасающем французском языке. Наконец, они решились-таки спросить нас:
– Где вы научились так хорошо петь?
– В России, – говорим, – ведь мы русские.
– Да, мы знаем! Но нашу-то музыку где изучали?
– Как где? – отвечаем. – Мы специально ее совсем не изучали. Нам дали ноты, мы спелись, и вот пришли сюда, чтобы спеть здесь.
– Но ведь вы пели на чужом для вас языке, без аккомпанемента, и никто вами не управлял! Откуда же у вас такая свобода и непринужденность исполнения? А главное – такая точность и чистота интонации и такая слитность пения?.. Поете, точно не трое, а один человек поет! Признаться, нам так не спеть!..
Мы улыбнулись, поблагодарили за комплимент и снова ответили, что мы – из России и там привыкли именно так петь. Мы с малых лет без аккомпанемента поем.
– Но ведь это там у вас, дома, где вы поете вашу родную, привычную для вас музыку! А здесь-то как – чужую для вас, католическую?..
Разговор наш чем дальше, тем все больше не клеился. Как ни объясняли мы испанцам, что мы с малых лет певуны, что нам все равно, что петь, – свое или чужое, – они не могли взять в толк, как это так: русские, а могут петь и нерусское, да еще строгое, выдержанное по стилю и… по-латыни?
– Мы, – сказали нам испанцы в заключение, – и представить себе не можем, что получилось бы, если бы нам пришлось петь вашу музыку, в вашей стране, по-русски…
Беседа наша так ничем и не кончилась, мы не договорились. Но, встретившись почти врагами, расстались друзьями. Нас провожали полные удивления восторженные, возбужденные лица, дружеские пожатия рук, приветы и даже благодарности.
Позже официальным путем мы получили официальную благодарность их величеств: «Expresivas gracias por la amable actuacion tomada en la Capilla publica del dia 2 del actual en que tan admirablemente canto…»[2]
Этот небольшой эпизод для меня лично – полон значения. Для меня это не частный случай оценки русских певцов испанскими хористами, а отражение общего отношения Западной Европы к нам – русским. Европа раньше нас не знала и с нами почти не сталкивалась. Когда же столкнулась, то не сумела посмотреть на нас иначе, как свысока.
– Что? Русский? Певец? Ну, пусть споет что-нибудь «русское»! – говорила Европа.
Прикосновения к своему, к общеевропейскому с нашей стороны она не допускала («где же, мол, им?»), а вернее, что попросту этим не интересовалась.
Однако не всегда и не везде дело обстояло именно так, как она хотела. Иногда русскому певцу удавалось, что называется, «проскочить через запретную зону» вопреки желаниям и ожиданиям европейской публики и неплохо исполнить и не свое, не русское. Вот тогда Европа широко открывала удивленные глаза и не могла взять в толк, что перед ней за явление.
«Это что-то непостижимое, – твердила она. – Русские совершенно не похожи на европейцев. Но с европейской музыкой они обращаются, как со своей, и им, действительно, все равно, что петь, на каком языке».
Подобное отношение к нашей «русскости» мне приходилось наблюдать на других и испытывать на себе несчетное число раз в разных странах. В дальнейшем об этом предстоит немало рассказывать (вернусь еще к Испании и к испанскому дворцу). Пока же скажу, что Ф.И. Шаляпину и тому Европа «милостиво разрешала» петь лишь русское (чаще всего «Бориса Годунова»). Нерусские же его партии нисколько не интересовали Европу, и, например, его непревзойденный Мефистофель так и остался неизвестным Европе…
Миланский театр La Scala не в счет, разумеется. Этот театр вообще исключение, а у Шаляпина в нем были и особые обстоятельства, помогавшие делу.
В России до революции
Детство и юность в провинции
Итак, умение русских петь ансамбли удивляло и восхищало Европу. Но мы сами часто ничего особенного в этом не находили. Для нас это было делом привычным и обыкновенным. Мы, действительно, с малых лет ему учились, и даже не специально, а «походя», «между прочим» и не отдавая себе отчета в значительности этого.
Не все, разумеется, становились певцами-профессионалами, но все мы с детства были окружены ансамбльным пением, постоянно слышали его, привыкали разбираться в нем, понимать в нем толк и понемногу сами в него втягивались.
Конечно, это прежде всего относилось к церковному пению. Как его много было в России и какую громадную роль играло оно в жизни русской!
Помню себя ребенком и юношей. Я рос в самом центре России, на Волге, в провинциальном, но чудесном городе – Нижнем Новгороде («красавец-город», «золотые маковки», старинный, богатейший, расположенный «на горах» при впадении Оки в Волгу). В нем насчитывалось около 150 тысяч жителей, и было что-то около тридцати либо сорока церквей, и в каждой по хору. Все они не только пели, но и состязались друг с другом, – можно было ходить и сравнивать, где поют лучше.
И у каждого из нас были не только любимые регенты, но и любимые песнопения, которые мы стремились пойти послушать. А после, дома, сами пробовали так спеть…
Не знаю сам почему, но я с самого раннего детства не любил, когда в церкви поют громко. Мне не нравилось рыкание басов, сотрясение сводов храма и прочее. Бессознательно, но я считал это оскорбительным для богослужения.
«Служить Богу изо всей силы нельзя. Да и ангелы так никогда не поют», – думал я.
А мне всегда внушалось, что лучшее пение – ангельское. Я его и искал в церкви.
Я безумно любил, например, пение мальчиков-«исполлатчиков» за архиерейским служением. Это трио из детских голосов – 1-й дискант, 2-й дискант и альт, – конечно, лучшие из состава хора. Они – в стихарях в соответствующие моменты богослужения выходили то на амвон, то на средину храма и пели именно как ангелы. Если же пел хор, то я всегда хотел, чтобы он был большим – «много ангелов», но чтобы пел стройно и тихо, а местами и едва слышно.
Никуда меня так не тянуло, бывало, как в наш чудный большой собор ко всенощной, когда там пели архиерейские певчие. Ими управлял тогда совершенно исключительный регент-художник Ремизов, принявший позже священнический сан и так в рясе и дирижировавший. Он никогда не щеголял никакими эффектами. Он держался простого и строгого как в выборе песнопений, так и в исполнении.
И мне вот до сих пор кажется, будто я слышу, как в огромном полуосвещенном соборном храме раздаются сдержанные звуки Предначинательного псалма – «Благослови, душе моя, Господа» – в начале всенощной и последующие за этим: «Блажен муж», «Господи, воззвах к Тебе», «Свете тихий», так называемое простое «Хвалите имя Господне» и прочее.
В этих песнопениях нет ничего, кроме углубленной молитвенной созерцательности и необыкновенной простоты музыкальной формы, но производить ими впечатление может только тот, кто постиг тайну исполнения. Любимый мой регент знал эту тайну и достигал того, что люди слушали именно эти простые песнопения и заслушивались и предпочитали их всяким другим – сложным и вычурным.
Позже, когда вырос и стал артистом, я понял, что у меня, у маленького, «губа была не дура», – мне нравилось, оказывается, самое трудное, но и самое ценное в исполнении – так называемое sostenuto (т. е. сдержанность). Накричать-то каждый может, это легко. А вот попробуй-ка сдержать голос и темперамент и попытайся создать настроение, не прибегая к приемам ослепления слушателя – к вычурности, к контрастности и прочему. И ты увидишь – как это трудно… Это доступно лишь крупным художникам!
Вспоминая все это, я не могу не упомянуть, как увлекался я исполнением и иных («партесных») произведений нашим архиерейским хором. Как я любил, например, и литургию и в ней простейшую из всех Старо-симоновскую Херувимскую, или Херувимскую же Львовского (греческого распева), или тоже Херувимские – так называемую на «Да молчит», или на «Тебе одеющегося светом», или «Милость мира» ярославского распева в переложении Львова. А песнопения Великого поста – «Помощник и покровитель», «Да исправится молитва моя», «Ныне силы небесные» и даже великопостное «Господи, помилуй», «Подай, Господи», и в особенности Страстной седмицы «Аллилуйя», «Се жених грядет в полунощи», «Егда славнии ученицы», «Вечери Твоея тайныя», «Благообразный Иосиф» и другие.
А изумительные напевы нашей, как Ф.И. Шаляпин выразился, «лучшей в мире» панихиды и чина погребения!
Когда хоронили императора Александра III, заупокойные богослужения шли у нас в соборе в продолжение целой недели ежедневно.
Я, будучи мальчиком-гимназистом 13 лет, не пропустил ни одного из них и буквально упивался исполнением архиерейского хора. Тогда, сверх обычных песнопений – «Аллилуйя», «Благословен еси, Господи», «Со святыми упокой», «Со духи праведных скончавшихся», «Вечная память» – открылись для меня еще и другие, например, «Покой, Спасе наш, с праведными» (если не ошибаюсь, болгарского распева) или «Блажени, яже избрал и приял еси, Господи», – кажется, написанное на смерть императора Александра II.
Все вспомнившиеся мне сейчас песнопения составляют для меня по сию пору нечто драгоценнейшее. Я называю их жемчужинами православного пения и стараюсь непременно услышать, когда их поют. Если же это не удается, то я сам в соответствующие моменты сажусь за рояль и проигрываю их изумительную музыку. И слезы умиления у меня при этом – градом! Но я даже и не стараюсь их удерживать.
Само собою разумеется, что мне, ребенку, не по силам было разыскивать жемчужины самостоятельно и тем более преуспевать в этом. У меня были руководители – мои старшие братья.
Одному из них, Константину, я обязан тем, что научился «не скучать в церкви», не переминаться за богослужением с ноги на ногу и не спрашивать себя и других – скоро ли кончится служба. Он научил меня следить за действиями священнослужителей и отдавать себе отчет в том, что в каждый момент за богослужением совершается, – почему открылись или закрылись Царские врата?.. Что означает хождение по всей церкви?.. Для чего зажигают паникадило?
Будучи еще совсем маленьким, 6–7 лет, я любил с братом ходить на «Страсти Господни» и внимательно слушать, что читает священник.
С ним в ночь с Великой пятницы на Великую субботу я деловито поднимался в половине второго утра и торопился не опоздать к заутрене – «хоронить Христа».
С ним же с восторгом смотрел – и видел, – как в Пасху «играет солнышко», тоже славящее Воскресение Христово.
Великое дело – уметь видеть это!
С двумя другими братьями я пел. Со старшим, Владимиром, преимущественно церковное. Он-то и обращал мое внимание на стоящее и углубленное – развивал мой вкус.
Средний же брат, Николай, будучи певуном-любителем и в то же время «сорвиголовой», а в моих глазах, конечно, «героем», увлекал меня светским пением. У него был недурной баритон, и он любил петь и нравился, особенно барышням. Они находили, что он очень хорошо поет, с чувством, «замечательно». Я же считал, что, попросту, никому так не спеть, как он поет.
Чего-чего только не приносил он домой, – и оперные арии, и романсы, и куплеты, и ансамбли (дуэты, трио и проч.), и даже хоровые произведения, будь то снова из опер или репертуар ресторанов, редко-редко нечто якобы народное.
Все это я у него прослушивал и, что мог, пел вместе с ним. Мы пели без разбору, что придется, но предпочитали мелодичное, певучее, лирическое. А я так тяготел к грустному! Оно меня трогало и нравилось мне больше веселого, ухарского.
При этом мы увлекались не столько содержанием исполняемого, сколько музыкой ансамбльного пения. Слова казались второстепенными и – даже еще резче: если слова хороши, значит, плоха музыка.
И мы пели не в унисон, а непременно на два и на три голоса. Старший брат тоже подтягивал. У меня был тогда альт, я привыкал вторить, конечно без нот, по слуху. Но в общем мне было все равно, какую партию петь – «первого» голоса или «второго».
Репертуар наш складывался из вещей, пользовавшихся тогда (80-е годы и начало 90-х годов XIX столетия) чрезвычайной популярностью в России. Это – прежде всего романсы, которые знали, пели и любили петь все сколько-нибудь поющие горожане. Тогда ведь в каждом почти доме пели, – не ежедневно, а по субботам, когда, бывало, после всенощной приходили гости. Пели где под рояль, где под гитару, а где так, без всякого инструмента (по призыву: «Давайте споем что-нибудь хорошенькое»).
Пели на два, на три голоса и даже хором, нисколько не смущаясь тем, что, в сущности, сообразуясь с текстом, многое надо бы было петь одному, соло. Но опять-таки увлекала музыка, аккорд, ансамбль[3].
Как красиво, в самом деле, все это звучало, в особенности, на вольном воздухе, где-нибудь в саду, в беседке вечером или на лавочке, у ворот, а то на воде, с лодки. Чудно было все это. Каждый заслушивался.
Вспоминая наши юные увлечения ансамбльным пением, упомяну еще и о том, что позже, будучи уже артистом, я сталкивался с подобным же явлением среди профессионалов-артистов. Некоторые наши императорские артисты не смущаясь и публично пели, например, на три голоса «Я вас любил», «Я вновь пред тобою стою очарован», «Голубка моя, умчимся в края, где всё, как и ты, – совершенство» и проч. Несомненно, это все – остатки нашей старины, «музицирования», культа ансамблей в русских салонах начала XIX столетия.
Пение настолько меня, маленького, увлекало, что я сам по себе не прочь был бы устроиться и в профессиональный хор: у меня был хороший голос и слух, меня бы взяли. Я сильно мечтал об этом. Но об этом просто не могло быть и речи. Это было – во-первых, не нужно. А во-вторых, братья мои, сильно меня любившие, поставили мне ультиматум не петь даже в гимназическом хоре. «Иначе у тебя голоса потом не будет. Все прокричишь», – говорили они мне.
И они были правы. Я знаю многих, которые «прокричали». Я же стал петь в нашем гимназическом хоре лишь юношей, когда у меня стал обнаруживаться тенор. Любили мы и слушать, как другие поют, умелые.
Помню, я не пропустил, кажется, ни одного Народного утра, которые устраивались в городе каждое воскресенье.
Публики на этих Утрах бывало видимо-невидимо. За 10 и даже за 5 копеек вы получали место в зале и слушали одного из артистов местного театра. Читали что-нибудь из «Записок охотника» Тургенева, из Гоголя, Пушкина, Толстого, Гаршина, Короленко и даже Достоевского. При этом на экране показывались иллюстрирующие чтение световые картины. После же чтения, обыкновенно, была музыка, пел хор и солисты.
Репертуар пения хора был неприхотлив и складывался большею частью тоже из так называемых народных песен вроде «Под сосною, под зеленою», «Как на горе калина», «Вдоль по Питерской». Или из малорусских песен: «Гой, у лузи, тай при берези», «Ой, из-за горы та буйный витер вие», «Ихав козак за Дунай», «Ой, не ходы, Грыцю» и проч. Или с солистами: «Спится мне младешенькой, дремлется» и проч.
А то так пели и солисты под аккомпанемент рояля. Пели романсы Чайковского: «Благословляю вас, леса», «Разочарование», «Растворил я окно» и другие. Или оперные арии: «Куда вы удалились», «Бог всесильный» из «Фауста», или итальянские вещи, например, F.P. Tosti. «Vorrei morir, Denza».
Солировали обыкновенно лучшие голоса из хора и любители. Помню некоего тенора-семинариста. Блондин, в длиннополом сюртуке, худой, все время откашливался. Или другой – брюнет, франт, красавец, носил всегда белый галстух при черном костюме. Позже он специально отправился в Петербург и там был принят в хор Императорской оперы. Об этом говорил у нас весь город. Я с наслаждением слушал и хор, и солистов. Немало их было и в других местах, и даже из среды моих товарищей, но я сам никогда и не мечтал запеть соло.
«Куда мне? Это все не по мне. Растеряюсь… Сконфужусь… Не сумею… Да и голосом-то гожусь ли я?» – думалось мне. И я всегда и все уступал другим, не мог преодолеть застенчивости и шел всюду бочком, без самоподчеркивания, стараясь как можно менее быть заметным.
Обычно люди, живущие в провинции, «задыхаются», – жизнь скучна, впечатлений мало, все друг другу надоели, ждут приезжих, рвутся в столицу.
Однако мы, хотя по-своему, тоже задыхались, но были и счастливы, не унывали, умели себя занять. Весной и летом – лодки, прогулки, рыбная ловля, купанье. В сезоне – множество всего интересного.
Особенно любили мы Святки. Это – типичное явление русской жизни. В Европе с ним не встречаешься. На Святках – елки, ряженые, веселье без конца. Вечеринки студентов – то московских, то петербургских, – на них танцы, игры, пение хором…
И обязательно – один или несколько любительских спектаклей. Это тоже совершенно особое явление русской жизни, особое пристрастие к нему молодежи. В такой форме и с таким увлечением устроенных спектаклей в Западной Европе я не встречал.
Задолго еще до Святок мы начинали собираться группами и выбирать пьесу – одну или несколько, смотря по силам.
Выбрав, составляли план ее постановки и затем принимались за работу, – расписывать роли, подбирать и находить исполнителей, подыскать и оборудовать помещение, начать устраивать считки, а потом репетиции.
Помещением обыкновенно служила пустующая квартира. Ее надо было снять, отопить и оборудовать для спектакля. Устроить сцену и прежде всего занавес, нарисовать и склеить декорации. Навезти мебели. Раздобыть костюмы, парики, реквизит. Наладить освещение (тогда – керосиновые лампы «молния»), эффекты… И наконец, срепетировать, сладить спектакль, да так, чтобы не ударить лицом в грязь. Приходилось ведь конкурировать: любительских кружков было много…
Не все из нас преследовали при этом одинаковые цели. Одни стремились просто выступать («фигурять», как мы выражались). Сколько тут было историй, капризов, ломаний!
Другие примыкали к нам всего только с целью повеселиться, провести время.
Но были и третьи – основное ядро, к которому почему-то примыкал и я, – которые горели желанием добиться чего-нибудь «всамделишного», настоящего, именно сладить спектакль, как в настоящем хорошем театре.
Разумеется, мы могли только лишь подражать тому, что видели, – мы были дилетантами и вопросов театра никогда не изучали.
Но нам казалось, будто ничего изучать и не нужно – это-де не опера… Здесь не надо иметь дело с оркестром, хором, ансамблями. Нужно лишь любить это дело и тщательно его подготовить с чисто внешней стороны: хорошенько разучить роли, наметить точно входы и выходы, всех одеть и загримировать, ничего не забыть, все предвидеть, – и дело с концом.
А играть (т. е. говорить и двигаться на сцене), в конце концов, может всякий, думали мы. Было бы лишь добросовестное желание войти в роль, проникнуться ею, дать настоящие переживания, идти от жизни.
Мы ошибались, конечно, и ошибались жестоко, оттого и достижений у нас почти не было. Только позже я это понял. Я мог бы, на худой конец, в целом ряде спектаклей указать лишь на отдельные, более или менее удачные моменты, осно ванные преимущественно на подражании, скажем, московскому Малому театру (нередко приезжавшему в Нижний Новгород).
Но для нас главное-то было не в этом. Нам важно было сознание того, что все-то мы вместе «горим», совершаем некоторую коллективную работу и делаем ее не как-нибудь (с расчетом, что сойдет, да не взыщут), а со всей добросовестностью и со всем пылом любви к подобному делу.
Все у нас делалось своими руками, без наемников… Играли мы без суфлера. У нас недопустима была отсебятина и прерывание реплик партнера. Мы много думали о настроении, о паузах и самым тщательным образом старались не срывать их, а выдерживать и заполнять эффектами за сценой, – то колокол среди ночной тишины, то гул толпы, то – дождь, гром, молния. И мы добивались впечатления. Случалось, что и у нас зал замирал в оцепенении, а у некоторых навертывались и слезы.
Вспоминая свое детство и юность, не могу не вспомнить и первых своих театральных впечатлений.
В нашем городе каждую зиму работал драматический театр… Плохонький. Провинциальный. О нем, собственно, и говорить-то не стоило бы, но меня тянет все-таки о нем вспомнить, если не с абсолютной, то хоть с некоторой исторической точки зрения. Вот в чем росли. Вот что видели и чем наслаждались!
По виду он был театр как театр. Небольшой, правда, – мест на триста – четыреста. Внутри зрительный зал, и в нем – партер, ярусы, ложи, балкон, галерея, и за ней – «парадиз». Сцена, занавес… Все «как быть следует». Но в театре было… керосиновое освещение. Тогда весь наш город освещался керосиновыми фонарями, – бегал фонарщик с лестницей и зажигал их… Электричество было лишь на Нижегородской, так называемой Макарьевской ярмарке…
Представляете ли себе, прежде всего, духоту зрительного зала? Вентиляции не было, а лампы, чтобы не коптили, горели полусветом. Это нужно было еще и для полумрака в зрительном зале. Свет не тушился во время действия.
А на сцене-то какая бедность освещения! О световых эффектах не могло быть, разумеется, и речи: луна «бегала» за действующими лицами, о нарастании или уменьшении света нельзя было и мечтать. И все на сцене было бедненькое, приблизительное, всегда в полумраке. И тем не менее существовала труппа актеров, шли спектакли, приходила публика…
Представление начиналось всегда с музыки: играл оркестр, плохонький, но тоже сформированный по какому-то образцу, – и скрипки в нем, и трубы, и контрабас.
Оркестр, обыкновенно, играл «вступление» – марш, вальс либо иную бодрую или плавную пьесу – и затем либо расходился до антракта, либо оставался на месте, если ему предстояла работа среди действия.
Последнее часто и бывало, так как тогда ставили много мелодрам и водевилей с пением. Идет действие… Действующие лица ведут разговоры, и вдруг со сцены – знак («ручкой») сидящему за пультом дирижеру оркестра. Тот постучит палочкой оркестрантам – и начинается музыка.
Как сейчас помню, приехал раз К. Варламов[4]. Поставили какой-то водевиль. Варламов – огромный толстяк на коротеньких ножках – играет старика, влюбленного в юную девицу Аннету. Та от него бегает. Он ее ищет. Наконец, находит ее на качелях, дает знак дирижеру и под музыку начинает петь (без голоса):


