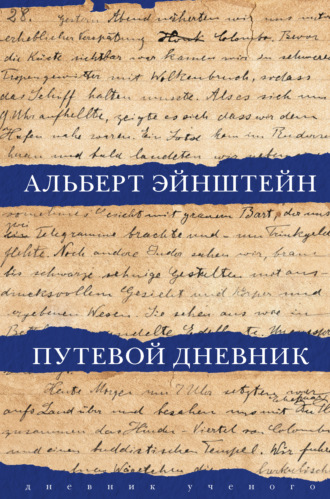
Альберт Эйнштейн
Путевой дневник
Переговоры Эйнштейна с испанским научным сообществом о возможном приезде начались в 1920 году. По крайней мере две попытки пригласить Эйнштейна в Испанию были предприняты до его лекционного тура в конце февраля – начале марта 1923 года. В апреле 1920 года аргентинский математик Хулио Рей Пастор пригласил его прочитать серию лекций в Мадриде и Барселоне. Эйнштейн сообщил своему близкому другу и коллеге Фрицу Габеру, что он «обязательно […] должен поехать в Испанию»53. Однако поездка не состоялась. Больше года спустя, в июле 1921 года, математик Эстебан Террадас-э-Илья пригласил Эйнштейна читать лекции в Барселонском университете во время зимнего или весеннего семестров. Однако Эйнштейн отказался – в надежде, что приедет в 1922–1923 году54.
Буквально за несколько дней до того, как события приняли драматический оборот, совершенно поменявший контекст задуманного путешествия в Восточную Азию, Эйнштейн намекнул близкому другу Генриху Цангеру, что с учетом его недавней поездки в Париж и суматохи, вызванной его членством в международном комитете Лиги Наций по интеллектуальному сотрудничеству, он мечтает о смене декораций. Он признался, что «изнывает по одиночеству» и что путешествие в Восточную Азию означало бы «двенадцать недель покоя в открытом море»55.
Через шесть дней после этого письма Цангеру, 24 июня, министр иностранных дел Германии Вальтер Ратенау был застрелен среди бела дня на улице Берлина правыми экстремистами56. Убийство стало поворотным пунктом в истории молодой Веймарской республики и вызвало волну протестов во многих слоях немецкого общества, за исключением ультраправых. Немедленным его итогом стали массовые забастовки, политическая обстановка накалилась, и на горизонте замаячила гражданская война. В день похорон Ратенау прошли многотысячные демонстрации в защиту республики. Обращаясь к гражданам с публичной речью в Рейхстаге, канцлер Йозеф Вирт обвинил консервативных врагов в причастности к этому преступлению. Правительство выпустило несколько декретов против националистических организаций и одновременно приняло законодательные меры для защиты республики57.
Это жестокое убийство оказалось переломным моментом и в жизни Эйнштейна. Он и раньше с мучительной ясностью понимал, что политическая ситуация вокруг только усложняется. Убийство заставило его признать, что он, будучи евреем и видным общественным деятелем левых взглядов, буквально рисковал своей жизнью, оставаясь в Германии. В письме с соболезнованиями, адресованном матери Ратенау, Эйнштейн превозносил своего друга, имя которого войдет в историю, «не только как человека, одаренного острым умом и лидерскими способностями, но еще и как одного из великих еврейских деятелей, способного отдать жизнь, защищая этические идеалы и добиваясь мира между людьми». Физик писал: «Сам я чувствую разлуку с ним как невосполнимую утрату»58. В опубликованном памятном обращении он высказался так: «Быть идеалистом легко, когда живешь в стране эльфов[2], но Ратенау был идеалистом даже на Земле и лучше многих знал, как она пахнет». Однако он был искренним и в критике Ратенау: «Я сожалею, что он стал министром. Зная отношение подавляющего большинства образованных людей в Германии к евреям, я всегда был убежден, что еврею в общественной жизни следует вести себя с гордой сдержанностью. И все-таки я не думал, что ненависть, ослепление и неблагодарность могут зайти так далеко».
Первая жена Эйнштейна Милева Эйнштейн-Марич «пришла в ужас», услышав, что Эйнштейн был «среди людей, против которых некоторые субъекты – я не знаю, кто именно – замышляют что-то недоброе»5960. Берлинский журналист Фридрих Штернталь умолял Эйнштейна позаботиться о личной безопасности, предупредив, что «необузданная ненависть» к нему замечена в «немецких народных и подобных им кругах»61. Герман Аншютц-Кемпфе, близкий соратник и друг Эйнштейна, пригласил его погостить в Киль. Хотя приглашение не было прямо связано с убийством Ратенау, тот факт, что оно пришло буквально на следующий день после трагедии, вряд ли можно считать случайным совпадением62. Эйнштейн согласился приехать через неделю вместе с женой и писал: «Убийство Ратенау глубоко потрясло меня и стало причиной огромного волнения. К сожалению, сомнительно, что правительство Рейха установит контроль над всеми оппозиционными элементами. Особенно ненадежной кажется армия. Старые традиции презрения к морали – служащие внешней политике и ее задачам – теперь делают свое дело внутри страны». По его мнению, проблема существовала не в одном только Берлине. Он возмущался тем, что Эрнста Толлера, известного драматурга, держат в баварской тюрьме, и горестно восклицал: «О, нация поэтов и мыслителей, что с тобой стало!»63
Это политическое убийство вернуло Эйнштейну прежнее желание покинуть Берлин навсегда64. 11 июля он написал Марии Склодовской-Кюри, что собирается выйти из Прусской академии наук и оставить пост директора в Институте физики Общества кайзера Вильгельма, то есть удаляется из «суматошного Берлина, чтобы снова иметь возможность работать спокойно»65. Днем позже он сообщил своему другу и коллеге Максу фон Лауэ, что «официально» он уже не в Берлине, хотя физически все еще там66. Он серьезно задумался о том, чтобы работать на Аншютца-Кемпфе на фабрике по производству гирокомпасов и купить виллу в Киле67.
Эйнштейн передумал всего четырьмя днями позже, когда утихла паника, охватившая его сразу после убийства. «Поразмыслив спокойно», он написал, что продолжит жить в Берлине, заметив, что на фабрике в Киле для него было бы немного работы. Эльза Эйнштейн сообщала в этой связи, что убийство Ратенау было для Эйнштейна тяжелым ударом и что «у него было одно чувство – уехать отсюда, чтобы работать спокойно». Но она также была уверена, что тогда «он понял, что эта забота о покое – иллюзия. Нигде он не мог бы скрыться из виду лучше, чем здесь, в Берлине». Несмотря на это, она подтвердила, что «после поездки в Японию он [хотел] уйти с официальной должности» в Берлине68.
Убийство изменило отношение Эйнштейна к публичности. Он решил не выступать с обращением, которое от него ждали на праздничной – в честь столетнего юбилея – конференции Общества немецких естествоиспытателей и врачей, которая должна была пройти в Лейпциге в сентябре. Своему близкому другу и коллеге Максу Планку он написал о личных угрозах, о том, что ему рекомендовали покинуть Берлин и избегать «любого появления на публике в Германии». Поскольку он был, «по их сведениям, в списке людей, за которыми охотятся националисты-убийцы». В черновике этого письма Эйнштейн прямо указывал на субъектов из числа простых немцев, которые «собираются убить» его. Он обвинял в своем положении прессу: «Вся проблема в том, что газеты слишком часто упоминали мое имя и натравили на меня этих подонков»69. Так или иначе, все было готово для продолжительного отсутствия Эйнштейна в столице Германии.
Анализ путевого дневника
В этом разделе мы попытаемся «распаковать» глубинные слои путевого дневника Эйнштейна с помощью самого текста и окружающих его исторических источников.
Особое внимание мы уделим эйнштейновскому восприятию национальных и этнических групп, с которыми он встретился во время своего путешествия, и месту, которое занимают его комментарии в контексте исторических и культурологических исследований об образе Востока и всего «восточного» для западноевропейца. Мы проанализируем ситуацию того времени в каждой стране, где побывал Эйнштейн. Также будут исследованы собственные национальные предубеждения Эйнштейна до путешествия и спектр представлений, характерных для его восприятия новых земель. Мы проследим, как он выражал эти предубеждения по ходу путешествия и менялись ли они в результате новых знакомств и встреч. Также мы обратим внимание на то, насколько эта поездка изменила его представления о самом себе – как о еврее, немце и европейце. Как сильно переменились его идеи о своем «я» и о личности другого? Как он понимал словосочетание «национальный характер»? Сравнение взглядов Эйнштейна с современными ему ориенталистскими, колониалистскими и расистскими идеями также является частью этого исследования.
Кроме того, важно понять, какое влияние оказали сами путешествия Эйнштейна на страны, которые он посетил. Что происходило в организациях и общинах в ходе и в результате его визитов? Как на его приезд реагировала пресса? Как массовые встречи с Эйнштейном формировали его образ для публики? На какие дипломатические и политические вопросы влияли его появления? Как он повлиял на разнообразные научные сообщества и какова была их восприимчивость к теории относительности? Какова была роль Эйнштейна как распространителя научного знания?
Наконец, мы рассмотрим влияние этой поездки лично на Эйнштейна, приняв во внимание характер путешествия, способ передвижения и личные впечатления от поездки. Мы увидим, какие общие заключения можно сделать о личных убеждениях, индивидуальных предрассудках и идеологических концепциях ученого.
Эйнштейн о Леванте и левантийцах
Первой областью, которую Эйнштейн посетил на пути в Восточную Азию, был Левант. Весьма вероятно, что до поездки его ассоциации с понятием «левантийский» не были положительными. В октябре 1919 года пражский сионист Хуго Бергман, который был в Сионистской организации секретарем Комитета по устройству университета, выразил беспокойство по поводу академических стандартов будущего Еврейского университета: «Мы не хотим получить подделку или приумножить число существующих в левантийском болоте университетов. Мы хотим создать хорошую высшую школу, которая несмотря на ограниченные ресурсы будет полностью отвечать всем стандартам»70. Тогда же Бергман написал статью, где выразился еще напористей: «Чего нам надлежит избегать, так это создания университета с низким niveau, левантийского университета, который ничего не привнесет в нашу богатую культуру и который ни один еврей не признает своим университетом»71. Требуя высоких академических стандартов для Еврейского университета, Бергман явно доказывал то, что доказывать не требовалось. За пару недель до его статьи Эйнштейн так высказался об образовательных стандартах в письме к своему приятелю-физику Паулю Эпштейну: «Наша задача – проследить, чтобы этот университет был на одном уровне с лучшими подобными учреждениями в Европе. В чем там нет недостатка, так это в блестящих умах»72. Вполне обоснованным будет полагать, что Эйнштейн не имел в виду университеты «в Левантийском болоте», когда говорил о «лучших подобных учреждениях в Европе». Если мы и можем сделать какой-то вывод из заявлений Эйнштейна и Бергмана, так это тот, что они определяли свою культуру как решительно европейскую.
Восприятие Эйнштейном Леванта и левантийцев претерпело значительные изменения, когда он столкнулся с реальностью. После пяти дней корабельной качки Эйнштейн прибыл в Порт-Саид, на севере Суэцкого канала. Вот описание его являения на берегу и первого контакта с местными жителями, крайне яркое и выразительное: «В гавани рой лодок с вопящими и жестикулирующими левантинцами всех мастей, которые набросились на наш корабль. Точно Преисподнюю вырвало. Уши глохнут от шума. Верхняя палуба превратилась в базар, но никто ничего не покупает. Лишь несколько красивых, спортивного телосложения, молодых предсказателей судьбы имеют успех. Бандитского вида грязные левантийцы, красивые и грациозные на вид»73.
Этот отрывок из дневника показывает как влечение, так и отвращение, которое Эйнштейн испытал при встрече с арабскими торговцами в Порт-Саиде. То, что он описывает, – провокация почти во всех смыслах этого слова. Хотя европейцы находятся на японском корабле, кажется, что местные жители Востока атакуют саму Западную цивилизацию. Это видно по языку, которым пользуется Эйнштейн: «рой», «вопящие», «набросились», «преисподнюю вырвало», «уши глохнут», «базар», «бандитского вида» и «грязные». В то же время местные люди привлекательны: «красивые и грациозные на вид».
В последующих фразах появляется подсказка, помогающая толковать восприятие этой сцены ученым: «На противоположной стороне [гавани] – стены и здания одного из тех неистовых цветов, которые часто встречаются на картинах с пейзажами тропиков». Таким образом, его восприятие действительности во многом обусловлено его зрительными (и, как мы увидим, текстовыми) ожиданиями от Востока.
Вполне в духе дуализма в физике ученый ощутил одновременного влечение и отвращение. Повстречал он также и воспитанных левантийцев. Приехав в порт Суэц в южной части канала, он пишет: «Подплывают мелкие арабские торговцы. Они сыновья пустыни, красивы, смуглы, блестящие черные глаза, манеры лучше, чем в Порт-Саиде»74. Это описание смуглых, гордых арабов вполне могло быть почерпнуто из какого-нибудь авантюрного романа XIX века, действие которого происходит на Востоке – известным немецким автором таких романов был Карл Май75.
Когда Эйнштейн приплыл в Порт-Саид во второй раз, уже на пути в Европу из Восточной Азии, его реакция была уже не двуликой, а категорически негативной: «Город этот – настоящее место встречи иностранцев с соответствующим сбродом». Слово «сброд» (в немецком слово Gesindel также имеет значение «вредитель») можно расценить как явное проявление ксенофобии.
Эйнштейн об индийцах и сингалах
Доступные источники не дают нам информации о том, каковы были представления Эйнштейна об индийцах до его путешествия в Восточную Азию. Проведя двадцать дней в море, он встретил их в Коломбо. По нужному адресу их доставили рикши, и ученый записал, что ему было стыдно оказаться «участником такого неслыханного обращения с людьми». При этом он чувствовал свою беспомощность: «Ведь эти нищие с внешностью королей целым роем следуют за каждым иностранцем, пока тот не сдастся. Они знают, как упрашивать и молить до тех пор, пока сердце человека не дрогнет». Эти слова указывают на его веру в свергнутую аристократию. Говоря о существовании нищих на городских улицах, он называет это «примитивной жизнью» – выражение явно пренебрежительное. Он также верит, что «климат мешает им думать о прошлом или будущем более длительном, чем четверть часа» – высказывание, которое ясно показывает и географический детерминизм Эйнштейна, и его убежденность в том, что индийцы интеллектуально неполноценны. Он лаконично отмечает, что местные «живут в чрезвычайной грязи и сильной вони, прямо на земле», и полагает, что им много не нужно: они «делают мало и нуждаются в малом. Простой экономический цикл жизни». Он считает, что их стесненные условия «лишают индивидуума хоть сколько-нибудь достойного существования». Он ставит их в пример шумным левантийцам, которых видел в Порт-Саиде: «Ни грубости, ни рыночного гама, только плывут по течению, спокойно, снисходительно, и даже не без некоторого легкомыслия». То, что он считает стоицизмом индийцев, предопределено географически: «Разве не стали бы мы в этом климате такими же, как индийцы?»77 Это показывает двойственность его отношения к местному народу: он в известной степени сочувствует их тяжелой доле, но при этом относится критически к тому, чем они стали из-за всех своих лишений.
На обратном пути Эйнштейн вновь посещает Коломбо. На этот раз описания Эйнштейна категорически негативны. Он подчеркивает назойливость местных жителей. Один из рикшей «был совершенно голый, примитивный человек». Он пишет, вернувшись после краткой однодневной поездки обратно в Коломбо: «Рикши-кули набросились на нас»78. Как мы видим, здесь европейская культура Эйнштейна символически вновь была атакована. К тому же слова «примитивный» и «кули» указывают на его чувство превосходства.
Эйнштейн о Китае и китайцах
В отличие от ситуации с источниками, которые касаются отношения Эйнштейна к индийцам до путешествия, у нас есть несколько примеров того, как он высказывался тогда о китайцах. Любопытно, что в течение практически одного месяца Эйнштейн отозвался о китайцах два раза: один раз исключительно хорошо, а второй раз довольно негативно. В одном из первых своих комментариев насчет своего интереса к еврейскому вопросу и деятельности сионистов в Палестине он отметил в марте 1919 года: «Меня чрезвычайно радует появление еврейского государства в Палестине. Мне кажется, наше племя действительно более симпатичное (или, по крайней мере, менее жестокое), чем эти ужасные европейцы. Возможно, ситуация только улучшится, если останутся одни китайцы, а они называют всех европейцев одним собирательным словом: бандиты79.
Однако в следующем месяце он пишет своему другу Эмилю Зюрхеру в Цюрихе о России, которую грабят «лидеры воровских банд». По мнению Эйнштейна «эти банды в основном состоят из китайцев. Хорошенькие же перспективы и для нас тоже!»80. В этом можно увидеть опасение, что китайцы могут затем захватить Европу.
В конце 1919 года следует еще одно заявление о китайцах: «Мой друг [Мишель] Бессо возвращается в Патентное бюро. Бедняга слишком отдаляется от животных – сплошные представления и никакой воли, просто воплощенный идеал Будды. Я это особенно хорошо понял позавчера вечером, когда провел время с несколькими утонченными китайцами. Они не знают, что такое наша одержимость целью и практичностью. Тем хуже для них и для Китайской Стены!»81 Это интересное, но довольно двусмысленное предложение. С одной стороны, Эйнштейн, кажется, восхищается положительными результатами буддистского отношения к жизни. С другой стороны, не похоже, что он верит в уместность такого отношения на Западе, и, кажется, он подразумевает, что отсутствие целей и практичности в конце концов приведет к упадку этой цивилизации.
Через несколько недель после его первой встречи с жителями Востока в Леванте Эйнштейн приехал в Сингапур, где увидел совершенно другой тип азиата.
Хотя прежде всего он был занят сбором средств для Еврейского университета во время встреч с Манассией Мейером, лидером еврейской общины, во время своего короткого визита в Сингапур Эйнштейн все-таки находит время прокомментировать, как живут местные китайцы. Между двумя приемами, организованными Мейером в его честь, он пишет: «затем мы поехали через Китайский квартал (замечательное столпотворение, но не успели посмотреть, только понюхать)»82. В этом опять-таки пример, как органы чувств Эйнштейна подвергаются испытанию во время встречи с местной цивилизацией. На следующий день он записывает свои общие впечатления. Он находит, что «китайцы по своему усердию, бережливости и обилию потомства, возможно, оставят далеко позади все остальные народы. Сингапур почти весь у них в руках. Китайские торговцы пользуются глубоким уважением, куда большим, чем японцы, которые слывут ненадежными»83. Как и в 1919 году, Эйнштейн озабочен демографическими последствиями рождаемости в Китае. И слова «почти весь у них в руках» указывают на то, что он почувствовал угрозу их господства.
Через неделю он приезжает в Гонконг и снова встречается с местными китайскими жителями. Здесь записи варьируют от выражения большой тревоги за китайцев, живущих в бедственном положении, до определенной степени дегуманизации. Сначала он сочувствует «замученным людям, мужчинам и женщинам, которые должны тесать камни и таскать их за пять центов в день». Так «наказывает китайцев за плодовитость жестокий, бездушный механизм их экономики». По мнению Эйнштейна, «они, по своей тупости, даже этого не замечают, но зрелище печальное». Таким образом, несмотря на сочувствие, похожее на то, какое возникает при виде жестокого обращения с животным, он, кажется, отказывает им в полном человеческом статусе. Это становится еще более очевидным в другой записи, когда он посещает материк: «Трудолюбивые, грязные, тупые люди. Очень шаблонные дома, балконы как ячейки улья, все постройки однотипные и лепятся друг к другу. За гаванью одни только закусочные, перед которыми китайцы сидят не на скамейках, когда едят, а на корточках, как делают европейцы, когда им надо в лесу присесть по нужде. Все это происходит очень тихо и спокойно. Даже дети вялы и выглядят тупыми». И затем Эйнштейн формулирует расовую (если не расистскую) проблему того, что видел: «Грустно будет, если эти китайцы вытеснят все остальные расы. Для таких, как мы, даже думать об этом – неописуемая скука»84. Кажется ясным, что Эйнштейн до известного предела поверил в распространявшуюся в то время фобию «желтой угрозы». Самое занятное, что этот его вывод похож на тот, который он сделал в апреле 1919 года, то есть тремя годами ранее, и при этом противоречит его высказыванию за месяц до путешествия, когда он как будто желал, чтобы «ужасные европейцы» исчезли, а остались бы только китайцы.
Во время своего пребывания в Гонконге Эйнштейн постоянно замечает красоту природы, которая для него находится в разительном противоречии с унылыми домами китайских жителей. Оказавшись на Пике, самой высокой точке Гонконга, Эйнштейн отмечает «великолепный вид». Он замечает, что на фуникулере существует сегрегация: европейцы едут отдельно от китайцев, но в дневнике никак не комментирует эту дискриминацию.
В дополнительной дневниковой записи Эйнштейн цитирует слова португальских учителей, которые «заявляют, что китайцев невозможно научить мыслить логически и что особенно бездарны они в математике». Он никак не оспаривает это заявление. К этой ксенофобии он тут же добавляет внушительную порцию женоненавистничества: «Я заметил, как мало различаются здесь мужчины и женщины; не понимаю, какие такие роковые чары китайских женщин заставляют их мужчин терять голову до того, что они уже не в состоянии противиться сокрушающему блаженству продолжения рода»85.
Следующая встреча Эйнштейна с китайцами случилась в Шанхае несколько дней спустя. Резкие, бесчеловечные комментарии продолжаются: он находит китайские похороны «на наш вкус варварскими», китайский район с его «узкими улочками» «кишит пешеходами», «в воздухе зловоние, разнообразное до бесконечности». Он продолжает: «Даже те, кто работает как лошадь, как будто никогда не страдают от этого сознательно. Особая нация, похожа на стадо […]». Но от всего этого есть спасение: когда от китайского обеда у него случается проблема с желудком, он стремится в «тихую гавань (в буквальном смысле)», к супружеской чете образованных немцев. При посещении деревни он делает еще несколько бесчеловечных комментариев о местных жителях: «Внимательно осмотрели храм. Люди, что живут рядом с ним, кажется, равнодушны к его красоте»86. Поскольку Эйнштейн никак не мог знать, что именно думают обитатели деревни, ясно, что это только его мысленное представление.
На обратном пути он посещает Шанхай, где вновь использует большинство уже упомянутых предвзятых национальных характеристик. Однако он также отмечает: «Все в один голос хвалят китайца, но это касается и его интеллектуальной слабости в бизнесе»87.
Ясно, что восприятие китайцев Эйнштейном полно противоречий: он сочувствует их несчастной судьбе, но также и отказывает им в человеческих качествах, как то показывает целая серия шокирующих замечаний. Похоже, он также беспокоится, как бы они не вытеснили все другие народы.
Исследования западного восприятия Китая и китайцев показывают, что впечатления Эйнштейна и его стереотипы совпадают с негативным восприятием китайцев, которое распространилось на Западе с 1850-х годов: многие видели в них воплощение бескультурья, варварства, жестокости и мракобесия, а потому считали, что их отличают грязь, смрад, нищета и убожество, суеверия88. Точно так же, как описывает это Эйнштейн, западные представления касались резкого контраста между поразительными пейзажами и отвратительными условиями жизни в городах и деревнях89. Интересно, однако, что сразу после Первой мировой войны (то есть незадолго до того, как Эйнштейн увидел все своими глазами) на Западе стали появляться положительные отзывы о китайцах. Варварство великой войны заставило некоторых интеллектуалов пересмотреть свое отношение к восточным идеям90.
Несостоявшаяся поездка в Китай
Как говорилось ранее, Эйнштейн собирался приехать в Пекин на две недели и провести там серию лекций. Однако еще до его отъезда из Европы политические пертурбации в Китае ослабили желание Эйнштейна выполнить этот план. Он все еще рассчитывал на возможность провести две или три недели в Китае, выступить с лекциями как в Пекине, так и в других приморских городах91. Однако во время пребывания Эйнштейна в Японии его лекционное турне в Китае отменилось в силу серьезных недопониманий92. В начале декабря, когда Эйнштейн уже провел в Японии немало времени, пекинский ректор Кай спросил Эйнштейна, когда тот намерен приехать, c энтузиазмом добавив: «весь Китай готов принять вас с распростертыми объятиями»93. Через две недели Эйнштейн ответил, что несмотря на его огромное желание и формальные обещания, сделанные ранее, он уже не может принять приглашение. Он заявил, что, напрасно прождав целых пять недель какого-либо сообщения из Пекина, он решил, что никто больше не хочет, чтобы он приезжал. Эйнштейн выразил надежду, что это «грустное недопонимание» будет исправлено в будущем94.
Эйнштейн о Японии и японцах
В отличие от редких встреч Эйнштейна с китайцами до его путешествия в Восточную Азию, к тому времени, как он отправился в путь, у него уже завязалось несколько чрезвычайно важных для него знакомств с учеными из Японии. Скорее всего, самое первое знакомство было со студентом-физиком Аяо Куваки в Берне, и состоялось оно в марте 1909 года95. Годом позже Эйнштейн похвалил статью об относительности, которая касалась пондеромоторных сил и была написана японским физиком Джуном Ишиварой. Эйнштейн заявил, что «это […] единственная работа по данной теме, которая имеет смысл»96. Десять лет спустя Эйнштейн сказал, что ему было «чрезвычайно приятно», что Куваки (который к тому времени стал профессором физики) перевел его научно-популярную книгу об относительности: «Я до сих пор вспоминаю ваше пребывание в Берне, особенно потому, что вы были первым японцем и вообще первым азиатом, с которым я познакомился. Вы поразили меня тогда вашими прекрасными теоретическими знаниями»97. Перед отъездом в Восточную Азию почти вся корреспонденция Эйнштейна с японцами была связана с приглашением «Кайдзо», о котором говорилось выше. Не стоит, однако, забывать, что в какой-то момент переговоров Эйнштейн назвал японцев «настоящими мошенниками», когда был расстроен финансовыми условиями контракта98. Вскоре после этого он пожаловался Эльзе: «Похоже, что я останусь в Берлине надолго, потому что проклятые японцы сначала пересолили мой суп, а потом разбавили его водой»99. Впрочем, как отмечалось ранее, несогласия насчет гонорара за поездку в конце концов были преодолены.
Теперь давайте посмотрим на систему представлений о Японии, которая была у Эйнштейна до поездки. Как мы уже видели, тяга Эйнштейна к восточному оказалась одной из причин того, что он принял приглашение в Японию. Как отмечают исследователи западных представлений о Японии, это «увлечение Востоком» было важным фактором путешествий в Японию100. Особенно это проявилось после Всемирной выставки в Париже в 1900 году, благодаря которой японский стиль стал моден на Западе. Крайнее увлечение японской культурой и обычаями назвали «японизмом»101. Впрочем, интерес Эйнштейна к Японии имеет, вероятно, и более экзотические (и причудливые) источники. В своих интервью во время поездки он упомянул влияние работ греко-ирландского писателя и журналиста Лафкадио Херна (который натурализовался в Японии в 1896 году) на свои представления о Японии до того, как сам туда приехал. Эйнштейн говорил, что после очерков Херна из «страны Лилипутов» он думал о Японии «в сказочных выражениях: с маленькими домиками и гномиками»102. В статье о своих впечатлениях о Японии, написанной через три недели после своего приезда туда, Эйнштейн также упомянул чувство тайны, которое он в целом чувствовал, когда дело касалось Японии: «Мы и у себя дома видим много японцев, которые живут одиноко, учатся усердно, улыбаются дружелюбно. И никто не может узнать, какие чувства живут за этой осторожной улыбкой». В этой статье Эйнштейн признается: «Все, что я знал о Японии раньше, не могло мне ее объяснить»103.
Япония, по которой путешествовал Эйнштейн в конце 1922 года, переживала радикальные политические, социальные и культурные перемены. Эпоха Тайсё, которая началась в 1912 году, была «периодом, когда интернационализм, космополитизм, секуляризм и демократизация, казалось, заменили собой призывы к замкнутости» предыдущей эпохи Мейдзи, в которой страна была занята прежде всего созданием нации104. Годы после Первой мировой войны были временем индустриализации и модернизации Японии. Европа и Америка начали влиять на японскую культуру. Появлялись новые, западно ориентированные интеллектуалы. Христианство, лейборизм, радикальные идеи привели к тому, что возникли движения за права женщин и рабочих, студенческое движение. Иностранные ученые приезжали сюда на долгий срок и стали выходить первые научные журналы105. Вместе с зарождением духа либерализма в эпоху Тайсё присутствовал и скрытый политический террор: за год до приезда Эйнштейна случилось умышленное убийство премьер-министра Хара Кей. Началось развитие программ социального здравоохранения. Дух демократии выражался в «демократической империи»: внешняя политика империи поддерживалась основными политическими партиями, и различие было не между теми, кто за или против империи, а скорее между империалистами «медленного» или «быстрого» пути развития106.
Как же изменились представления Эйнштейна о Японии и японцах после его встреч с японцами на борту корабля и позже, уже в самой стране107?
Контраст с его грубыми высказываниями о китайцах поразительный: восприятие японского едва ли может быть более позитивным. Эйнштейн записывает свои первые впечатления об отдельных японцах в первый день своего морского путешествия: «Он (японец) не проблематичен, […] дружелюбно выполняет социальные обязанности, которые выпадают на его долю, без претензий и гордясь своим обществом и своей нацией. […] Он безличен, но при этом не замкнут в себе; как существо прежде всего общественное, он, кажется, не имеет никаких индивидуальных черт, о которых ему надо было бы молчать и секретничать»108. Несмотря на то, что это положительное описание, Эйнштейн, кажется, видит японца не полностью человеком – он явно воспринимает их индивидуальность как не совсем развитую. Его первая запись о японских женщинах почти карикатурна: «Японки расползлись вокруг [по палубе] с детьми. Вид у них нарядный, удивленный, почти <схематичный> стилизованный. Черноглазые, черноволосые, большеголовые, семенят»109. После трех недель плавания Эйнштейн, кажется, еще не нашел ключа к таинственному характеру его японских спутников: «Японцы очень патриотичны. Странные ребята, чье государство – в то же время их религия»110. Его первые опыты прослушивания японской музыки усиливают ощущение чужеземного: он находит эту музыку «очень чужой», а от их пения у него «кружится голова»111.







