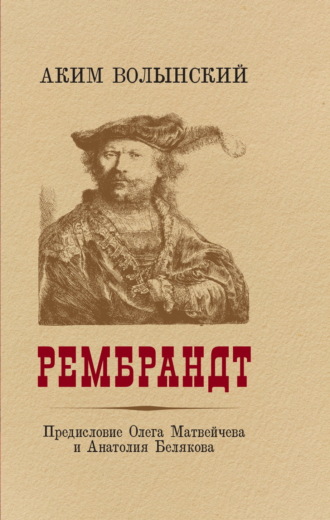
Аким Волынский
Рембрандт
Отец
Мы имеем портрет отца Рембрандта в масляных красках и в нескольких офортах, собранных вместе Ровинским. Если присмотреться к чертам этого лица, то можно будет восстановить с большою правдоподобностью внутренний облик, за ним скрывающийся. Отец Рембрандта родился в 1567 году и умер в 1633 году. Мы имеем изображение его, относящееся к 1629 году. Ему было, значит, в то время за шестьдесят лет. Перед нами старец, представленный без бороды, с широким мускулистым лицом, изборожденным мягкими тонкими морщинами. Сетка этих морщин проходит по всему лицу. Лоб высокий, открытый, без следа волос на темени. Во всём лице ощущается какая-то тяжесть. Но под этою тяжестью прочной и крепкой лепки чувствуется большой фонд душевной мягкости и та интеллектуальность, которая отделяет иногда простого еврейского мельника какою-то аристократическою гранью от вульгарного безинтеллектного нидерландского фермера из галлереи Остаде, Теньера, Броуера и других. Это весьма умный человек, с огромным опытом, много живший и много передумавший. При массивности общего впечатления в чертах лица замечается здоровая утонченность, всегда придаваемая общей экспрессии вдумчивой и деятельною мыслью. Есть люди, которые думают широко, бесформенными темами и схемами, стихийными элементами своего сознания. От такого суммарного процесса мышления по душе их в данных очертаниях проплывают настроения общерелигиозного и общефилософского характера. Не таков отец Рембрандта в рассматриваемом изображении из частной парижской коллекции Пауля Миллера. Он устремил глаз своей изнутри в какой-то определенный предмет и апперцептирует его тихо и проникновенно. В сжатых губах, дающих приятно-спокойную линию, заключен еле уловимый намек на улыбку. Подбородок крупный, прекрасно моделированный, с едва намеченным в нижней его части, около шеи, что живою припухлостью без всякой обрюзглости. Скула выдающаяся, образующая впадинную тень на лицо. Глаза смотрят вниз спокойно и тихо. Легким мазком художник наметил редкие брови.
Таково лицо старика в общих его очертаниях. Если закрыть глаза и подумать об этом человеке, не вглядываясь больше в конкретное изображение, мы чувствуем, что в душе нашей осталось впечатление чего-то солидного, импонирующего, чего-то богатого содержанием и наверно остроумного. Расу этого человека трудно определить потому, что лицо представлено без бороды – могучим скелетом, покрытым ещё пульсирующею плотью. Но прибавьте бороду к этим типично еврейским ушам, длинно вытянутым и с приклоненною раковиной, сохраните при этом написанную на картине ермолку на темени, и перед вами окажется уже несомненный еврей, во всей его подлинной характерности. Этот длинный ровный нос, не хамито-ханаанского происхождения, не хеттейский, не ассирийский, а чисто иудейский, достойный еврейского патриарха, этот мягкий наклон головы, без кичливого вызова небу, струнно-музыкальный и ласкательно напевный – всё вместе говорит о том, что в повседневной лейденской толпе человек этот мог казаться пришельцем. Это не мельник Андриана Остаде, дерущийся, пляшущий и ссорящийся при уплате за выпитые бутылки. Такого человека, какой отпечатался в изображении Рембрандта, даже трудно себе представить в дурацкой алькогольной экзальтации. Его подъем светится изнутри, бликами поднявшихся со дна души, играющих интеллектуальных эмоций, ликование его перевито полосками белого света, естественно наклонное к нежному и меланхолическому минору. Вот что это за человек. При простоте профессии голландского мельника, культура в нём ощущается какая-то стародавняя, многовековая и седовласая. От такого именно человека, живого, страстного и вместе с тем вдумчивого и глубокого, мог родиться гениальный Рембрандт. Сына связывали с отцом многие кровнородственные черты: трепет здоровой плоти и вечно вибрирующая духовная струна.
Рембрандт любил видоизменять и наряжать в разные костюмы и головные уборы людей, которых он писал, даже и самого себя. Весьма естественно предположить, что для каких-то своих художнических экспериментов он представил отца своего бритым, тогда как в действительности, как это и видно из некоторых других портретов, почтенный старец носил бороду. Мы имеем несколько бюстовых портретов отца Рембрандта того же 1629 года и ближайших последующих годов, где он написан с усами и бородою, причём на одном из портретов, в шляпе и с пером, усы приподняты кверху для придания лицу дерзкой воинственной отваги. Но все ещё прямой и ровный, без какой-либо горбинки. Но хотя лицо сужено в скулах и украшено острой, кокетливо подстриженной бородкой, не трудно совсем узнать в нём лицо отца Рембрандта. Те же уши, семитического рисунка, та же выразительная черта губ и все тот же, изнутри льющийся духовный колорит интеллектуальности и внимательной апперцептивности. Глаза открыты для волевой фиксации мира. Но в них нет наивной молодости, свежей и голубой восторженности, а дано серое предвечное понимание того, что, может быть, глаза и видели когда-то и где-то. Хотя костюм на этом человеке условный и театральный, хотя лихо развевающееся над головою огромное перо совершенно не гармонирует с настоящим его обликом и сбивает впечатление от него на неверный путь, всё же никакой наряд, никакая бутафория, ни даже изменение в складе лицевых костей не может изгнать совершенно присущего ему основного характера. Это еврей. Портрет с пером, рассмотренный нами, находится в частной коллекции В. Чемберлена, в Брайтоне.
В целом ряде других портретов масляными красками отец Рембрандта выступает перед нами со всеми вышеобозначенными типичными для него чертами. Полуиератическая ермолка повторяется часто. Носу придается иногда чуть заметная горбинка. Усы и борода даны в их естественно растущем виде, без норочитой подстрижки и хитроумной прически, как на портрете с пером. Вдумчивость и душевная жизнь – всё та же: спокойствие в фиксации мира, нарушаемое лишь иногда сиянием подспудной, спрятанной приклоненностью к старым отцам. На портрете бостонского музея, всё того же 1629 года, старик изображен особенно трогательно, с морщинистою рукою, наложенною на груди, поверх отороченного мехом пальто. Ермолки нет, и обнаженная голова, всем своим архитектурно крепким черепом, предстает перед нами во всей своей реальности. Наклон головы отдает веками пережитых страданий. Точно из древнего утеса склонился к нам трепетный стебель горного растения. Всё старо, почти архаично, всё дышит мудрою покорностью. И при этом в общем очертании та неизбывная сладость, которая в моментах самоотрицания производит на нас особенно чарующее впечатление. Когда герои и подвижники иных рас свершают своё служение миру и людям, мужественно шагая через ограды себялюбивого я, от них почти всегда веет суровым и жестким дыханием аскетизма. Но еврейская жертва, как бы ни была она тяжела, лишена всякой трагической помпы. Никакого крика. Никакого церковно-колокольного звона. Никакой брезгливой отрешенности от мира. Евхаристия тут дана в неподчеркнутом преломлении телесного хлеба – хлеба повседневной реальной жизни. И всё реально, сладко и сладостно до безконечности. Точно кто-то с кем-то прощается, проливая восторженные слезы, с утешительным улыбающимся обещанием вернуться в самом скором времени. Такова еврейская истерика диаспоры, которой не заменить ничем на свете. Всё это имеется, всё это чувствуется в таких простых и на взгляд незначительных пустяках: рука положена на грудь как-то особенно тепло и мягко, голова склонилась в бок. Чутко лилейным контрпростным движением, какое не предносилось даже и Леонардо да Винчи – всё видно, всё ощутимо в своей фундаментальной расовой основе.
Имеется ещё несколько портретов отца Рембрандта, считающихся достоверными. В Копенгагене, в Гааге, в Инсбруке отец представлен в знакомых нам чертах, хотя и с некоторыми отличительными оттенками. Разнообразие причудливых костюмов мешает иногда отожествлять лицо с установившимся о нём представлении. Так портрет в Инсбруке дает нам этого человека в довольно пышным и фантастическом наряде. Особенно неестественным представляется его высокий головной убор, многоэтажное какое-то сооружение, частью напоминающее восточный тюрбан. Но черты лица узнаешь довольно легко. Нос с заметною горбинкою, но уши те же, что и на других портретах. В XVIII веке считали этот портрет изображением Филона Александрийского. Но когда сгруппировались все полотна Рембрандта и стали изучаться в своей совокупности, то черты отца художника до такой степени пригляделись, что их без труда различаешь среди множества других лиц. Да и внимание к работам Рембрандта, к его личности и творчеству, со второй половины XIX века, становится всё более и более пристальным и углубленным. Теперь уже мы знаем не только отца, но и братьев его, особенно Андриана, вообще почти всю его семью, весь ближайший круг людей, с которых Рембрандт писал свои картины и портреты. Повсюду отец Рембрандта – одно и то же существо, интеллигентное, с налетом жизненной мудрости, вдумчивое, но покрытое тяжеловесной материальностью. Плоть его суха, тяжка, крепка и физически добротна. Если строить человека только из такой плоти, то он выйдет грубым и прозаичным. Но если пронзить эту плоть духом, то получится существо действительно замечательное, каким, вероятно, и был отец художника.
На гравюре ван Флита, сделанной по красочному оригиналу Рембрандта 1630 года, мы имеем портрет отца за короткий срок до смерти. Всё лицо с потухшими глазами в трепете старческого бессилья. Скулы почти обнажились, щеки [об]висли, подбородок, вся нижняя часть лица, заметно осунулись. Нос опять лишен горбинки. Этою горбинкою, характерною особенностью хеттейско-семитического типа, Рембрандт постоянно оперирует для достижения разных эффектов. Однако, есть ли горбинка, или её нет, всё равно – лицо выдает себя и своё расовое происхождение. Но уши всегда одни и те же: приклоненные, вытянутые, слушающие, всегда настороже, всегда готовые к восприятию, всегда выписанные художником с необыкновенным рвением. И на глазах, открытых и пристальных, постоянно ощущается тонкая завеса стыдливой щепетильности. Расовая еврейская апперцепция иная, чем апперцепция других народностей праарийского корня: не колющая, не оскорбляющая, не раздевающая, не вожделеющая. Вот откуда и новозаветный запрет смотреть на женщину с вожделением, ибо такое созерцание равнозначно совершению настоящего прелюбодеяния в сердце своём. Но можно именно по иудейскому смотреть на женщину, без цинизма, без малейшей похоти, с открыто-закрытыми глазами, с тем теплым человеческим умилением, которое всё обращает в душевную маску. Такой взгляд успокаивает женщину и внушает ей доверие. Вот этот-то взгляд, взгляд разверзшихся очей, подернутых скромностью, почти иератический, какой-то молитвенно-богомольный, с нежными резервами в глубинах своих, мы и ощущаем в портрете отца Рембрандта. Если перефразировать слова Вольтера о боге, то можно сказать, что отец Рембрандта не еврей, [но] его по всей справедливости естественно было бы считать и называть таковым – за один этот взгляд, за одну эту целомудренно скромную апперцепцию, которая никогда не лезет на вас своею иглою.
Переходим ещё к одному портрету в заключение нашего анализа живописного материала об отце. Я имею в виду портрет, находящийся в портретной коллекции Вассермана и считаемый современными исследователями за достоверный.
Портрет замечателен. Это отец Рембрандта в прямоличном изображении. Весь лоб открыт к зрителю. Лицо вылито в законченный овал, борода и уши намечены верными штрихами. Линии губ сомкнуты между собою жестко, кричаще и почти трагически. Вообще по всему лицу проносится какая-то дикая экспрессия, близкая к состоянию некоторой исступленности. Мудрому человеку свойственно подавлять в себе тигра инстинктов. Он знает страсти, но умеет ими управлять, умеет от них эмансипироваться. Но иногда довольно какого-нибудь чрезвычайного повода, чтобы лик мудрости убежал, регулирующий аппарат расстроился, и чтобы перед нами оказался настоящий тигр. Тигр мудрого человека свирепее всех иных тигров. Если представить Сократа, лишившегося внезапно даров своей духовной гениальности, что за ужасный зверь предстал бы перед нами. Природа ревет в таком человеке всеми своими голосами, но голоса эти не слышны только потому, что их загнали в темноту иные высшие инстинкты. Возвращаясь к портрету Рембрандта, надо сказать, что художником тут схвачен один из характернейших моментов в биологии целой расы. Нет ничего ужаснее еврейского базара. Невыносим еврейский крик во время несчастья. Вы всем сердцем тут, вместе со страдающими людьми. Но вы в то же время отвращаетесь от разоблачившегося облика иной, звериной, прежде побежденной природы. Толпы мудрецов, с которых совлечена мудрость, просто отвратительны. Эти покрытые конвульсиями лица, эти исступленные жесты, эти сверлящие визги, бесстыдно оглашающие воздух – всё это, вместе взятое, производит отталкивающее впечатление. Дальнее подобие такого явления мы замечаем в лице отца Рембрандта на указанном парижском портрете. Глаза страшно открыты и вперены в даль бесконечных пространств.
Среди офортов Рембрандта, полностью собранных Ровинским, мы имеем почти все главные подобия уже знакомого нам облика. Здесь имеются портреты отца, как фантастического, так и реальные, во все главных вариантах.
Интимная игла офорта дает полный простор художнику при воплощении им некоторых семитических черт. Целый ряд графических портретов поражает совершенно еврейским видом лиц. Чего стоит одна эта продольная морщинка, от носа к губам и даже к подбородку, проведенная Рембрандтом на дисках или в разных состояниях одной и той же доски. Тут же мы имеем чудесные офорты профильных категорий, но повторенных ни в каких картинках. Некоторые из них представлены в многочисленных этапах офортной ретуши. Голова отца изучена во всех положениях и склонениях. В общем же его графическая иконография не дает новых материалов для нашего анализа в данном направлении. Подчеркнут семитический характер лица, но и только. Наконец, в заключение, отметим три портрета, из которых один в масляных красках – трагический, из коллекции Вассермана – нами только что изучен. Все эти три портрета, обычно помещаемые в сборниках рядом, Вольфганг Зингер считает образными копиями гравюр Ливена, из его серии восточных голов, причём Зингер допускает, что игла Рембрандта всё же прошлась по этим офортам. Это замечание исследователя ни в чём не меняет высказанных нами соображений.
Расставаясь на некоторое время с отцом Рембрандта, упомянем вскользь, что имя его Гармене не имеет в себе, по-видимому, ничего еврейского. Но при крещении имена постоянно менялись, причём обычно новое имя бралось из местных христианских словарей. Именно же Ровинского [То есть мнение. – Прим. ред), ничем не подкрепленное, о том, что «прозвище» Рембрандт относится к числу довольно распространенных в Голландии, не подтверждается ни расспросами, ни многочисленными справками, собранными мною на месте.
14 мая 1924 года
Мать
Изображение матери Рембрандта представляет собою явление исключительной важности. Мы имеем здесь ярко и проникновенно выраженный тип еврейской женщины, той фазы её развития, которую можно отнести в установленных нами общих подразделениях, к периоду духовного Сиона. Если относительно отца Рембрандта, Гарменса, ещё могут существовать какие-нибудь сомнения, то здесь всякие колебания покидают внимательный взор. При всей своей духовности Гармене хранит в себе и черты габимы: налет голландской культуры XVII века на нём весьма ощутителен. Потому-то Рембрандт и пользовался обликом отца при изображении разных светских фигур с самими фантастическими нарядами эпохи, никогда однако не вдаваясь при этом в карикатуру или невозможный шарж. Под наслоениями габимы всё же сквозит дух первородной, основной, семитической сущности. Но женщины еврейские консервативнее мужчин, и в облике матери Рембрандта мы уже не видим никаких черт местной ассимиляции, видоизменяющей первоначальную чистую индивидуальность.
Что такое еврейская женщина? Прежде всего, в биологическом отношении, это всегда и повсюду, во всех перипетиях жизни, потенциальная мать. Она может быть невестой, супругой и матерью, но не вольной подругой каких-нибудь романтических кутежей и увеселений. Следуя своему естеству, по прямой линии, без уклонений в сторону, она настраивает свои тонкие нежные струны на вечный лад будущих семейных волнений и радостей. Отсюда такая узкоколейность и элементарность её душевной жизни, на ранних ступенях её физического роста. Эротика её не похожа на романтику. Нет капризной разбросанности и безответственной игривости, нет пылающих огней, обегающих всё кругом, как это мы видим у столь многих арийских женщин. У этих последних женщин всё дано в прихотливых сочетаниях, всё пенится забавою минуты, и цель так же мало выражена в шаловливой романтике, как мало она ощущается в душе милой сильфиды. У еврейской же девушки всё серьезно, чревато будущими заботами, почти торжественно и высоко человечно в своём напряжении, в своём фатальном жертвоносном стремлении к единой существенной цели. Самое явление невесты было бы затеряно в человечестве, не будь на свете еврейской женщины. С ранних, почти детских лет своих она несет всегда эту целомудренную точечку будущего долга. И всё около этой именно точечки, в личной её биографии, свивается, закручивается и накапливается слой за слоем. Смеется такая девушка по-особенному. В голосе её звучит призывный колокольчик, а смущенное лицо заливается пламенем нежного и многозначительного румянца. Слезы у неё какие-то болевые, тяжеловесные, точно выливающиеся из той самой ткани, которой предназначено сломиться и разорваться и которой в эти именно секунды уже дано ощущение будущей катастрофы. Еврейская девушка всех типов, на духовном Сионе, как и в недрах культурной габимы, плачет долго, упрямо, с захватом всей её сущности, с такою цельною трагичностью, какой не встретить ни в каком другом народе. Вся душа в слезах, всё проплакано до мокроты, всё собрано в стихийном бурлящем маленьком водовороте. Вся миссия еврейской девушки располагается по пути тревожно заботливой и потенциально материнской отчаянной слезы. Вот где родилась идея Мадонны. Идеи этой нельзя сочинить. Её пришлось взять прямо из еврейского источника. Разлагаясь в условиях чуждого быта, испачканного страстью, распутными вдыханиями и всяческими исступлениями то в стиле Ваала, то в стиле Диониса, идея Мадонны всё же, даже в обломках своих, сохранила и продолжает сохранять до сих пор для европейских народов свое благотворное значение. Но длинные века христианской культуры, с её профанными высотами, с её ипокритной религией, и выставочной эстетикой, показали нам, что идея эта тут не на своей родной почве. Иудейская точечка где-то горит в миазмах болотного разложения, светится где-то в туманах теоретического богомышления. Но в жизни, какова она есть – плотской, грубой, насильнической даже в своих эротических подъемах, – её всё-таки нет. Жизнь протекает мимо этой точки в устроенном к иным берегам потоке. Но еврейская девушка, именно такая, какою мы её видим в реальности, с её постоянными вздохами, родильная мечтаниями и слезами в кредит неизбежных будущих несчастий, являет нам тип настоящей подлинной мадонны, перед которой бледнеют даже великолепные живописные подобия на эту тему Рафаэля. И черты мадонны эта девушка сохраняет до конца своей жизни, в глубочайшей своей старости.
Старая еврейская женщина это уже просто воплощённая слеза. Она вся – вздох, вся – молитва сердца, вся – сокрушение о пройденном пути и благоговейная сосредоточенность в интересах сегодняшнего дня. Её морщинистое лицо напоминает складки патетической гармоники, углубляющиеся по мере того, как она умолкает в руках играющего. В расцвете жизни и песнопенья, она втянута гладко и ровно: звук её чист, высок и звонок. Но на пути к умолканью складки собираются вместе, в плотном содружестве, как морщины на лице. Гармоника всё тише и тише, всё меланхоличнее и меланхоличнее, поет свою прощальную песню. Эти семитические гармоники можно любить до самозабвения – так хороша смерть в тихо умирающей музыке, среди тончайших звуковых вознесений, а не в катастрофическом падении в черную бездну. Это тоже одно из величайших созданий семитического гения: старуха-благая, теплая, понимающая и помнящая, хранящая в глубинах своих заветы Синая и наставляющая в них растущую юность. И такая она опрятная, юмористически игривая, с девчонской улыбкой на слабеющих устах, с нежно-худою кистью, в которой каждый палец – всё та же поющая струна. Как умеет еврейская старушка смотреть вам в глаза восхищенно и слезно, как умеет провести она ласковой рукой по вашим волосам – поцелуйным прикосновением, в котором ощущается молитвенная какая-то бенедикция!
Обратимся к матери Рембрандта. Целый ряд картин и офортов дает нам её лицо во всевозможных положениях и с такою отчетливостью, что оно становится вам совершено родным. Мы знаем эту женщину насквозь. Впервые мы встречаемся с ней в упомянутой выше картине 1628 года «Симеон-богоприимец». Хотя картина эта стилизована в итальянском духе, всё же характер матери Рембрандта уже намечен в существенных чертах. Тут вся патетичность умирающей гармоники. Но общая концепция картины неизбежно видоизменяет портретные детали, которые сейчас нам особенно нужны. Впервые мы видим её полностью в портрете 1629 года, находящемся в частном музее, со всеми её типичными особенностями еврейской женщины эпохи духовного Сиона. Это, несомненно, еврейская женщина, в чистом её виде, без примеси какой бы то ни было габимы, еврейская старушка. Лицо, его выражение, минорная экспрессия глаз, чутко сдержанный наклон головы, с покровом парика, всё отдает семитизмом. В полураскрытых губах, представляющих разительный контраст к губам Гарменса, слышится дыхание любвеобильного, но истомленного бурями жизни благородного сердца. Нет в них упрека – упрек так увлажнен слезою, что давно потерял свою горечь и остроту, обратившись, скорее, в попечительно-думную ласку. Нос мягкий и длинный, с проникшими крылышками, в одной из складочек лицевой гармоники. Глаза тихие-тихие. Лоб весь открыт и белеет своим большим световым пространством. Портрет представлен в яркой светотени, прекрасно отобразившей характер этой женщины со светлой психологией её негабимного существа. Вот настоящая старуха, в прошлом – мадонна, которая живет в ней неумирающей монадой. Белизна лица её как бы вырастает из белоснежной полоски воротника. Старуха не в будничном облачении, а в праздничном – субботнем костюме – молодая и вечная в одно и то же время.
15 мая 1924 года
Мы имеем несколько портретов матери, относящихся к тем же первым годам деятельности Рембрандта в Амстердаме. В 1630–1631 годах он пишет её всё в тех же значительных и глубокомысленных чертах. В лондонском портрете из частной коллекции Дональдсона она представлена с большим композиционным расчетом на эффект светотени. Темный, почти черный покров над головой широко распахнулся, обнимая равномерно со всех сторон ярко освещенное лицо, опять как бы вырастающие из светлого источника внизу, у шеи. Рот полуоткрыт. Гармоника кажется особенно дряхлою и глаза неопределенно померкли. Мать что-то видит перед собою, не отчетливо, скорее внутренним, чем внешним зрением. Что это еврейка эпохи чистого иудаизма – не подлежит никакому сомнению. Вся экспрессия насквозь проникновенно сентиментальная, нежно и тихо замирающая.
На другом виндзорском портрете мы имеем то же лицо, но как бы в более узком масштабе, с сомкнутыми губами, в так же распахнувшемся покрывале, почти сливающимся с общим темным фоном картины. Местами покров прорезывают белесоватые полоски. Но по прежнему лицо в световом отношении резко выделено, в контраст всему окружающему. Источник света не виден и не понятен. Как мы уже отмечали, лицо светится изнутри, как бы фосфоресцирует. Оно задумчиво, но глаза открыты, устремленность их определилась в общее выражение, при сжатом рисунке, вполне жизненное. В предыдущем портрете мы имеем, скорее, какую-то химеру. Тут же лицо довольно реалистично, как и на последующем по времени портрете, изображающем мать в чтении, за большим фолиантом. Обозначение на репродукции этой картины, столь простой и ясной в своей теме, относит почему-то изображение к категории библейских картин: это «пророчица Анна», читающая книгу. А между тем никаких атрибутов священного писания мы здесь не имеем. Единственным символом, выраженным светотенью, является яркая белизна книги. Из книги для еврея лучится свет. Представлена не пророчица, не сивилла, вообще, не существо из области иератической мифологии, а живая, реальная мать, со всеми знакомыми нам чертами, но всё более и более дряхлеющая, за делом, которое в субботний день весьма и весьма свойственно старой еврейской женщине. Она раскрывает молитвенник и углубляется в чтение. Она читает про себя, не вслух, не качая спины, без какой бы то ни было внешней экспансивности, читает иногда по складам, не понимая текста, но всегда и неизбежно с умиленным восхищением от всего написанного. Она знает, что это нечто священное, и гармоника ее лица растягивается и углаживается от внутреннего полетного согласования с музыкой света. Книга, находящаяся перед нею, спасительница еврейского народа, и старая женщина пиэтетно захватывает каждую страницу и бережно её переворачивает. Она у себя дома, отнюдь не в синагоге. Никакого истолкователя здесь нет перед нею. У католиков, у православных благочестивые люди редко читают священные книги. Они слушают их чтение в храме, в особой ритуальной обстановке, при посредничестве людей, осененных магической благодарностью. Только протестанты разрешают себе иногда чтение библии на дому, при том обычно вслух, главою семьи. Но в еврейской семье индивидуальное чтение, без иератической помпы, есть альфа и омега всякого благочестья, на дому, вне дома, даже в синагоге. Дом молитвы для еврея – это дом чтения. Чтение повсюду, во всех положениях, на ходу, в пути, в паузах ожидания – иногда устное, на память, иногда по молитвеннику, носимому при себе. Так и тут, в данном случае: мать Рембрандта уперлась глазами в раскрытую книгу, по строчкам которой она мягко ковыляет взглядом, помогая себе пальцами руки, спускающимися всё ниже и ниже. Мы не знаем, была ли мать Рембрандта искусна в чтении книг, но что она вкладывала в этот процесс всю свойственную ей сердечную музыку, в этом нет никакого сомнения. И судя по наряду, чистому и слегка торжественному, мы смело можем сказать, что Рембрандт представляет нам её за обычным делом в субботний день.
Мы имеем несколько офортов 1628 и 1631 года, в разных оттисках изменяемых мастером. Соответствующих этим доскам картин мы не знаем. Офорты эти замечательны во всех отношениях, если исключить при этом один офорт, представляющий ту же сидящую фигуру, с лицом обращенным влево. Этот последний офорт является обратною копией, с некоторыми видоизменениями, с превосходного оригинала Рембрандта. Как замечателен этот оригинал, имеющийся в нескольких интереснейших вариантах! Едва ощутимые детали различия придают каждому офорту своеобразную значительность. В двух основных офортах руки сложены между собою спокойно, мягко, с прикрытием левой, слегка-слегка согнутой кисти вытянутою правою ладонью. Так всё спокойно, так всё уравновешенно, и так художественно гармонично! Офортная игла тонко наметила ласковую дружбу двух старых рук, связанных между собою сотрудничеством целой жизни. При взгляде на этот офорт со стороны и издали, на коленях чудится лежащая книга, и следует признать, что вся пока как бы создана для изображения молитвенно задумчивого над книгою созерцания. И перед нами, несомненно, момент субботней светлой сосредоточенности, в глубоком вдыхании благочестивой души. Рот закрыт. Голова откинута слегка назад, но без малейшей спеси, запрещаемой молитвенником. Наряд торжественно-праздничный. Из-под головного покрова выбиваются довольно большими хлопьями пряди седых волос. На трех оттисках другого офорта, изучаемых сейчас по альбомам Ровинского, положение рук представлено уже иначе. Левая кисть приложена слегка согнутыми пальцами к груди. Она не спит и как бы сдерживает что-то, какую-нибудь бегущую складку одежды. Правая кисть опустилась на колено и лежит совершенно спокойно, опираясь полукругом на ручку кресла. Наряд изменен в восточном стиле, стиль, подходящий к еврейским лицам, с широкой фатой, спустившейся с головы. Большой открытый лоб смотрит в профиль. Глаза едва намечены и полузакрыты. Накидка богатая и меховая, то темная, то светлая, смотря по оттиску гравюры. Это, несомненно – мать Рембрандта, одна и та же на всех досках и на всех листах. Если спросить себя, что собственно выражает эта поза и это лицо, то вы должны будете признать, что перед нами гениально точное изображение религиозной настроенности именно в строго-реальном семитическом духе. Никаких фиоритур и никакого ипокритства, которые резко бросаются в глаза в христианских изображениях итальянских и иных образцов. Когда Франчма дает нам образ св. Цецилии, он берет обыкновенное итальянское лицо и покрывает его ипокритной маской. Я употребляю слово ипокрит, конечно, не в смысле лицемерия, а в античном значении, в духе древнегреческой филологии: закрывается нечто личное и открывается лицо мифологическое. Рафаэль хватает облики из уличной толпы мужчин и женщин, иногда довольно дешевого разбора. То же делают Ватто и Буше с Фрагонаром. Мурильо и Эль Греко то и дело вырывают с мясом и кровью целые клочки из окружающего быта, со всею их солнечной прожженностью, возводя потом всю эту красочную механику в перлы преображенных художественных созданий. Но на всех этих созданиях опять-таки лежит маска ипокритной идеализации. Здесь же у Рембрандта – ничего подобного. Благочестивая женщина представлена во всей своей реальной конкретности. Тут самая плоть религиозная, субботняя и вместе с тем не оторванная – ни на штрих, ни на секунду – от мира живых и живущих вещей. Такою именно мать Рембрандта и была в самой действительности. Присочиненного здесь нет ничего.
Имеется несколько бюстных изображений старой женщины, иными своими чертами напоминающей мать Рембрандта. Черты сходны между собою, но иногда они кажутся слишком плотными и массивными, и в них проблескивает иная психология. Три маленьких головы этюдного характера, относимых Ровинским к 1633 году, не возбуждают никаких сомнений. Это всё та же женщина, с теми самыми чертами, которые мы уже рассмотрели. Но бюст старой женщины, оторвавшейся от чтения и заложившей правую руку под одеждой на груди, контрастный с тремя такими же бюстами, но с молодыми лицами, вызывает уже довольно большие сомнения. Тут лицо матери с упрощенно мясистыми чертами, просто типичной старухи. Гармоника не играет. Поэзии куда меньше, чем в рассмотренных нами офортах. Офортная мгла Рембрандта чудодейственна только в полноте своей работы. Если хоть одну черточку исказить в его произведении, что-нибудь огрубить, что-нибудь слишком умягчить, что-нибудь утрированно переосветить, и вся магия его искусства сейчас же исчезнет. В каждой магии есть своя щепетильность, свои секреты и свои законы, ускользающие от непосвященных.







