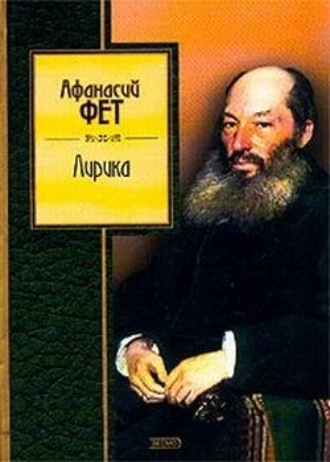
Афанасий Фет
Лирика
ВЕЧЕР
Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.
Далеко, в полумраке, лугами
Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака.
На пригорке то сыро, то жарко,
Вздохи дня есть в дыханье ночном, –
Но зарница уж теплится ярко
Голубым и зеленым огнем.
<<1855 >>

Дом А. А. Фета в Воробьевке
ЗМЕЙ
Чуть вечернею росою
Осыпается трава,
Чешет косу, моет шею
Чернобровая вдова.
И не сводит у окошка
С неба темного очей,
И летит, свиваясь в кольца,
В ярких искрах длинный змей.
И шумит все ближе, ближе,
И над вдовьиным двором,
Над соломенною крышей
Рассыпается огнем.
И окно тотчас затворит
Чернобровая вдова;
Только слышатся в светлице
Поцелуи да слова.
<<1847 >>
ЛИХОРАДКА
«Няня, что-то все не сладко!
Дай-ка сахар мне да ром.
Все как будто лихорадка,
Точно холоден наш дом».
«Ах, родимый, бог с тобою:
Подойти нельзя к печам!
При себе всегда закрою,
Топим жарко – знаешь сам».
«Ты бы шторку опустила…
Дай-ка книгу… Не хочу…
Ты намедни говорила,
Лихорадка… я шучу…»
«Что за шутки спозаранок!
Уж поверь моим словам:
Сестры, девять лихоманок,
Часто ходят по ночам.
Вишь, нелегкая их носит,
Сонных в губы целовать!
Всякой болести напросит,
И пойдет тебя трепать».
«Верю, няня!.. Нет ли шубы?
Хоть всего не помню сна,
Целовала крепко в губы –
Лихорадка ли она?»
<<1847 >>
ВИДЕНИЕ
Не ночью, не лживо
Во сне пролетело виденье:
Свершилося диво –
Земле подобает смиренье!
Прозрачные тучи
Над дикой Печерской горою
Сплывалися в кучи
Под зыбью небес голубою,
И юноши в белом
Летали от края до края,
Прославленным телом
Очам умиленным сияя.
На тучах, высоко,
Все выше, в сиянии славы,
Заметно для ока
Вставали Печерские главы.
<<1843 >>
* * *
<<…>> Оказалось, что Аполлон Григорьев, невзирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразиться страстью к стихотворству, и мы в каждое свидание передавали друг другу вновь написанное стихотворение.
Свои я записывал в отдельную желтую тетрадку, и их набралось уже до трех десятков. <<…>>
Все мы хорошо знали, что Николай Васильевич Гоголь проживает на антресолях в доме Погодина, но никто из нас его не видал. Только однажды, всходя на крыльцо погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу. Его горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти, хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча. Не будучи знакомы, мы даже друг другу не поклонились.
О своих университетских занятиях в то время совестно вспоминать. Ни один из профессоров, за исключением декана Ив. Ив. Давыдова, читавшего эстетику, не умел ни на минуту привлечь моего внимания, и, посещая по времени лекции, я или дремал, поставивши кулак на кулак, или старался думать о другом, чтобы не слыхать тоску наводящей болтовни. Зато желтая моя тетрадка все увеличивалась в объеме, и однажды я решил отправиться к Погодину за приговором моему эстетическому стремлению.
– Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю, – сказал Погодин, – он в таком случае лучший судья.
Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами: «Гоголь сказал, это несомненное дарование». <<…>>
А. А. Фет.
«Ранние годы моей жизни».
ГЕРО И ЛЕАНДР
Бледен лик твой, бледен, дева!
Средь упругих волн напева
Я люблю твой бледный лик.
Под окном на всем просторе
Только море – только в море
Волн кочующих родник.
Тихо. Море голубое
Взору жадному в покое
Каждый луч передает.
Что ж там в море – чья победа?
Иль в зыбях, вторая Леда,
Лебедь-бог к тебе плывет?
Не бессмертный, не бессонный,
Нет, то юноша влюбленный,
Проложил отважный путь,
И, полна огнем желаний,
Волны взмахом крепкой длани
Молодая режет грудь.
Меркнет день; из крайней тучи
Вдоль пучины ветр летучий
Направляет шаткий бег,
И под молнией багровой
Страшный вал белоголовый
С ревом прыгает на брег.
Где ж он, Геро? С бездной споря
Удушающего моря,
На свиданье он спешит!
Хоть бесстрастен, хоть безгласен,
Но по-прежнему прекрасен,
Он у ног твоих лежит.
Бледен лик твой, бледен, дева!
Средь упругих волн напева
Я люблю твой бледный лик.
Под окном на всем просторе
Только море – только в море
Волн кочующих родник.
<<1847 >>
ТАЙНА
Почти ребенком я была,
Все любовались мной;
Мне шли и кудри по плечам,
И фартучек цветной.
Любила мать смотреть, как я
Молилась поутру,
Любила слушать, если я
Певала ввечеру.
Чужой однажды посетил
Наш тихий уголок;
Он был так нежен и умен,
Так строен и высок.
Он часто в очи мне глядел
И тихо руку жал
И тайно глаз мой голубой
И кудри целовал.
И, помню, стало мне вокруг
При нем все так светло,
И стало мутно в голове
И на сердце тепло.
Летели дни… промчался год…
Настал последний час –
Ему шепнула что-то мать,
И он оставил нас.
И долго-долго мне пришлось
И плакать, и грустить,
Но я боялася о нем
Кого-нибудь спросить.
Однажды вижу: милый гость,
Припав к устам моим,
Мне говорит: «Не бойся, друг,
Я для других незрим».
И с этих пор – он снова мой,
В объятиях моих,
И страстно, крепко он меня
Целует при других.
Все говорят, что яркий цвет
Ланит моих – больной.
Им не узнать, как жарко их
Целует милый мой!
<<1842 >>
ЛЕГЕНДА
Вдоль по берегу полями
Едет сын княжой;
Сорок отроков верхами
Следуют толпой.
Странен лик его суровый,
Все кругом молчит,
И подкова лишь с подковой
Часто говорит.
«Разгуляйся в поле», – сыну
Говорил старик.
Знать, сыновнюю кручину
Старый взор проник.
С золотыми стременами
Княжий аргамак;
Шемаханскими шелками
Вышит весь чепрак.
Но, печален в поле чистом,
Князь себе не рад
И не кличет громким свистом
Кречетов назад.
Он давно душою жаркой
В перегаре сил
Всю неволю жизни яркой
Втайне отлюбил.
Полюбить успев вериги
Молодой тоски,
Переписывает книги,
Пишет кондаки.
И не раз, в минуты битвы
С жизнью молодой,
В увлечении молитвы
Находил покой.
Едет он в раздумье шагом
На лихом коне;
Вдруг пещеру за оврагом
Видит в стороне:
Там душевной жажде пищу
Старец находил,
И к пустынному жилищу
Князь поворотил.
Годы страсти, годы спора
Пронеслися вдруг,
И пустынного простора
Он почуял дух.
Слез с коня, оборотился
К отрокам спиной,
Снял кафтан, перекрестился –
И махнул рукой.
<<1843 >>
ГРЕЦИЯ
Там, под оливами, близ шумного каскада,
Где сочная трава унизана росой,
Где радостно кричит веселая цикада
И роза южная гордится красотой,
Где храм оставленный подъял свой купол белый
И по колоннам вверх кудрявый плющ бежит, –
Мне грустно: мир богов, теперь осиротелый,
Рука невежества забвением клеймит.
Вотще… В полно́чь, как соловей восточный
Свистал, а я бродил незримый за стеной,
Я видел: грации сбирались в час урочный
В былой приют заросшею тропой.
Но в плясках ветреных богини не блистали
Молочной пеной форм при золотой луне;
Нет, – ставши в тесный круг, красавицы шептали…
«Эллада!» – слышалось мне часто в тишине.
<<1840 >>
* * *
<<…>> Говорите что хотите, а ум, выплывающий на поверхность, – враг простоты и с тем тихого художественного созерцания. Если мне кто скажет, что он в Гомере или Шекспире заподозрил ум , я только скажу, что он их не понял. Черт их знает, может быть, они были кретины, но от них сладко – мир, в который они вводят, действительный, узнаешь и человека и природу – но все это как видение высоко недосягаемо, на светлых облаках. Книга давно закрыта, уже давно пишешь вечерний счет и толкуешь с поваром, а на устах змеится улыбка, как воспоминание чего-то хорошего. <<…>>
А. А. Фет. Из письма И. С. Тургеневу
20 января 1858 г.
ВАКХАНКА
Под тенью сладостной полуденного сада,
В широколиственном венке из винограда
И влаги вакховой томительной полна,
Чтоб дух перевести, замедлилась она.
Закинув голову, с улыбкой опьяненья,
Прохладного она искала дуновенья,
Как будто волосы уж начинали жечь
Горячим золотом ей розы пышных плеч.
Одежда жаркая все ниже опускалась,
И молодая грудь все больше обнажалась,
А страстные глаза, слезой упоены,
Вращались медленно, желания полны.
<<1843 >>
ДИАНА
Богини девственной округлые черты,
Во всем величии блестящей наготы,
Я видел меж дерев над ясными водами.
С продолговатыми, бесцветными очами
Высоко поднялось открытое чело, –
Его недвижностью вниманье облегло,
И дев молению в тяжелых муках чрева
Внимала чуткая и каменная дева.
Но ветер на заре между листов проник, –
Качнулся на воде богини ясный лик;
Я ждал, – она пойдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж древами,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные… Но мрамор недвижимый
Белел передо мной красой непостижимой.
<<1847 >>
* * *
<<…>> При отыскании красоты человек жил и мучился. <<…>>
В муках жизни и творчества бывают минуты не то чтоб отчаяния, но беспредельной тоски, какого-то безотчетного позыва, колебания, недоверия и вместе с тем умиления перед прошедшими, могущественно и величаво законченными судьбами исчезнувшего человечества. В этом энтузиазме… перед идеалами красоты, созданными прошедшим и оставленными нам в вековечное наследство, мы изливаем часто всю тоску о настоящем, и не от бессилия перед нашею собственною жизнью, а, напротив, от пламенной жажды жизни и от тоски по идеалу, которого в муках добиваемся. Мы знаем одно стихотворение, которое можно почесть воплощением этого энтузиазма, страстным зовом, молением перед совершенством прошедшей красоты и скрытой внутренней тоской по такому же совершенству, которого ищет душа, но должна еще долго искать и долго мучиться в муках рождения, чтоб отыскать его. Это стихотворение называется «Диана». <<…>>
Последние две строки этого стихотворения полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей русской поэзии. <<…>>
Ф. М. Достоевский. «Г-н –бов и вопрос об искусстве».
* * *
Уснуло озеро; безмолвен черный лес;
Русалка белая небрежно выплывает;
Как лебедь молодой, луна среди небес
Скользит и свой двойник на влаге созерцает.
Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнет ни складкой;
Порой тяжелый карп плеснет у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.
Как тихо… Каждый звук и шорох слышу я;
Но звуки тишины ночной не прерывают, –
Пускай живая трель ярка у соловья,
Пусть травы на воде русалки колыхают…
<<1847 >>
СОН И ПАЗИФАЯ
Ярко блестящая пряжка над белою полною грудью
Девы хариты младой – ризы вязала концы,
Свежий венок прилегал к высо́ко подвязанным
косам,
Серьги с подвеской тройной с блеском качались в
ушах,
Сзади вились по плечам, умащенные сладкою
амброй,
Запах далеко лия, волны кудрей золотых.
Тихо ступала нога круглобедрая. Так Пазифаю
Юноша Сон увидал, полон желанья любви.
Крепкой обвита рукой, покраснела харита младая,
Но возрастающий жар вежды прекрасной
сомкнул,
И в упоеньи любви, на цветы опускаяся, дева,
Члены раскинув, с кудрей свой уронила венок.
<<1842 >>
ДИАНА, ЭНДИМИОН И САТИР
(Картина Брюллова)
У звучного ключа так сладок первый сон!
Как спящий при луне хорош Эндимион!
Герои только так покоятся и дети.
Над чудной головой висят рожок и сети;
Откинутый колчан лежит на стороне;
Собаки верные встревожены – оне
Не видят смертного и чуют приближенье.
Ты ль, непорочная, познала вожделенье?
Счастливец! ты его узрела с высоты,
И небо для него должна покинуть ты.
Девическую грудь невольный жар объемлет.
Диана, берегись! старик сатир не дремлет.
Я слышу стук копыт. Рога прикрыв венцом,
Вот он, любовник нимф, с пылающим лицом,
Обезображенным порывом страсти зверской,
Уж стана нежного рукой коснулся дерзкой.
О, как вздрогнула ты, как обернулась вдруг!
В лице божественном и гордость и испуг.
А баловень Эрот, доволен шуткой новой,
Готов на кулаке прохлопнуть лист кленовый.
<<1855 >>
ТЕЛЕМАК У КАЛИПСЫ
Солнце низко. Легкой мглою
Вечер долы напояет.
Вход в пещеру раззолочен.
С наклоненной головою
Старый Ментор засыпает.
Сын Улисса озабочен.
Смолкли нимфы. Тихо дышит
Море, пар подъяв туманный.
Все безмолвствуют упорно.
Нимфа Эхо ясно слышит,
Как смолы благоуханной
На жаровне прыщут зерна.
Полны сладкого Лиея,
Ждут раскрытые амфоры;
Но забыл густую влагу
Сын прекрасный Одиссея;
Он поднять не смеет взоры,
Он ступить не смеет шагу.
На душе и стыд, и горе:
Как осмелиться богине
Рассказать свою кручину?
«Неужели, злое море,
Завтра я в твоей пустыне
Все забуду, что покину?»
Разгораясь в блеске алом
Отлетающей Авроры,
Но безмолвна, как рабыня,
Грудь прикрыла опахалом
И, склоня к любимцу взоры,
Не насмотрится богиня.
О Зевес! Зачем же лира
Так бессильна – дар, любимый
Златовласым Аполлоном?
Иль зачем, владыка мира,
Взгляд такой невыразимый
Ты даешь влюбленным женам?
<<1857 >>
НИМФА И МОЛОДОЙ САТИР
(Группа Ставассера)
Постой хотя на миг! О камень или пень
Ты можешь уязвить разутую ступень;
Еще невинная, бежа от вакханалий,
Готова уронить одну ты из сандалий.
Но вот, косматые колена преклоня,
Он у ноги твоей поймал конец ремня.
Затянется теперь не скоро узел прочный:
Сатир, и молодой, – не отрок непорочный!
Смотри, как, голову откинувши назад,
Глядит он на тебя и пьет твой аромат,
Как дышат негою уста его и взоры!
Быть может, нехотя ты ищешь в нем опоры,
А стройное твое бедро так горячо
Теперь легло к нему на крепкое плечо.
Нет! Мысль твоя чиста и воля неизменна:
Улыбка у тебя насмешливо-надменна.
Но отчего, скажи, – в сознаньи ль красоты
Иль в утомлении так неподвижна ты?
Еще открытое, смежиться хочет око,
И молодая грудь волнуется высоко.
Иль страсть, горящая в сатире молодом,
Пахнула и в тебя томительным огнем?
<<1859 >>

Венера Милосская.
ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ
И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой,
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.
Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Как много неги горделивой
В небесном лике разлилось!
Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.
<<1856 >>
НЕПТУНУ ЛЕВЕРРЬЕ
Птицей,
Быстро парящей птицей Зевеса
Быть мне судьбою дано всеобъемлющей.
Ныне, крылья раскинув над бездной
Тверди, – ныне над высью я
Горной, там, где у ног моих
Воды,
Вечно несущие белую пену,
Стонут и старый трезубец Нептуна
В темных руках повелителя строгого блещет.
Нет пределов
Кверху, и нет пределов
Книзу.
Здравствуй!
На половинном пути
К вечности здравствуй, Нептун! Над собою
Слышишь ли шумные крылья и ветер,
Спертый нагрудными сизыми перьями? Здравствуй!
Нет мгновенья покою;
Вслед за тобою летящая
Феба стрела, я вижу, стоит,
С визгом перья поджавши, в эфире.
Ты промчался, пронесся, мелькнул и сокрылся,
А я!
Здравствуй, Нептун!
Слышишь ли, брат, над собою
Шумный полет? – Я принес
С жаркой, далекой земли,
Кровью упитанной,
Трупами тучной,
Лавром шумящей,
Мой привет тебе: здравствуй, Нептун!
Вечно, вечно,
Как бы ни мчался ты, брат мой,
Крылья мои зашумят, и орлиный
Голос к тебе зазвучит по эфиру:
Здравствуй, Нептун!
<<1847 >>
<<…>> Только слабоумные люди видят в науке колдовство, а в жизни простоту и тривиальную будничность, тогда как это совсем наоборот. Как бы высоко ни забралась математика, астрономия, это все дело рук человеческих – и всякий может шаг за шагом туда взлезть, проглядеть все до нитки, а в жизни ничего не увидишь – хоть умри – тут-то тайна-то и есть! <<…>>
Во все живые явления, выражаемые статистическими цифрами, ежесекундно вторгается океан саморазличнейших нечислимых жизней. <<…>>
А. А. Фет.
Письмо Л. Н. Толстому 1 января 1870 г.

А. А. Фет.
* * *
Ночь весенней негой дышит,
Ветер взморья не колышет,
Весь залив блестит, как сталь,
И над морем облаками,
Как ползущими горами,
Разукрасилася даль.
Долго будет утомленный
Спать с Фетидой Феб влюбленный,
Но Аврора уж не спит
И, смутясь блаженством Бога,
Из подводного чертога
С ярким факелом бежит.
<<1854 >>
* * *
Жди ясного на завтра дня.
Стрижи мелькают и звенят.
Пурпурной полосой огня
Прозрачный озарен закат.
В заливе дремлют корабли, –
Едва трепещут вымпела.
Далеко небеса ушли –
И к ним морская даль ушла.
Так робко набегает тень,
Так тайно свет уходит прочь,
Что ты не скажешь: минул день,
Не говоришь: настала ночь.
<<1854 >>
НА КОРАБЛЕ
Летим! Туманною чертою
Земля от глаз моих бежит.
Под непривычною стопою
Вскипая белою грядою,
Стихия чуждая дрожит.
Дрожит и сердце, грудь заныла;
Напрасно моря даль светла,
Душа в тот круг уже вступила,
Куда невидимая сила
Ее неволей унесла.
Ей будто чудится заране
Тот день, когда без корабля
Помчусь в воздушном океане
И будет исчезать в тумане
За мной родимая земля.
1856 или 1857
ПОСЛЕ БУРИ
Пронеслась гроза седая,
Разлетевшись по лазури.
Только дышит зыбь морская,
Не опомнится от бури.
Спит, кидаясь, челн убогой,
Как больной от страшной мысли,
Лишь забытые тревогой
Складки паруса обвисли.
Освеженный лес прибрежный
Весь в росе, не шелохнется. –
Час спасенья, яркий, нежный,
Словно плачет и смеется.
<<1870 >>
* * *
Вчера расстались мы с тобой.
Я был растерзан. – Подо мной
Морская бездна бушевала.
Волна кипела за волной
И, с грохотом о берег мой
Разбившись в брызги, убегала.
И новые росли во мгле,
Росли и небу и земле
Каким-то бешеным упреком;
Размыть уступы острых плит
И вечный раздробить гранит
Казалось вечным их уроком.
А нынче – как моя душа,
Волна светла, – и, чуть дыша,
Легла у ног скалы отвесной;
И, в лунный свет погружена,
В ней и земля отражена,
И задрожал весь хор небесный.
<<1864 >>
МОРЕ И ЗВЕЗДЫ
На море ночное мы оба глядели.
Под нами скала обрывалася бездной;
Вдали затихавшие волны белели,
А с неба отсталые тучки летели,
И ночь красотой одевалася звездной.
Любуясь раздольем движенья двойного,
Мечта позабыла мертвящую сушу,
И с моря ночного и с неба ночного,
Как будто из дальнего края родного,
Целебною силою веяло в душу.
Всю злобу земную, гнетущую, вскоре,
По-своему каждый, мы оба забыли,
Как будто меня убаюкало море,
Как будто твое утолилося горе,
Как будто бы звезды тебя победили.
<<1859 >>
* * *
Качаяся, звезды мигали лучами
На темных зыбях Средиземного моря,
А мы любовались с тобою огнями,
Что мчались под нами, с небесными споря.
В каком-то забвеньи, немом и целебном,
Смотрел я в тот блеск, отдаваяся неге;
Казалось, рулем управляя волшебным,
Глубоко ты грудь мне взрезаешь в побеге.
И там, в глубине, молодая царица,
Бегут пред тобой светоносные пятна,
И этих несметных огней вереница
Одной лишь тебе и видна и понятна.
17 февраля 1891
ПРИБОЙ
Утесы. Зной и сон в пустыне,
Песок да звонкий хрящ кругом,
И вдалеке земной твердыне
Морские волны бьют челом.
На той черте уже безвредный,
Не докатясь до красных скал,
В последний раз зелено-мебный
Сверкает Средиземный вал;
И, забывая век свой бурный,
По пестрой отмели бежит,
И преломленный и лазурный;
Но вот преграда – он кипит,
Жечужной пеною украшен,
Встает на битву со скалой
И, умирающий, все страшен
Всей перейденой глубиной.
Конец 1856 – начало 1857

Семья Полонских в гостях у А. А. Фета в Воробьевке летом 1890 г. Сидят: А. А. Фет (справа), его жена Мария Петровна (слева), дочь Я. Полонского Наталья (в центре). Стоят: Я. Полонский (второй слева), его жена Жозефина Антоновна (первая справа), сыновья Б. Полонский (крайний слева) и А. Полонский (второй справа).
ПАМЯТИ В. П. БОТКИНА 16 ОКТЯБРЯ 1869 ГОДА
Прости! Разверстая могила
Тебя отдаст родной земле;
Скажи: что смерть изобразила
На этом вдумчивом челе?
Ужель, добра поклонник страстный,
Ты буйству века уступил
И обозвал мечтой напрасной
Чему всю жизнь не изменил?
Ужель сказал: «За вами поле,
Вы правы, тщетен наш союз!
Я ухожу, – нет в мире боле
Ни светлых дум, ни вещих муз».
Нет! покидая жизнь земную,
Ты вспять стопы не обращал
И тихо лепту трудовую
Трем старшим музам завещал [7].
Октябрь 1869
ПАМЯТИ Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО
Если жить суждено и на свет не родиться нельзя,
Как завидна, о странник почивший, твоя мне стезя! –
Отдаваяся мысли широкой, доступной всему,
Ты успел оглядеть, полюбить голубую тюрьму.
Постигая, что мир только право живущим хорош,
Ты восторгов опасных старался обуздывать ложь;
И у южного моря, за вечной оградою скал,
Ты местечко на отдых в цветущем саду отыскал.
3–5 июля 1886
ОТВЕТ ТУРГЕНЕВУ
Поэт! ты хочешь знать, за что такой любовью
Мы любим родину с тобой?
Зачем в разлуке с ней, наперекор злословью,
Готово сердце в нас истечь до капли кровью
По красоте ее родной?
Что ж! пусть весна у нас позднее и короче,
Но вот дождались наконец:
Синей, мечтательней божественные очи,
И раздражительней немеркнущие ночи,
И зеленей ее венец.
Вчера я шел в ночи и помню очертанье
Багряно-золотистых туч.
Не мог я разгадать: то яркое сиянье –
Вечерней ли зари последнее прощанье
Иль утра пламенного луч?
Как будто среди дня, замолкнувши мгновенно,
Столица севера спала,
Под обаяньем cна горда и неизменна,
И над громадой ночь, бледна и вдохновенна,
Как ясновидящая шла.
Не верилося мне, а взоры различали,
Скользя по ясной синеве,
Чьи корабли вдали на рейде отдыхали, –
А воды, не струясь, под ними отражали
Все флаги пестрые в Неве.
Заныла грудь моя – но в думах окрыленных
С тобой мы встретилися, друг!
О, верь, что никогда в объятьях раскаленных
Не мог таких ночей, вполне разоблаченных,
Лелеять сладострастный юг!
<<1856 >>






