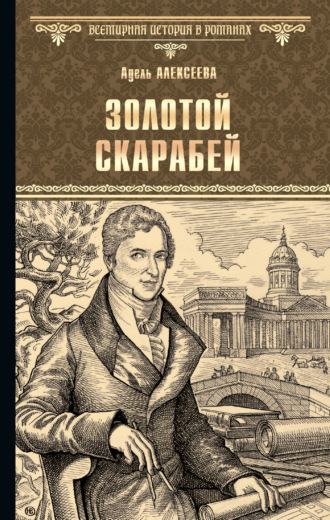
Адель Алексеева
Золотой скарабей
Встреча с шаманкой в уральской тайге
Андрей же мчался на коне, не разбирая дороги, в лес, в таежные дебри Урала.
Быть может, та картечь задела и его? Уж очень худо ему стало, словно память потерял, летел и летел в просеках меж густых елей и сосен, пробиваясь к свету. Сколько времени – и сам не знал. Это бегство, эта скорость, движение несколько охлаждали его горе, оно как бы наматывалось на конскую шлею.
Наконец – то ли конь притомился, то ли наездник – они остановились. Конь встал на дыбы возле обрыва. Внизу текла река, и по ней плыли бревна и ветви; весеннее наводнение уносило с собой не только остатки зимы, но и память…
Зеленые ветки сосны мягко покалывали лицо и руки. Он сел, спустил ноги, и перед глазами возникли сцены молодой его жизни.
…Мать – тихая с детьми и бойкая в работе. С какой силой месила она тесто для пельменей, как ловко управлялась с поддоном, на который накладывала пироги и шаньги! Все у нее в руках кипело. А перед сном приговаривала: «Любый мой, малый, расти, не ленись, слухай отца, а особливо графа и барона…»
И запевала что-то печальное:
Ой ты, Настя, девка красна,
Не рони слезы напрасно,
Слезы ронишь – глаза портишь,
Мила дружка отворотишь.
Отворотится – забудет,
Ину девицу полюбит.
Андрею чудилось в тех словах что-то тайное. Уж не из-за отца ли она проливала слезы? Никифор Степанович был суров – вон как эти ели; строг, как поп, а от сына требовал исполнения законов старообрядческой церкви. Не дай бог перекреститься тремя перстами, нарушить обычай. Читал книгу Аввакума, по ней пытался учить и сына, а того тянуло к чему-то иному. Лучше молиться, глядя на материну иконку, чем на суровый лик Спасителя у отца. У матери Пелагеи Ивановны линии на образе гибкие, мягкие, и взор у Спасителя ласковый.
Женщины в Усолье «писали» по строгановскому образцу, а сами были ласковые, терпеливые. Даже когда управляющий входил с гиком, молчали, лишнего слова – ни-ни. Управляющие кричали, чтобы анбары были закрыты, чтобы утром, до пяти часов, являлись людишки на соляные работы, чтобы караульные крепко надзирали, а без письменного указу никому не сметь выходить. В Соли Камской, в Соли Илецкой, в самой Перми и Сольвычегодске – повсюду рыскали караульные, проверяли…
А ему, Андрею, только бы глядеть на мир, только бы узнавать всякие секреты да тайны – он готов и на край света отправиться: почему одни молятся так, а другие этак? отчего не жалуют его староверы? почему строгановские иконы не похожи на другие?
От барона Григория Строганова слыхал, будто есть книга с названием «О скудости и богатстве», а еще – «Наставления сыну». Оттуда Андрей выучил три правила: «Будь добросердечен», «Будь эконом, но не скуп», «Не допускай до себя худых привычек».
А знаменитый Татищев, которого тут боялись и Демидовы, и Строгановы, наказывал: «Учитель должен читать ученикам гласно и внятно, чтоб всякий мог слышать и разуметь». Всякому ученику Татищев велел хоть час в день заниматься тем делом, которому будет служить.
Наслышаны были и о Державине, статс-секретаре императрицы, что одно время жил в Казани. Тот учил: ежели кто в небе комету заметит – описать ее. При Державине в Казани даже настоящая школа открылась – гимназией ее называли…
Андрею местные дали прозвище Воронок – то ли по характеру, быстроте, то ли из-за его жеребенка. Когда надобно ехать на мельницу, мчался стрелой, а коли воскресный день, праздник церковный, садился рядом с матерью и рисовал – мельницу крылатую или облака закатные – и замирал, забывая о времени. Попробовал писать святые лики – и где? – на дощечках, которыми закрывали крынки. Отец разгневался, сын промолчал.
Душой и сердцем Воронок уносился в далекие миры, мечтал о море, о других землях. Не оттого ли некая сила толкнула его в края пугачевские, и попал он тогда к замечательному генералу Александру Ильичу Бибикову. Если бы ему дали ружье, он убил бы наповал того изверга, что послал картечь на солдат, на Бибикова.
…Наконец Андрей поднялся, пнул ногой камень с обрыва, сел на коня и снова помчался, не ведая дороги, куда глаза глядят…
Через некоторое время послушный конь вдруг встал как вкопанный. Андрей упал на землю, его охватила безумная дрема, он уснул – как провалился в пропасть… Открыл глаза – что за чертовщина? Увидел море, но не синее, а белое. Огляделся – и ахнул! Да это ж грибы! Кто-то словно прошептал ему на ухо: собери все эти грибы. Он думал о прошедшем бое, о генерале, но собирал и собирал проклятые грибы. И опять – поле битвы: убитые лошади, оторванные головы, окровавленные тела. В голове его стучало, шумело.
Снова вскочил на коня…
После нескольких часов беспорядочной скачки понял, что заблудился. И лег на землю.
А какая земля! Нет ничего прекраснее покрытой мхом и иголками чистой земли. Она жадно впитывает влагу, можно идти по чуть отсыревшему ковру прошлогодних листьев, осыпающихся иголок от сосен и елей. Взглянул окрест – и тут тоже, один к одному, по четыре-пять да и более – красовались белые грибы. Переложив их в сумку, обернулся, и опять они перед глазами. Он шел и шел, а грибов не становилось меньше. Уже перестал обращать на них внимание, даже пинал ногами… Не хватало еще напороться на пугачевский отряд. Впрочем, он, кажется, бродил по кругу.
Пригляделся: увидел вдали что-то похожее на хутор, а может быть, и на деревню. Нет, там была одна-единственная изба. Подошел ближе. На завалинке сидел древнего вида старик, будто из самых диких времен. Андрей сказал, что заблудился, – как выбраться, не знает. Старик с подозрением всматривался в парня – уж не разведчик ли пугачевский? Не похоже.
– Ты попал в чертово логово, в край ведьмы, Бабы-яги! – проговорил старик. – За что пинал, топтал белые грибы? Жди наказания, а может, и проклятия. Ты Ведьмин круг разрушил, а он заколдован. Так что не найти тебе дороги домой.
– Дедушка, я подарю вам своего коня, гляньте, какой конь! Укажите дорогу, мне надо в Усолье.
– Коня, говоришь?.. Тут у меня лебеденок жил. Царская птица! Сжились мы с ним… Он ногу поранил. Я его кормил, ухаживал. Только до той поры, пока не увидал он стаю таких же птиц… Я говорю ему: «Лети, лети за ними, а то скоро зима, что будешь делать в наших холодах?» А он так грустно смотрит в небо. Отпустил я его. Побродил он вокруг и опять назад вернулся… Дорог тут нетути… Однако прошла неделя – увидал он снова стаю в небе с вечера, а утром я вышел – лебедя-то и нет. Улетела царская птица. Кто ему помог? – неведомо. Думаю, ведьма лесная.
– Дедушка, помоги и мне выбраться отсюда.
– Есть одна штука: ежели найдешь бабку-шаманку – она тебя выведет. Только… пинал грибы ты зря, за это она с тобой поиграет…
– А где ж она живет?
– Где живет, говоришь? А вот иди прямо да прямо не менее часу. Ежели найдешь чудо-юдо, избушку под сосной, да ежели она сама там очутится – стучись и бросайся в ноги.
Это было похоже на сказку, но ничего не поделаешь. Андрей поклонился старику, сделал семь шагов. Обернулся к хутору – а старца и след простыл…
Двинулся Андрей дальше наугад. Сверкали на солнце золотистые стволы сосен, зеленели замшелые ели – и будто какая сила толкала и толкала его вперед.
Оказался возле обрыва. На краю стояла гигантская сосна, а под ней что-то похожее на избушку или, скорее, на землянку. Лисья нора? Волчье логово?.. Обошел землянку, поражаясь неохватности ствола, толщине коры. Пригляделся – и различил корневище дерева-гиганта, а под корневищем то ли землянка, то ли избушка. Стены кореньями скрыты, в одной – дверца маленькая.
Надо бы помолиться, да все молитвы словно улетучились.
Назад дороги нет! Может, тот, что обитает в землянке, и выведет его из уральской тайги.
Постучал – молчание, постучал еще раз – молчание, на третий раз дверца сама открылась, но войти туда высоченному Андрею можно было лишь на карачках. Встал он на коленки и влез внутрь странного сооружения.
Темноту освещали три полена, что горели посередке. Над ними котел закопченный, подозрительный.
Огляделся – со всех сторон спускаются то ли корешки, то ли травы сухие. В глубине виднелось что-то косматое, в спорках и оборках, и из этого месива раздался шамкающий женский голос:
– Говори, зачем явился! Зачем Ведьмин круг нарушил? Я знаю тут каждый гриб, и поганку, и лисичку, каждую травиночку, а ты их топтал, пинал.
Андрей, заикаясь, объяснил: мол, заблудился, мол, сам он из дворовых Строганова, не простой мужик, барон его опекает.
– Барон опекает, говоришь? Так ты, видно, ему сын незаконный, выкидыш, что ли? – И старуха захохотала.
– Не знаю. Почему вы так говорите?
– Потому что знаю всю ихнюю породу – красавчики как на подбор.
Андрей и правда был пригож собою: курчавые темные волосы, высокий рост, ноздри тонкие, с вывертом…
– И-и-х! – взвизгнула старуха. – Не чистой ты породы! Наследили в твоем роду всякие… может, турок, может, цыганка. А вот что нос тонкий – это как у барона Гришки. Ух, лютый мужик! Весь в своего деда!
Что-то булькало, кипело в котле. Андрей со страхом прислушивался, приглядывался. Старуха – ему до пояса, нет-нет да и оторвет что-нибудь с потолка: или травку особую, или корешок – и в котел! Что за снадобье варится в котле?.. Уж не вздумала ли уморить гостя?
– А теперь ложись, с устатку поспи маленько, а я пока все приготовлю. Будешь сладко есть-пить, будешь умом проясняться и выйдешь сам на строгановскую тропу. Ложись!
Андрей без слов прикорнул на лавке и тут же задремал.
…Старуха ходила вокруг котла, взмахивала руками, приговаривала. Понять можно было только то, что у нее тоже был барон, да испугался ее, не полюбил, а зря, она все может, всякие чудеса в этом лесу сотворит: «Ох, скучаю я по барону! Ой, люб он мне, леший! Никто сюда так далеко не заходит, кто не знает, куда идет… Я знаю, тебя барон послал – соскучился».
Но ничего этого Андрей не слышал, сон сморил его, и сколько он спал – не знал.
Три дня и три ночи спал добрый молодец!..
Во сне ли, наяву ли – но Андрею виделось что-то звериное. То волк за ним гонится, то медведь, то лисица петли делает… Да еще птица вóрон крыла кружит… В детстве – вспоминал он во сне – боялся, что коршун, или орел, или ворон черный спустится и схватит в когти, заберет и унесет в далекие края…
А еще привиделась ему Хозяйка Медной горы, не великая малахитовая королева, а – маленькая, с вершок, молоденькая да красивенькая. И будто это была сама хозяйка земляной избушки… Бежит она и рукой манит… Он спешит, задыхается, а догнать ее не может… Что за байки уральские, что за сказки лесные?.. Черти-лешие с ведьмой играют… Она оседлала его и погоняет, как беса, кричит: «Скорее, скорее!»… А в другом сне обращалась в волчицу – обернулась и кличет его: «Догоняй! Ежели люба тебе – догонишь».
Еле жив Андрей, еле дышит, мокрый весь, а спокоя нету.
Так три дня и три ночи гоняла его лесная лесовичка, шаманка, которая превращалась то в маленькую девочку, то – в зрелую женщину, то – в лису или волка…
Думал Андрей, что совсем погиб, но тут сверху бросилась вниз черная ворона, грозно каркнула – и все видения исчезли…
Исчезли и шаманка, и оборотни, и страхи – оказался он на лесной, на строгановской тропе. Оглянулся – да то ж их южная заимка. Там поваренную соль отстаивают, выпаривают и выкладывают в колымаги великие.
Когда мать увидала его – не узнала: «Да что с тобой? Ты уж не отрок, не парень, а мужик!»
Он долго не находил себе места и неподвижными глазами смотрел, как мать вырисовывает на доске яркие, причудливые линии. На вопрос, где был, отвечал: искал южную соляную заимку да заблудился.
Когда вечерами являлся отец Никифор Степанович, к тому же пьяный, мать негромко ворчала:
– Где вас носит? Не малые дети, пора одуматься тебе, Никифор! Не то сыну придется расплачиваться за твои грехи.
– Какой он мне сын? А-а-а-а, – мычал отец, – какие мои грехи? Может, твоих-то поболе будет…
– Помолчи! – И Пелагея еще ниже склонялась к столу.
О приключившемся с ним Андрей никому не рассказывал, что-то удерживало его. Но рука потянулась к карандашу, серой бумаге, и он сделал несколько рисунков того, что пережил в полусне-полуяви. Их случайно увидел отец Иоанн, изменился в лице и велел завтрашним днем прийти к нему в церковь.
Когда Андрей пришел в церковь, посреди нее стояла растрепанная, с выпученными глазами баба, она кричала диким голосом, потом забилась в бесноватом приступе. Отец Иоанн поводил вокруг ее головы руками, приложил икону к ее животу – и баба затихла. Андрей вспомнил сцену в уральской тайге, и ему опять стало не по себе.
Батюшка прочитал над ним молитву «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…», прошептал: «Сожги рисунки свои, от них только зло» – и перекрестил.
Вечером в доме опять была ругань. Щеки у Андрея так и запылали, а еще больше – уши. Уже не впервой ему слушать отцовы-материны перебранки; отец мог и огреть жену поленом, и совсем непотребные слова из него выскакивали. Пусть отец, такое уж у него дело – всеми командовать, да ведь и другие в Усолье нехорошее болтали про его матушку, хотя она и сама спуску им не давала. Хуже всего – мальчишки, сельчане, те задирали его – то кричат, мол, графский нос у тебя, ровно огурец, то всех Строгановых душегубами окрестят. А уж теперь-то, когда Андрейка исчез на несколько дней, чего только не болтали. Чтобы смирить их, он даже дал своего Воронка босоногим да вихрастым. Тем и задобрил.
А потом отец Иоанн вызвал его к себе и не скоро отпустил.
– Не слушай, отрок, дурные слова. Кто ругается, у того конь спотыкается… И ребят не дразни – ежели не дразнить собаку, она и кусать не станет. А все сие исходит из безграмотья нашего.
– Да ведь они тоже в церковной школе сидят учатся, – ответствовал Андрей, а священник опять его увещевал:
– В чем загвоздка? Места наши старообрядческие, не всем доступна православная вера, да и не уберегает от греха церковная школа.
– Отчего же, батюшка?
– А оттого, что грешен человек. Та шаманка, что тебе встретилась, – дьявола искушение. Вот после третьего дня кончится мясопустная неделя и начнется Великий пост. Ты, отрок, строго блюди тот пост, и все сладится. Искушения уйдут, а на смену им, напротив, придет благодатное утешение. Один святой человек сказывал: коль скоро вкусишь благодатное утешение или получишь от Господа какой дар – жди искушения. Искушения прикрывают светлость благодати от собственных глаз человека, которые обычно съедают всякое добро самомнением и самовозношением. Искушения эти бывают и внешние – скорби, унижения, и внутренние – страстные помышления, которые нарочно спускаются, как звери с цепей. Сколько поэтому нужно внимать себе и строго разбирать бывающее с нами и в нас, чтобы видеть, почему оно так есть и к чему нас обязывает.
Батюшка положил руку, тяжелую, но теплую, на затылок Андрея и строгим голосом, нараспев промолвил:
– «Прииде пост, мати целомудрия, обличитель грехов, проповедание покаяния… Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, отлагания лжи и клятвопреступления».
Ночью Андрею опять мерещились огромный волк, медведь с оскаленной мордой, слышались шаги за спиной. Но он тихо зажег свечку и стал рисовать отнюдь не зверей, а… вроде башня до неба стоит, а из-за нее белое облако на темном небе – как перистое белое крыло…
Повзрослел в те дни старший сын Пелагеи. Она смотрела на него ласковым взглядом, словно любуясь творением своим: губы очерчены четко, как у графа, в лице что-то детское, однако над верхней губой уже усики, и взгляд живой, а брови потемнели и, так как располагались они выше, чем у других, то придавали лицу изумленное выражение. «Видно, из парня толк будет, Господи, помоги! Чтобы и граф тебя полюбил и сделал так, чтоб в люди ты вышел. Мы-то все в крепостных да дворовых, а ты, может, вырвешься на волю».
А недели через две в доме появился управляющий графским имением.
– Воронок! Где ты ходишь-бродишь? – прокричал. – Я тебя ищу везде. Бумага тут от графа. Велено тебе собираться в дорогу. Их сиятельство требуют тебя в Петербург. Учиться будешь! Дурень ты, дурень: когда нужен – нету. Граф Строганов ждет тебя, в какую-то школу, потом в Москву отправит.
Андрей встрепенулся: повидать столицу, Академию художеств – это ж его давняя мечта, и на глазах его выступили слезы…
Однажды Андрей Воронихин рядом с Академией художеств встретил растрепанного Мишку Богданова. И решил показать ему Академию, какие там классы, авось займется тоже рисованием, могут подружиться. Однако этого не случилось, более того: Мишель уговорил его к цыганам, к Яру, то бишь в театр. Там выступала французская труппа, и две метрессы увлекли их за кулисы. Накрыт был стол, с вином, с угощением. Пели, плясали, веселились, только кончилось не исчезновением серебряного портсигара, подаренного ему графом Александром Строгановым.
Андрей внимательней, чем раньше, приглядывался к окружающим. Не просто к дворовым строгановским, но – шире, к разным человеческим группам.
Мишель рассказал ему чуть не всю свою биографию, и была она в самом деле изобретательная. И оказалось, что настоящая его фамилия Спешнев, который был солдатом, воевавшим с Фридрихом еще при Елизавете Петровне. Он-то и отдал его в воспитательный дом, разумеется скрыв настоящую фамилию.
Въезд в Москву, удивительные встречи
Лошади остановились в селе Новоспасском, на ямщицкой поставе.
Андрей с любопытством осматривал окрестности. Воздух был прозрачный, апрельский. Почки набирали силу, хотя еще не распустились, все дышало нежной мягкостью, словно висел вокруг тончайший тюль. Дороги чистые, домики тоже, господский дом возвышался на холме. Вдали белела церковь.
Владельцем селения был Василий Васильевич Головин, знатный барин. В проезжей части Андрей услышал забавные истории про того барина.
Каждое утро к нему являлся дворецкий и говорил с низким поклоном:
– В церкви святой и ризнице честной, в доме вашем господском, на конном и скотном, в павлятнике и журавлятнике, везде в садах, на птичьих прудах и во всех местах милостию Спасовою все обстоит, государь наш, Богом хранимо, благополучно и здорово.
После дворецкого начинал свое донесение ключник, а следом за ним выступал староста с таковыми словами:
– Во всю ночь, государь наш, вокруг дома ходили сторожа, в колотушки стучали, по очереди трубили, хищные птицы не летали, молодых господ не будили…
Барин приказывал:
– Чтобы все, от мала до велика, жителей хранили, обывателей от огня неусыпно берегли… Глядите, не будет ли какого небесного явления, не услышите ли под собою ужасного землетрясения. Коли что такое случится, о том сами чтобы не судили, не рядили, а в ту пору к господину приходили и всё его милости боярской доносили.
Вечером, перед сном, Головин обходил комнаты, заглядывал в углы, молился и, крестясь, напутствовал себя: «Раб Божий ложится спать, на нем печать Христова и Богородицына нерушимая стена и всемощный Животворящий Крест… Враг-сатана! Отрешись от меня в места темные, безлюдные!.. Рожа окаянная, изыди от меня в ад кромешный, в пекло преисподнее. Аминь! Глаголю тебе – рассыпься, сатана! Дую на тебя и плюю!»
Еще перед сном он читал одну толстую книгу – «Жизнь Александра Македонского».
Позабавили Андрея и байки о кошках, которых в селении было множество. В комнате у самого Василия Васильевича семь кошек, и каждую на ночь привязывали к ножке стола, чтоб не прыгали на его кровать. А однажды любимый кот Ванька съел приготовленную для гостей рыбу и сам же утоп в той посудине. Слуги скрыли смерть кота, а барин распорядился его наказать – сослать в ссылку.
Андрей подумал было: «Не пожелает ли барин, чтобы я нарисовал портрет его?»
– Что ты, что ты, – отвечали ему, – этого он не любит! Приходили тут всякие мазилки вроде тебя… Да к тому же нет его тут, он еще в московских домах проживает. Вот придет первое мая – тогда он и явится со всем своим поездом, телег да экипажей штук двадцать.
Покинув Новоспасское село, лошади ехали вдоль реки Яхромы и остановились неподалеку от Москвы. Здесь Андрею предстала не деревянная, хоть и видная, изба Головина, а целая хоромина.
Издали виднелась поднимающаяся от реки великая терраса, уставленная белыми скульптурами. Вдали между елями сверкал на солнце дворец аж в два или три этажа. Рассмотреть дворец и скульптуры Андрею не удалось, но внутри у него шевельнулось какое-то нехорошее чувство: что он знает, что может? Ни сделать скульптуру, ни построить такое здание, а от него ждут проявления художественных способностей. С грустью обернулся он в сторону Юсуповского дворца (а именно князь Юсупов был его владельцем) и вздохнул. Впрочем – впереди была Москва, которую велел осмотреть графский управляющий…
Миновав деревянные домишки, утопающие среди елей, пихт, лиственных деревьев, они оказались на широкой улице. Но что предстало глазам Андрея? Расталкивая прохожих, коляски и кареты, бежали казачки невеликого роста в красных сапожках и выкрикивали: «Дорогу! Сам Архаров едет, Иван Петрович, с угощениями! Посторонись!»
Как писали современники, Архаров встречал гостей у себя с таким искренним радушием, что каждый из них мог считать себя самым желанным для него человеком. Особенно почетных и любимых гостей он заключал в объятия, приговаривая: «Чем угостить мне дорогого гостя? Прикажи только, и я зажарю для тебя любую дочь мою!» Веселый, Архаров любил потешать своих приятелей разными прибаутками. За обедом подавали пиво, предпочитаемое им другим напиткам, и он, налив стакан, неизменно обращался с таким присловьем:
– Пивушка! – Ась, милушка?
– Покатись в мое горлышко.
– Изволь, мое солнышко.
Но вскоре Андрей увидел еще одну прелюбопытнейшую картину: в низкой коляске, совсем низкой, сидела барыня. Тележку ее, или таратайку, запрягли в старую, малую лошадку, и барыня сама держала в руках вожжи. Для прогулок Архаровой была сделана низенькая тележка, без рессор, с сиденьем для кучера, прозванная в шутку «труфиньоном». Выкрашенная в желтую краску, она была похожа на длинное кресло и запрягалась в одну лошадь, смирную и старую, двигавшуюся самой тихой рысью. Летом Архарова направлялась в труфиньоне к рощам и в хороших местах останавливалась. Труфиньон служил также и для визитов, весьма оригинальных. Поедет Архарова к знакомым и велит вызвать хозяев или, в случае их отсутствия, прислугу:
– Скажи, что старуха Архарова сама заезжала спросить, что, дескать, вы старуху совсем забыли, а у нее завтра будут ботвинья со свежей рыбой да жареный гусь, начиненный яблоками. Так не пожалуют ли откушать?
Современники писали о барыне, весьма характерной для столицы в XVIII веке:
«Проснувшись довольно рано утром, Архарова обыкновенно требовала к себе одну из приживалок, исполнявшую при ней обязанность “секретаря”, диктовала ей письма и почти под каждым приписывала своей рукой несколько строк. Потом она принимала доклады, выдавала из разных пакетов деньги, заказывала обед и, по приведении всего в порядок, одевалась, молилась и выходила в гостиную, а летом в сад. С двух часов начинался прием гостей, и каждый из них чем-нибудь угощался; в пять часов подавался обед. За стол садились по старшинству. Кушанья были преимущественно русские, нехитрые и жирные, но в изобилии. Вино, довольно плохое, ставилось, как редкость, но зато разных квасов потреблялось много. Блюда подавались смотря по званию и возрасту присутствующих. За десертом Архарова сама наливала несколько рюмочек малаги и потчевала ими гостей и тех из домашних, которых хотела отличить. По окончании обеда Архарова поднималась, крестилась и кланялась на обе стороны, неизменно приговаривая: “Сыто, не сыто, а за обед почтите: чем Бог послал”. Она не любила, чтобы кто-нибудь уходил тотчас после обеда.
– Что это, – замечала она, немного вспылив, – только и видели; точно пообедал в трактире. – Но потом тотчас смягчала свой выговор. – Ну, уж Бог тебя простит на сегодня. Да смотри не забудь в воскресенье: потроха будут.
После обеда она раскладывала пасьянс или слушала чтение, преимущественно романов. Ей очень нравился “Юрий Милославский” Загоскина; но когда герой подвергался опасности, она останавливала чтение просьбой:
– Если он умрет, вы мне не говорите…
Архарова относилась очень строго к людям предосудительного поведения. Когда речь касалась человека безнравственного, она принимала суровый вид и объявляла резкий приговор: “Негодяй, – говорила она, – развратник…”
А потом, наклонившись к уху собеседника или собеседницы, прибавляла шепотом: “Galant!..” Это было последнее ее порицание».
«О темпора о морес!» – так говорили древние. О времена, о нравы! А мы добавим: господа, встретившиеся на пути Андрея в Москву, были сколь самовластительны, столь же и забавны, – и подобных он не видал в уральских краях.
Несколько дней ходил-бродил Андрей Никифоров по московским улицам, переулкам, кривым закоулкам и, наконец, немного освоился с прежней столицей Российской империи. Послал депешу графу Строганову в Петербург – мол, готов немедля предстать перед его сиятельством. Каково же было его удивление, когда получил ответ, в котором граф велел ему явиться в Москве к старому Путевому дворцу и найти там архитектора Матвея Казакова: мол, будешь ему помощником в черчении и прочем, а попутно станешь набираться ума-разума. Вот радость, да еще двойная: и учиться будет чему-то, и по Москве можно еще бродить-глядеть…
Однажды, уже не в первый раз, Андрей оказался на Красной площади, на этот раз с мольбертом: решил зарисовать Спасскую башню, а может быть, и чей-нибудь портрет сделать. Лица изображать он любил с детских лет, сперва непохоже получалось, но теперь сразу можно было признать знакомого.
Он уже заканчивал карандашный рисунок Спасской башни, как к нему подошел солидный и красивый мужчина в белом парике. Спросил:
– Можешь мое лицо запечатлеть на фоне этой башни? Мне ехать надобно, путь не ближний, горы и море, а с собой портрет свой, да еще рядом с Кремлем, недурственно было бы взять – на сердце теплее.
Андрей вгляделся в лицо странного человека, а как взглянул, так не мог глаз отвести. Что за славный лик! Правильные черты, прямой нос, брови – две дуги, на губах приятственная улыбка, но главное – общее, какое-то необыкновенное выражение ума и доброжелательности. А ведь в парике, в шитом камзоле – богат, видать, но держит себя, словно ровня ему, безвестному вьюноше.
– Готов? – спросил господин, терпеливо дождавшись, пока художник очинит карандаши и приспособит этюдник.
– Пожалуйста, еще две-три минутки, и я буду готов, ваше сиятельство! – засуетился Андрей.
Ах, как ему хотелось запечатлеть, пусть и в карандаше, сей благородный лик! Он очень старался, казалось, вот-вот получится. Но улица есть улица. Откуда-то возник еще один господин и, состроив забавную рожицу, встал за тем, что в белом парике, да еще растопырил пальцы, а потом заговорил быстро, образно, весело, с многими прилагательными. Видно, они были знакомы, потому что «белый парик» забыл о неподвижности и воскликнул:
– Ба! Кого я вижу! Настоящее сиятельство, князь Иван Михайлович Долгорукий! Откуда и куда путь держишь?
– Дорогой Аполлон Аполлонович, славный наш друг Мусин-Пушкин, кому ты вздумал доверить свою персону? Я для тебя настоящего художника поставлю, Левицкого, он сделает тебе отменный портрет.
Лицо Андрея залилось багровой краской.
– Не смущайся, вьюноша, – заметил «белый парик».
А Долгорукий (тоже простой!), обращаясь к Андрею, произнес целый монолог:
– Молодой человек, знаете ли вы, кто перед вами? Запомни, друг ситный: граф Мусин-Пушкин – человек редких талантов, аристократ, но не вельможа, не барин, ибо посвятил он себя нау-ке! Обладающий обширными познаниями в химии и минералогии, это известный в Европе ученый, член академии наук Петербургской, Берлинской, Туринской и… Лондонской. Его сиятельство начальствует над горными производствами на Урале и на Кавказе! Ты понял – как тебя зовут? – И князь толкнул Андрея в бок. – Андрей, Андрэ? Из наших мест будешь? Уж не из шереметевской или какой усадьбы? Любят они учить дворовых.
– Я еду по приказанию графа Строганова, – окончательно смешавшись, понимая, что рисунок закончить не удастся, пробормотал Андрей.
– Ах, Строганова? Ну это другое дело. Этого – хоть он и граф, а не князь, – я уважаю, бывало, сиживали мы с ним за одним столом, не скажу, за каким.
– Дорогой князь, ты совсем перепугал нашего живописца, перестань шутить.
– Я не шучу: Строганов, а не Шереметев, первый богач в России!
– А что, разве мы с тобой бедны?
– Мы с тобой, Аполлон Аполлонович, богаты, да только не в сундуках и ларцах наши богатства хранятся, а вот здесь! – Долгорукий постучал по голове. – Да еще здесь. – И приложил руку к сердцу.
– Славные твои вирши я читывал, – все с тем же необычайно доброжелательным, ласковым выражением отвечал Мусин-Пушкин.
И тут же, взяв под локоть ученого, направился к спуску, к Москве-реке. Мусин-Пушкин успел лишь шепнуть Андрею:
– Прости, любезный! Авось встретимся, – и сунул ему монетку.
А спустя час или два князь Долгорукий у камина в скромном своем доме – его называли даже «захудалый князь». А он говорил: «Я беден, зато весел».
Глядя на горящие поленья, Иван Михайлович менялся неузнаваемо: вместо весельчака, играющего в пьесках при малом дворе в Гатчине, у будущего наследника Павла Петровича, был он весел и проказлив, а у камина в закатные часы его охватывали воспоминания. Вставали картины, которых он не мог видеть, но – видел.
Красные языки пламени – и кровь, капающая с его деда Ивана Алексеевича. Был он второй персоной при императоре-отроке Петре II – но жестокая судьба слепо осудила его на казнь… Четвертование… Отрубали ноги-руки, он потерял сознание… И все – за его верность юному императору, за то, что не скрыл недовольства к Анне Иоанновне и ее фавориту.
Горячий нравом казненный дед… и верная ему Наталья Борисовна Шереметева. Любовь их до гроба его и до ее пострижения в монахини, до кончины… бабушку он в детские годы видел в монастыре… Оба они лежали в «капище», в святилище его сердца.
Какое утешение находил молодой Долгорукий, потомок славнейшего рода? Театр, актерство, игра! Он научился управлять собой и, будучи ранен судьбой, изображал балагура, таратуя, весельчака. За то его и стали ценить Павел Петрович и супруга его Мария Федоровна…
В последнее время все более утешительными становились часы, в которые он писал свои вирши. Взял перо, бумагу, толстый фолиант подложил снизу и, не зажигая свечи, в отблесках пламени камина стал царапать гусиным крылом:
Пускай себе кружится сфера,
И пусть различная химера
Играет каждого умом!
Творец все к лучшему устроит;
Нас ныне стужа беспокоит,
Зато не страшен летний гром.







