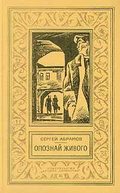Сергей Абрамов
Новое платье короля
Настасья на финт купилась.
– Как это простудила? – возмутилась она, забыв о своих обвинениях, чего Алексей Иванович и добивался.
– Элементарно, – объяснил он. – Я же не хотел вчера гулять: холодно, мокро, миазмы. Вот и догулялись.
– Ну-ка, дай лоб, – потребовала Настасья Петровна.
Дать лоб – тут она точно табак учует, никакая пастилка не скроет. Дать лоб – это уж фигу.
– Нету у меня температуры, нету, – быстро заявил Алексей Иванович. – Лучше отстань от меня. Я думаю, а ты мешаешь. Я же сказал Тане, чтоб не пускала…
– Еще чего? Может, мне в Москву уехать?
– Может, – предположил Алексей Иванович.
– Сейчас, только калоши надену, – Настасья Петровна выражений не выбирала. – А с телевизионщиками, значит, ты сам говорить будешь, да?
– Ну что ты, Настасьюшка, – Алексей Иванович смотрел на жену невинными выцветшими голубыми глазками, часто моргал, как провинившийся первоклашка, – с телевизионщиками ты поговоришь. Вместо меня. А я полежу, почитаю. Вот галазолинчика в нос покапаю и лягу. Я ведь кто? Так, Людовик Тринадцатый, человек болезненный и слабый. А ты у меня кардинал Ришелье, все знаешь, все умеешь.
– Не валяй дурака, – уже улыбаясь, забыв о курении, сказала Настасья Петровна. – Ты подумал, о чем говорить станешь?
– О погоде, вестимо. О видах на урожай.
– Старый болтун! – Настасья Петровна легко, несмотря на свои пять с лихом пудов, прошлась по комнате, провела кончиками пальцев по корешкам книг, точно задержалась на синих томиках мужниного собрания сочинений, задумалась на мгновение и вытащила два тома. – Ага, вот она, – вроде бы про себя заметила, забрала пачку «Данхилла», сунула в карман платья. – Можешь говорить все, что хочешь, но не забудь о молодых.
Алексей Иванович с томной грустью проводил сигареты взглядом, но сражаться за них не стал: Настасья молчит, и он – тоже. Спросил только:
– О каких молодых?
– О молодых прозаиках. Скажи, что в литературу пришла талантливая смена, назови пару фамилий. Не замыкайся на себе. Говорить о молодежи – хороший тон.
– Помилуй, Настасьюшка, я же никого из них не читал!
– И не надо. К тебе позавчера мальчик приезжал, книгу тебе подарил. Я интересовалась: ее читают.
– Этому мальчику, как ты изволила выразиться, под сорок.
– Какая разница! Хоть пятьдесят. Сейчас все сорокалетние – молодые, так принято.
– У кого принято? У критиков? Они же все дураки и бездари. Сами ничего не умеют, так на нашем брате паразитируют… Хочешь, я об этом скажу?
– Не вздумай! Слушай меня! Как фамилия мальчика?
– Фамилию-то я вспомню. А не вспомню – вон его книга лежит. А кого еще назвать?
– Хотя бы дочь Павла Егоровича. Я читала в «Юности» ее повесть – очень мило.
– Так и сказать: очень мило?
– Так и скажи, – обозлилась Настасья Петровна. – И не юродствуй, пожалуйста, я дело говорю.
Алексей Иванович подумал, что Настасья и вправду дело говорит. Ну, не читал он этих, с позволения сказать, молодых – что с того? Назовет их фамилии – им же реклама: живой классик отметил.
– А еще о чем? – спросил он.
– О Тюмени. Мы с тобой туда ездили, ничего придумывать не придется. А там сейчас настоящая кузница кадров.
– Кузница, житница, здравница… Тюмень – кузница кадров, крематорий – здравница кадров… Подкованная ты у меня – сил нет. Только что с фамилиями делать? У меня склероз, ничего не помню.
– А я на что? Пока ты на буровых речи произносил, я все записывала. На, – она протянула Алексею Ивановичу блокнот. – Бригадиры, начальники участков, названия месторождений, а вот тут, отдельно, – цифры.
– Я сразу не разберусь, – попробовал сопротивляться Алексей Иванович.
– Сразу и не надо. Сейчас половина одиннадцатого. Сиди и читай, хватит бездельничать. Я иду завтракать. Вернусь – проверю.
Она пошла к двери – величественная, голубовато-седая, в ушах покачивались длинные и тяжелые бриллиантовые подвески. Алексей Иванович смотрел на нее и чувствовал себя маленьким и несмышленым. И впрямь – первоклашка.
– Мне нужен час, – все-таки заявил он сердито, собирая остатки собственного достоинства.
– Даю, – не оборачиваясь, сказала Настасья Петровна и вышла.
Алексей Иванович тихонько отодвинул блокнот с тюменскими фамилиями, посидел минутку, потом встал, потащил за собой кресло, взгромоздился на него и достал из плоского колпака люстры не «Данхила» пачку уже, а всего лишь «Явы», но зато мощно подсушенной электричеством. Прикурил, довольный, спросил сам себя:
– Интересно, что может написать дочь Павла Егоровича?.. Хотя дети не отвечают за грехи отцов.
Телевизионщики прибыли в полдвенадцатого, побибикали у ворот. Алексей Иванович видел в окно, как прошлепала ботами по асфальтовой дорожке сердитая Таня – как же, как же, от пирога оторвали, от жаркой духовки! – как въехала во двор серая «Волга»-универсал, как выпорхнула из нее средних лет славнюшка, а следом вылез мрачный мужик и потащил в дом два могучих ящика-чемодана с аппаратурой. В дверь кабинета заглянула Настасья Петровна.
– Подготовился?
– Конечно-конечно, – очень правдиво соврал Алексей Иванович, искательно улыбаясь, и в доказательство ткнул пальцем в сторону стола, на коем лежал давешний блокнот.
Невесть почему Настасью этот жест убедил, а скорее, некогда проверять было сомнительное мужнино утверждение, но она согласно кивнула, сказала:
– Я все устрою и тебя позову.
– Устрой все, устрой, – возликовал Алексей Иванович, хлопнул в ладоши – якобы от избытка чувств.
– Не клоунничай, – на всякий случай предупредила Настасья Петровна и скрылась – все устраивать.
Тут автору хочется сделать небольшое отступление. Почему писателей самой читающей страны мира частенько – и справедливо – упрекают в том, что они-де редко варятся в гуще народной жизни, не охватили еще своими эпохальными произведениями труд и быт представителей многих славных профессий, не работают со своими будущими героями на заводах, стройках, в колхозах и совхозах, а если и наезжают туда, то на неделю-другую, этаким кавалерийским наскоком? Почему? Да потому, что наш брат-писатель – один в поле воин; сам пишет, зачастую сам печатает рукопись, сам таскает ее по разным редакциям, сам себя вовсю рекламирует, без отдыха кует славу, а скоро настанет день, когда сам свои книги продавать станет – где-нибудь в метро или в подземном переходе. А был бы у него пробивной импресарио, менеджер, целое литературное агентство – смотришь, и наладился бы процесс творчества, высвободилась бы куча времени, чтобы и дояром в колхозе потрудиться, и на стройке повкалывать, и оленей в тундре попасти, и в парикмахерской ножницами пощелкать, и в баре за стойкой постоять.
Но вот вам вопрос на засыпку: а перешло бы количество в качество, что требует точная наука философия? Это вряд ли, это, как говорится, бабушка надвое сказала!..
Так, может, бог с ними – с литературными агентствами? Нет их и не надо. Пусть и в писательском деле властвуют суровые законы естественного отбора: в борьбе выживают сильнейшие. Кстати, и Алексей Иванович свой путь в литературу сам проторил, никто ему не помогал, а Настасья Петровна позже возникла. Но теперь-то она была ему и менеджером, и импресарио, и агентом: тут, надо признать, очень повезло человеку…
В гостиной на первом этаже стояли два мощных компактных софитика, два зеленых плюшевых кресла из югославского гарнитура были сдвинуты друг к другу, а перед ними на низком столике лежали книги Алексея Ивановича и раскрытые номера журналов с его последним романом. По комнате бродил мужик с переносной телекамерой на плече, натыкался на мебель, заглядывал в окуляр, примеривался, а в креслах расположились Настасья Петровна и телевизионная дама, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении никакой не славнюшкой, а пожилой толстой теткой, к тому же знакомой Алексею Ивановичу: не раз брала у него летучие интервью на разных съездах и пленумах. Как ее зовут, он, впрочем, не помнил.
– Здравствуйте, – сказал он громко. – Я не помешал?
– Что вы, что вы, – заворковала безымянная тетка, – мы вас ждем не дождемся. Садитесь, пожалуйста, – и резво вскочила с кресла.
– Спасибо, постою, – скромно сказал Алексей Иванович.
– Алексей, не придуривайся, сядь, – строго приказала Настасья Петровна и тоже встала. – Мы с Нонной Сергеевной обо всем договорились, беседа будет недлинной, ты не устанешь.
Ага, подумал Алексей Иванович, вот как ее зовут, тетку эту, попробуем не спутать. А вслух сказал:
– Я готов, как юный пионер.
Нонна Сергеевна засмеялась, как будто Алексей Иванович жуть как замечательно сострил, а мужик с камерой мрачно спросил:
– Будем снимать или шутки шутить? Время казенное…
И своей хамоватой деловитостью сразу понравился Алексею Ивановичу. Он даже с уважением глянул на оператора: тот всем своим видом показывал, что приехал работать, зарплату отрабатывать, а за пустые ля-ля ему денег не платят.
– Будем снимать, – Алексей Иванович тоже стал деловым и собранным, резво подошел к креслу, уселся, ногу на ногу закинул. – Итак, о чем речь?
Настасья Петровна отплыла в дальний угол, софиты вспыхнули, толстая Нонна скромно села на краешек кресла, одернула юбчонку на арбузных коленях и затараторила:
– К нам на телевидение приходит много писем от зрителей, которые познакомились с вашим новым романом, – она подняла журнал и показала его Алексею Ивановичу, словно он его никогда не видел, – и хотели бы услышать, как родился его замысел, кто послужил прототипом главного героя… И потом, вы так резко оборвали судьбы героев, что многие интересуются: будет ли продолжение?
Алексею Ивановичу ужасно хотелось поизгаляться. Сказать, например, что никаких прототипов не было и быть не могло, что только дураки могут ждать продолжения там, где черным по белому написано: «Конец». Не «Конец первой книги», а просто «Конец». А после потребовать у тетки оригиналы помянутых ею писем: наверняка их нет, наверняка она все сочинила. Короче, хотелось ему поставить суетливую Нонну Сергеевну в неловкое положение, но делать этого он не стал: рядом стрекотал камерой действительно занятой человек, который позавчера снимал актера Пупыркина, вчера – художника Мурмулькина или кого там еще, а сегодня служба привела его на дачу к писателю, и плевать ему было на их возвышенные откровения. Он честно отрабатывал свой хлеб, ставил свет, строил кадр, таскал тяжести, а всякий честный труд Алексей Иванович уважал и никаких шуток позволить себе не мог. Поэтому он вполне серьезно ответил:
– Два года назад мне удалось побывать в Тюменской области, познакомиться с людьми, каждый из которых имеет полное право стать героем повести или романа. Конкретно никто из моих новых знакомых не стал прототипом того или иного героя – это было бы не очень честно по отношению к людям: в моем романе есть и отрицательные персонажи, а положительные тоже не во всем положительны. Но если вспомнить известный литературоведческий термин «собирательный образ», то герои мои собрали многие черты характеров людей, умеющих и любящих делать дело, – тут Алексей Иванович со значением посмотрел на оператора, а получилось – в камеру. – Тогда, пожалуй, и родился замысел романа. А уже в Москве мне очень помогли специалисты-нефтяники, много перечитал я и специальной литературы… Впрочем, я не ставил перед собой цели писать некий научно-производственный труд, я писал о людях, об их взаимоотношениях, а уж как удалось – не мне судить…
– И ваши читатели, и критики, уже оценившие роман в прессе, – как по писаному шпарила Нонна Сергеевна, – единодушно считают его заметным явлением в литературе. Я слышала: вам предложили экранизировать его? – она улыбнулась в пол-лица, считая, видимо, себя Мерилин Монро или Галиной Польских.
– Да, я получил предложение – как раз от телевидения, – подумать о пятисерийном киноварианте. Но пока это – далекая перспектива.
– Может быть, тогда мы и узнаем продолжение судеб полюбившихся нам героев?
– Не исключено, не исключено, – уже несколько рассеянно ответствовал Алексей Иванович, прозрачно намекая, что пора закругляться, пора гасить софиты, под которыми он малость вспотел.
И Нонна Сергеевна тоже поняла это.
– Спасибо вам за беседу, – проникновенно, с некоторой долей интимности сказала она. – Примите от всех телезрителей искренние пожелания новых творческих свершений.
Деловик-оператор тут же остановил камеру, щелкнул выключателем, и в гостиной мгновенно стало темно. То есть в ней по-прежнему гулял летний яркий день, но Алексей Иванович подумал, что искусственное освещение богаче и красочнее естественного, природного. Вот вам хитрые фокусы века НТР!
Поскольку работа завершилась, Алексей Иванович позволил себе вольную шпильку в адрес велеречивой Нонны.
– А что, – наивно поинтересовался он, – у телезрителей случаются неискренние пожелания?
Оператор, сноровисто укладывающий в чемоданы аппаратуру, громко хмыкнул, а Нонна Сергеевна с мягкой укоризной объяснила:
– Просто существует такая фразеологическая форма…
– А попросту штамп, – Алексей Иванович легко встал, шаркнул ножкой в домашней тапочке и поклонился. – Однако премного благодарен. Имею честь и все прочее, – и споро порулил к выходу.
А оператор неожиданно сказал вроде бы в пространство странную фразу, по-видимому – цитату:
– «Ее голубые глаза увлажнились слезами умиления». – Будто бы он свою напарницу в виду имел, будто бы он так иронизировал над нею.
Но Алексей-то Иванович, внешне никак не отреагировавший на закавыченную реплику, все распрекрасно понял и еще раз – не без злости, правда – оценил хитрую толковость подлеца-оператора, на сей раз – его снайперское остроумие. Цитатка была из романа Алексея Ивановича, он даже помнил – откуда: из седьмой главы, где героиня узнает, что ее муж не согласился на лестное предложение переехать из Тюмени в Москву…
Но оценить-то остроумие он оценил, а вот настроение испортилось. И, казалось бы, мелочь, легкий укол со стороны непрофессионального читателя, но ведь в больное место попал, в чувствительный нервный узелок, который давно уже подавал некие сигналы бедствия, и Алексей Иванович слышал их, а помочь ничем не мог. Говоря образно и высокопарно, он, Алексей Иванович, большой корабль в большом плавании, слишком далеко удалился от этих сигналов: радио их принимает, а доплыть – мощности двигателей не хватает. И даже думать о том не хотелось!
Обедали в столовой. Стол там был несуразно большой, рассчитанный даже в сдвинутом состоянии на двенадцать персон, а в разобранном – на все двадцать четыре. Два года назад Алексей Иванович с супругой приглашен был в Англию, как пишут в протоколах Союза писателей – «для творческих встреч и выступлений», так Настасья Петровна чуть ли не всю валюту бухнула на покупку суперскатертей для дачного великана; дюжина скатертей, все разного цвета, из каждой можно легко сварганить палатку для пехотного взвода.
Алексей Иванович и Настасья Петровна по заведенному ею великосветскому ритуалу сидели по разные стороны стола, что Алексея Ивановича безмерно раздражало: не говорить приходилось, а орать друг другу. Впрочем, и тут Алексей Иванович придумал иезуитский ход: использовал Таню в качестве толмача.
Тане это нравилось.
Вот и сейчас, вкушая протертый овощной супец серебряной ложкой из розовой тарелки кузнецовского дорогого фарфора, Алексей Иванович попросил:
– Танюша, не откажи в любезности, узнай у Настасьи Петровны, понравилось ли ей мое выступление.
Произнес он это шепотом – так, чтобы Настасья уж точно не услыхала.
Невозмутимая Танюша, безжалостно гремя половником в хрупкой кузнецовской супнице, поинтересовалась на всякий случай:
– Слышь, Настасья, что муж спрашивает?
– Не слышу, – холодно ответила Настасья Петровна.
Она сидела подчеркнуто прямо, твердой рукой несла ложку от тарелки ко рту, не расплескивая ни капли в отличие от Алексея Ивановича, который прямо-таки нырял в суп, не ел, а хлебал варево, вел себя не «комильфо», по разумению Настасьи Петровны.
– Твоим мнением интересуется, – растолковала Таня. – Как, мол, выступил, и все такое.
– Говорил ты хорошо, – Настасья обладала громким и ясным голосом, переводчики ей не требовались, – но я же просила тебя назвать имена молодых…
– Дочери Павла Егоровича? – не без ехидства спросил.
– Пашкиной дочери? – перевела Таня. Павла Егоровича она знала, бывал он на даче, уважения у Тани не вызывал.
– Не только, не язви. Хотя Павлу Егоровичу это было бы приятно, а от него многое зависит.
– Что от него зависит? – повысил голос Алексей Иванович так, что Таня не понадобилась.
– Многое. Не в том дело. Разговор о молодых нужен был прежде всего тебе самому… Ладно, не стал, и бог с ними. Но ты знаешь, меня возмутила эта толстая дура.
– Да ну? – удивился Алексей Иванович, отодвинул пустую тарелку. – Татьяна, второе хочу! – И к жене: – И чем же, поделись?
– Ты обратил внимание, что она вякнула в конце?
– А что она вякнула? – Таня ушла в кухню за вторым блюдом, поэтому опять пришлось говорить громко.
– Она заявила, что твой роман – заметное явление в советской литературе.
– Разве не так? По-моему, его заметили, и еще как!
– Дело не в сути, а в форме. В штампе, как ты выражаешься. «Заметное явление» – штамп для середняков. О твоем романе следовало сказать – «выдающееся явление».
– Ты находишь? – заинтересовался Алексей Иванович опять-таки полушепотом, потому что в комнату вошла Таня с блюдом узбекского плова, лечебной пищи, весьма полезной для любого желудка, бухнула его посреди стола на место супницы и сразу включилась в беседу:
– Чегой-то ты, по-мойму, находишь, Настасья.
– Нахожу. В «Литературке», кстати, так и написали, если помнишь: выдающееся. И на пленуме по критике так говорили. Истомин, кажется. А она.
– «заметное»… Или она сама, по дурости, или ее накачали сверху.
– Настасьюшка, родная, ну кто ее качал? Сказала и сказала, какая разница.
– Без разницы все, – растолковала Таня кратко, потому что прекрасно видела, что все ее толмачевство – тоже игра, что Настасья Петровна обладает хорошим слухом, а плов хозяева уже доели, Алексей Иванович вон всю тарелку выскреб, надо посуду собирать и о третьем позаботиться.
– Большая разница. Ты не хуже меня знаешь, какое значение имеет эпитет. Зачем давать лишний повод недоброжелателям? Заметных много, а выдающихся – раз, два и обчелся.
– Я – раз?
– Он у нас первый, – сменила вопрос на утверждение Таня, внесла в спор свое веское мнение и удалилась в кухню с грязной посудой.
– Да, первый, – яростно подтвердила Настасья Петровна, а Алексей Иванович заорал Тане вслед:
– Татьяна, я компота не хочу, буду чай! И не сироткины писи, а покрепче завари. И пирога дай.
– Пирога тебе нельзя, – мгновенно отреагировала Настасья Петровна.
– Можно. Раз я первый, мне все можно.
– Тогда позволь мне вмешаться, – Настасья опять переключилась на литературную тему, поняв, что пирог у мужа она не отспорит. – Я позвоню Давиду и попрошу, чтобы этот кусок в передаче переозвучили. Он поймет.
– Он-то поймет, – сказал Алексей Иванович, поднимаясь, стряхивая с черного своего одеяния хлебные крошки и мелкие рисинки из плова, – а я нет. И звонить ты никуда не будешь. Я не хочу, чтоб надо мной смеялись.
– Кто над тобой будет смеяться?!
– Телеоператор.
– Какой телеоператор?
– Бородатый.
– Ты с ума сошел!
– Вовсе нет. Пусть все будет, как будет.
– Все будет, как будет, – сообщила Таня, вкатывая в столовую сервировочный столик на колесах, на котором стояли кофейник, молочник и крохотная чашечка – для Настасьи Петровны, заварной чайник и стакан в серебряном подстаканнике – для Алексея Ивановича, а также тарелка с ломтями пирога – для обоих.
– Таня, мне чай – наверх. Я устал и прошу меня не беспокоить: Ни по какому поводу. Настасья, поняла? Не бес-по-ко-ить! – поднял вверх указательный перст. – Мне надоели голубые глаза со слезами умиления.
– Что ты имеешь в виду? – растерянно спросила Настасья Петровна.
За долгие годы она отлично изучила характер мужа, все его нечастые взбрыки, все его срывы спокойного обычно настроения, и знала, что в таком случае лучше не настаивать на своем, лучше отступить – на время, на время, потом она свое все равно возьмет.
– Я старый, – сообщил Алексей Иванович новость, – и ты старая, хотя и хорохоришься. Мне надоела суета, я хочу покоя и тишины.
Он почти орал, сотрясал криком стены, но Таня все же сочла нужным ввернуть:
– Покоя сердце просит.
Алексей Иванович на Танину эрудицию реагировать не стал, счел разговор законченным, пошел прочь. И уже в коридоре-услыхал, как Таня выговаривает Настасье Петровне:
– Ты, Настасья, прям как танк, прешь и прешь напролом. Не видишь, мужика бородач расстроил. Который с аппаратом.
– Чем расстроил? – спросила Настасья Петровна, в голосе ее слышалось безмерное изумление. – Он же молчал все время…
– Глухая ты, Настасья, хоть и ушастая. Слух у тебя какой-то избирательный: чего не хочешь, того не слышишь… Пусти, я чай ему снесу.
Алексей Иванович усмехнулся: ай да Таня, ай да ватник с ботами!.. А слух у Настасьи и впрямь избирательный.
Чай был крепким, пирог вкусным, настроение паскудным. Алексей Иванович, не раздеваясь, не страшась помять брюки, лег на тахтичку поверх покрывала, утопил голову в подушку, зажмурился и пожелал, чтобы пришел черт. И хотя до вечера, до программы «Время» еще ждать и ждать, черт не поленился, явился в неурочный час, уселся на привычное место под лампу на письменном столе, несмотря на день за окном, щелкнул выключателем, объяснил:
– Погреться хочу. Холодно тут у вас.
– А у вас тепло? – спросил Алексей Иванович.
– У нас климат ровный, жаркий, сухой. Очень способствует против ревматизма, спондилеза, радикулита и блуждающего миозита.
Но привычная тема сегодня не интересовала Алексея Ивановича. В конце концов, и черт являлся к нему не за тем, чтобы обсуждать работу славных метеорологов, и хотя он мало походил на делового телеоператора, все же были у него какие-то служебные обязанности, получал он за что-то свою зарплату – чертовски большую или чертовски мизерную. Или он уже пенсионер, или он уже на заслуженном отдыхе и материализуется в кабинете Алексея Ивановича только ради пустого общения?
– Черт, а, черт, – сказал Алексей Иванович, – ты еще служишь или уже на пенсии?
– Служат собаки в цирке, – грубо ответил черт, – а я работаю. Пенсия нам не положена.
– Извини… В чем же заключается твоя работа?
– В разном, – напустил туману черт, поправил лапой абажур, чтобы свет падал точно на мохнатую спину, – я специалист широкого профиля.