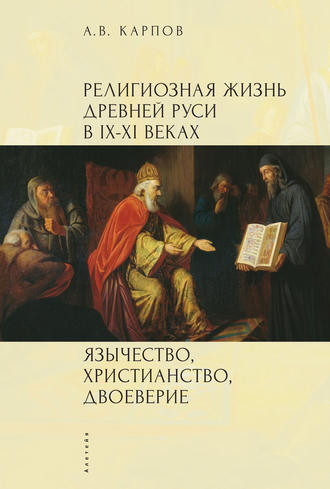
А. В. Карпов
Религиозная жизнь Древней Руси в IX–XI веках. Язычество, христианство, двоеверие
Изучение древнерусской религиозности и концепция двоеверия в отечественной гуманитарной науке
Специальные труды по истории изучения древнерусской религиозности как сферы взаимодействия христианства и язычества еще не написаны. В отечественной научной литературе имеются лишь небольшие обзоры печатных работ по теме «православно-языческого синкретизма»[42]. Данная глава посвящена рассмотрению наиболее значимых гипотез и позиций отечественных ученых, обращавшихся к анализу соответствующей проблематики.
В российской гуманитарной науке XVIII в. последовательный интерес к проблемам древнерусской религиозности еще не прослеживался. Однако уже в трудах В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова и М. М. Щербатова наметились определенные подходы к исследованию духовной жизни Древней Руси. Началось изучение славянского язычества через его сопоставление с античным политеизмом; было выдвинуто положение о крещении во времена Владимира Святого не только Киева, но других областей Русской земли, христианизация которых связывалась с деятельностью первых русских епископов и сыновей великого князя; отмечен постепенный характер утверждения христианства в древнерусском обществе[43].
Рубеж XVIII–XIX вв. характеризуется резким возрастанием интереса к славяно-русским древностям, к летописям и документальным материалам. Появились многочисленные сочинения, посвященные языческим верованиям древних славян[44]. Однако исследователи еще не разрабатывали вопроса о смене языческих представлений христианскими, ограничиваясь задачей воссоздания «славянского Олимпа»[45]. В 1800–1810-х годах выходят в свет первые систематические труды по истории Русской Церкви, принадлежащие перу митрополита московского Платона (Левшина), иеромонаха Амвросия (Орнатского), киевского митрополита Евгения (Болховитинова) и епископа Иннокентия (Смирнова)[46]. Данные авторы, сосредоточивая основное внимание на внутренней церковной истории, практически не касались проблем развития религиозного сознания.
Эпохальным событием стала публикация «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Следуя общему направлению науки того времени, он специально остановился на дохристианских верованиях славян и ограничился небольшими замечаниями относительно становления христианского мировоззрения. «Многие люди крестились, – писал он, – рассуждая без сомнения так же, как и граждане киевские; другие, привязанные к закону древнему, отвергали новый: ибо язычество господствовало в некоторых странах России до самого XII в.»[47].Карамзин обосновано полагал, что «одно просвещение долговременное смягчает сердца людей: купель христианская, освятив душу Владимира, не могла вдруг очистить народных нравов». А «успехи христианского благочестия в России не могли искоренить языческих суеверий и мнимого чародейства»[48]. Карамзинская «История», наполненная уникальным для того времени обилием фактического материала, стала основой дальнейшего концептуального осмысления исторического прошлого. В 1829 г. Н. А. Полевой опубликовал «Историю русского народа», проникнутую идеями французской романтической историографии. Стремясь показать, что в области мировоззрения русское средневековье было подобно «темным векам» на Западе, Н. А. Полевой писал: «приняв веру христианскую по повелению, видя в сановниках духовных особого рода властителей, не понимая таинств религии, ужасаемые в будущем страшными карами за малейшее помышление, руссы не могли найти в религии крепкой утешительницы и спасительницы своей; нравственные предписания веры терялись для народа в обрядах, соблюдении форм, внешнем уважении к Церкви и священникам»[49].
Проблема русской религиозности в контексте сопоставления России и Западной Европы появилась и в сочинениях П. Я. Чаадаева, по мнению которого, христианство, принятое от Византии, принесло на Русь мистику и аскетизм, в то время как в Европе оно стало двигателем социального прогресса. Для Чаадаева, несовершенство русского мировоззрения состояло не в слабом усвоении вероучительных основ христианства, а в принятии его «византийской» формы[50].
В официальной историографии 30–40-х гг. XIX в. ведущие позиции занял М. П. Погодин. Весьма характерной явилась его точка зрения на христианизацию Руси: «крестился Володимер, и сыны его, и вся почти земля Русская, мирно, беспрекословно, в духе кротости и послушания, не приняв в душу семен воздействия». «Священное писание, – отмечал Погодин, – понятное всему народу, разнесло повсеместно новые правила, взгляды, мысли. Принятием христианской веры Володимером произошел переворот в избранных душах». Погодин не отрицал того, что «в дальних областях и глухих местах… долго держалось язычество», однако он совершенно не касался вопроса о его взаимоотношениях с христианством в сфере мировоззрения[51].
В те же годы, происходило становление двух ведущих направлений либеральной общественной мысли – западничества и славянофильства. Славянофилы признавали православие важнейшим фактором развития отечественной культуры. Но проблема формирования русского христианского менталитета не получила у них целостного решения.
А. С. Хомяков в своем знаменитом сочинении «О старом и новом» писал: «без влияния, без живительной силы христианства не восстала бы земля русская; но мы не имеем права сказать, что одно христианство воздвигло ее. Конечно, все истины, всякое начало добра, жизни и любви находилось в Церкви, но в Церкви возможной, в Церкви просвещенной и торжествующей над земными началами. Она не была таковой ни в какое время и ни в какой земле»[52]. По Хомякову, христианство, постепенно преобразуя личную жизнь русских людей, не изменило общественного сознания и социальной системы. Кроме того, писал Хомяков в другой работе, Русь «в большей части своего населения приняла более обряд церковный, чем духовную веру и разумное исповедание Церкви»[53].
Другой точки зрения придерживался И. В. Киреевский, полагая, что преобразование общественной жизни не входило в «задачи» православия. Особенность «русского быта заключалась в его живом исхождении из чистого христианства», которое было глубоко усвоено в народной среде[54]. Говоря о различии просвещения в России и на Западе, Киреевский писал: «у нас образовательное начало заключалось в нашей Церкви». Россия была вся покрыта «сетью церквей, монастырей, жилищ уединенных отшельников, откуда постоянно распространялись повсюду одинаковые понятия об отношениях общественных и частных… все святые отцы греческие, не исключая самых глубоких писателей, были… изучаемы в тиши наших монастырей, этих святых зародышей несбывшихся университетов. И эти монастыри были в живом непрестанном соприкосновении с народом»[55].
Наблюдения Киреевского получили продолжение в историософии К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина, который писал: «говоря о русской народности, мы понимаем ее в неразрывной связи с православной верою, из которой вытекает вся система нравственных убеждений, правящих семейною и общественною жизнию русского человека»[56]. Указывая основное направление развития русской религиозности, славянофилы не касались вопроса о преодолении языческих верований в эпоху христианизации. Но, несмотря на это, славянофильское движение, во многом смыкавшееся с официальной идеологией в поисках «самобытных начал», способствовало усилению интереса к славянскому язычеству и архаическим элементам народной культуры.
В конце 1830-х годов выходят в свет работы И. М. Снегирева и О. И. Бодянского, посвященные славяно-русской фольклорно-этнографической тематике[57]. П. В. Киреевский, брат И. В. Киреевского, приступает к собиранию и изучению русских народных песен. Вопросами фольклористики начинает заниматься В. И. Даль[58]. В 40-е годы организуется Русское географическое общество и его Этнографическое отделение. Появляется фундаментальное исследование А. Терещенко «Быт русского народа»[59]. Выходят труды М. Касторского, И. И. Срезневского, Н. Костомарова и Д. Н. Шеппинга о мифологии и «языческом богослужении» древних славян. И. Боричевский и И. П. Сахаров издают русские народные предания[60]. Фольклорно-этнографические изыскания заставляли задумываться о том, почему в русской традиционной культуре вплоть до XIX столетия сохранились элементы языческих верований, несмотря на почти тысячелетнюю историю христианства в России.
Интересная гипотеза, объясняющая данное положение дел была предложена С. М. Соловьевым. Языческая религия восточных славян представлялась ему состоящей «во-первых, в поклонении стихийным божествам, во-вторых, в поклонении душам умерших, которое условливалось родовым бытом и из которого преимущественно развилась вся славянская демонология»[61]. «Вследствие такого родового быта, – полагал Соловьев, – у восточных славян не могло развиться общественное богослужение, не могло образоваться жреческое сословие: отсюда частию объясняется то явление, что язычество у нас, не имея ничего противопоставить христианству, так легко уступило ему общественное место; но, будучи религиею рода, семьи, дома надолго осталось здесь. Если бы у нас язычество из домашней религии успело перейти в общественную и приобрести все учреждения последней, – указывал он далее, – то, без сомнения оно гораздо долее вело бы явную борьбу с христианством, но зато, раз побежденное, оно не могло бы оставить глубоких следов; если бы христианство имело дело со жрецами, храмами и кумирами, то, низложив их, оно покончило бы борьбу; язычник, привыкший к общественному богослужению и лишенный храма и жреца, не мог бы долго оставаться язычником»[62].
Хотя представления С. М. Соловьева о «родовом» характере славянского язычества и об отсутствии у славян жрецов и храмов оказались ошибочными, его предположение о «домашних» культах как главной причине, замедлявшей становление христианского мировоззрения, до сих пор сохраняет (с некоторой корректировкой) свое научное значение.
Изучение древнерусской религиозности было продолжено в 1850-е годы в церковной историографии, прежде всего в трудах митрополита Макария (Булгакова). В первом томе «Истории Русской Церкви» он писал: «Нет сомнения, что еще во дни равноапостольного князя Владимира святая вера Христова соделалась господствующеею на всем пространстве тогдашней России <…> но везде почти оставалось еще и язычество, только в одних местах более, а в других менее»[63]. <…> «Церковь Христова… на местах прежних языческих капищ воздвигла свои храмы, но истины спасительной веры не успели еще в такой период быть вполне усвоены всеми новообращенными христианами и вытеснить в них прежние верования. И очень естественно, если, быть может, многие, нося имя христиан, продолжали жить по язычески, тайно молились своим прежним богам под овином, или в роще, или у воды»[64]. Макарий полагал, что это было «явление совершенно естественное и неизбежное: невозможно, чтобы в каком-либо народе вдруг могли искоренится религиозные верования, которые существовали, может быть, целые века и тысячелетия»[65].
К проблеме взаимодействия христианства и язычества в религиозном сознании русского народа обратился в начале 1860-х годов А. П. Щапов. Он установил, что в народных представлениях о сотворении мира и человека христианские догматы сплетаются с космогоническими мифами, имеющими древние индоевропейские корни[66]. Причину этого явления Щапов видел в том, что народ не мог «тотчас после крещения познать все христианское учение», поэтому оно при «сближении своем с мифологическим миросозерцанием… не могло иначе выразится в первых произведениях народной мыслительности, как с примесью… мифологических элементов». Кроме того, «старые предания и понятия… сильно поддерживали в народе волхвы и кудесники – эти ведуны и хранители тайн мифологического знания»[67].
Вопрос о религиозности русского народа обсуждался и в литературно-философской публицистике. В частности, свои размышления по данной теме изложил Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1880 г. По его мнению, русский народ знает о христианстве «все то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катихизиса». Достоевский отмечал, что народ постигал христианскую веру под сводами храмов, «где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей; <…> главная же школа христианства, которую прошел он, это – века бесчисленных и бесконечных страданий… когда он, оставленный всеми… работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом-утешителем, которого и принял тогда в свою душу навеки»[68].
С Достоевским согласился и Н. Барсов, при этом он специально остановился на проблеме двоеверия. Древнее двоеверие, т. е. «сознательное признание народом некоторых пунктов теоретического мировоззрения древнего язычества и исполнение его обрядов», – писал Барсов, – имело характер не общерусский, а местный, «существовало где-нибудь в ростовской или новгородской области, но отнюдь не в сфере культурного влияния Киева <…> что касается позднейшего двоеверия – то оно в сознании народа давно утратило свой языческий смысл, и если где и проявляется, то просто как черта бытовая, а не вероисповедная. <…> если понимать двоеверие, как факт противоречия дела и жизни… воспринятому теоретически учению христианскому, то это противоречие будет всегда существовать в мире, потому что оно есть проявление испорченности природы человеческой»[69].
В начале 80-х годов появились первые тома знаменитой «Истории Русской Церкви» Е. Е. Голубинского, знаменовавшей собой новый этап развития церковно-исторической науки. По его мнению, утверждение христианства как нового религиозного мировоззрения началось на Руси с «настоящего двоеверия, не только с перенесения в христианство части прежних языческих верований, но и с соединения язычества с христианством как целой веры, или простого присоединения вновь принятого христианства к язычеству»[70]. Голубинский полагал, что «в первое время после принятия христианства наши предки в своей низшей массе или в своем большинстве, с одной стороны, молились и праздновали Богу христианскому с сонмом его святых или – по их представлениям – богам христианским, а с другой стороны, молились и праздновали своим прежним богам языческим. Тот и другой культ стояли рядом и практиковались одновременно»[71]. «После времени двоеверия явного, открытого и сознательного, – писал Голубинский, – настали времена двоеверия скрытого, маскированного и бессознательного. Наибольшая часть верований, празднеств и обычаев языческих остались в народе и после исчезновения богов языческих; но они перестали быть сознаваемы как таковые, а стали просто наследием отцов <…> В этом втором периоде скрытого и бессознательного двоеверия народ находится отчасти и до настоящего времени». Причем, часть «языческой догматики», по мнению Голубинского, «перенесена была из язычества в христианство сполна, во всем своем объеме»[72]. Таким образом, он предложил принципиально новый подход к изучаемой проблеме. Начальный этап христианизации Руси состоял для него в формировании своеобразной модификации политеистического мировоззрения, в котором почитание христианского Бога и святых присоединялось к культу старых языческих божеств.
В последней четверти XIX столетия одним из научных направлений русской фольклористики стало специальное изучение народного (бытового) православия и его древнерусских корней. Обращаясь к данной тематике, исследователи занимались, в первую очередь, литературной историей апокрифов и легенд. Крупные работы в этой области были опубликованы А. Н. Веселовским, А. И. Кирпичниковым, И. Я. Порфирьевым и М. Н. Сперанским[73]. Наряду с этим рассматривались и такие темы как соотношение христианских и дохристианских элементов в русском народном календаре; продолжалось изучение религиозной семантики традиционных русских праздников и обрядов[74].
Этот же период был ознаменован бурным развитием отечественной археологии. Исследователи славяно-русских древностей Д. Н. Анучин, Н. Е. Бранденбург и А. А. Спицын начали разработку вопроса об отражении религиозного мировоззрения жителей Древней Руси в археологических материалах[75].
Проблематика русской религиозности и вопрос о «народности» русского православия заняли определенное место в дискуссиях знаменитых Петербургских религиозно-философских собраний, проходивших в 1901–1903 гг. Уже в первом выступлении В. А. Тернавцева прозвучали слова о том, что «Русская Церковь народна; она не покидала народа среди всех его унижений… она дала его гражданскому терпению религиозный смысл особого жертвенного делания»[76]. В ходе прений по докладу Д. С. Мережковский указал на противоположные взгляды, характерные для «интеллигенции», и, в качестве примера, зачитал отрывки из письма Белинского к Гоголю, в котором русский народ назывался едва ли не самым атеистичным[77]. Обсуждая роль государства в «охранении» народной веры, Д. С. Мережковский заметил: «если смотреть на всю жизнь народа в истории и теперь, то в смысле религиозности…“темнота” может оказаться истинным просвещением»[78]. В ответ на высказывания Мережковского, архимандрит Сергий заметил: «живя в деревне, мы увидим, что русский народ действительно темный… в 10 верстах от Новгорода крестьяне говорят, что у женщин нет души, а пар»[79]. В свою очередь Мережковский заявил: «это ничего не значит. Важно не то, что говорят, а то, чем живут. Свет Христов определяется не словами, а тем, как мы живем. Достоевский говорит: “можно многое знать бессознательно”. <…> То, что вы рассказываете, – только отдельные случаи, анекдоты. Мы же говорим о мировом движении русского народа»[80]. В целом, большинство выступавших в Собраниях, признавая народ наиболее церковной социальной средой, отталкивались от этого тезиса для обоснования своих религиозно-философских размышлений и не замечали противоречий в народной культуре.
В 1904 г. была опубликована первая часть «Курса русской истории» В. О. Ключевского, в которой он высказал некоторые мысли относительно характера религиозной жизни Руси. Ключевский отметил, что на начальном этапе принятия христианства языческая мифология перерабатывалась в христианскую демонологию, таким образом «покидаемые боги не упразднялись, как вымысел суеверия, а продолжали считаться религиозной реальностью». Это явление и можно было назвать «двоеверием». Причем в Северной Руси «к христианству прививалось вместе с язычеством русским еще чудское»[81]. В среде финно-угорского населения, – писал Ключевский, – народные христианские верования, распространяемые славянами, не вытесняли языческих, а надстраивались над ними, «образуя верхний слой религиозных представлений, ложившийся на языческую основу». По его мнению, этому способствовал и мирный характер межэтнического взаимодействия славян и финнов[82].
Активизация исследований в области языческих древностей и ранних стадий русской религиозности проявилась в 1910-е гг. Возможно, отчасти это было связано и с общими тенденциями религиозно-философских поисков «серебряного века». Идея синтеза христианства и язычества как основы формирования новой культуры, «нового религиозного сознания» отчетливо утверждалась в многочисленных сочинениях того времени. Чрезвычайно показательно, что тематика двоеверия становилась все более значимой для церковной науки. В официальном журнале Московской Духовной Академии – «Богословском вестнике» публикуется работа С. Смирнова «Исповедь земле», в которой автор выделяет «несколько стадий развития» древнерусского двоеверия. «Начальная стадия – грубое двоеверие, когда население смешанное и язычество существует еще как организация <…> Конечная стадия – двоеверие утонченное. Язычество как организация давно разрушено, и отпадения от Церкви стали невозможны. Преобладающее значение в обиходе жизни и мысли получило уже христианство <…> Но между этими пунктами есть средняя стадия двоеверия, особенно интересная для изучения, когда оба элемента – и христианский и языческий – находятся как бы в равновесии, когда христианство, возбуждая религиозную мысль народа, само нередко служит материалом для мифологического творчества. Тогда возникают самые сложные и причудливые комбинации»[83].
С профессиональным исследованием эпохи двоеверия выступил Е. В. Аничков, опубликовавший в 1914 г. монографию «Язычество и древняя Русь». В этой работе, впервые после С. М. Соловьева, древнерусские христианско-языческие взаимоотношения получили последовательное концептуальное осмысление. По мнению Е. В. Аничкова, реформа языческой религии, предпринятая князем Владимиром в начале его княжения, носила чисто политический характер. Аничков полагал, что в пантеон Владимира входили боги «военно-торговые и племенные; они ничего не имеют общего ни с народно-хозяйственной религией, ни с силами природы». Поэтому принятие христианства, выражавшееся в отвержении этих богов, не вело к ликвидации сельскохозяйственной магии и низшей демонологии, которые остаются на протяжении многих веков предметом критики со стороны церковной иерархии[84]. Надо заметить, что Аничков придавал определенное значение в формировании двоеверия и экономическим факторам, считая, что, вследствие отсутствия у духовенства во времена Киевской Руси собственной земли и хозяйства, его материальное обеспечение зависело от подношений паствы. Поэтому священникам приходилось придавать отправлению треб характер языческих приношений. Совершая крещение, венчание, отпевание, служитель Церкви получал от крестьянина натуральное вознаграждение, которое в языческие времена являлось жертвой божествам. Этим Аничков и объяснял синкретический характер пиров и «трапез», осуждаемых в церковной книжности[85].
Почти одновременно с выходом в свет книги Е. В. Аничкова, свои наблюдения о становлении христианства на Руси высказал на лекциях в Санкт-Петербургской духовной академии Б. В. Титлинов. По его мнению, «высшие божества языческие не имели такого прочного корня в народном сознании, как те бесчисленные божки, которыми славянин-язычник населял весь окружающий мир. <…> Публичное же доказательство язычества стало, без сомнения, с самого начала строго преследоваться гражданскою и церковною властью. Поэтому память о главных богах – Перуне, Хорсе, Дажьбоге и т. п. стала исчезать более или менее скоро… гораздо прочнее жили в народном сознании верования в божеств низших и искоренить их путем административного воздействия было невозможно»[86].
В 1913–1916 гг. вышла в свет двухтомная монография Н. М. Гальковского «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси». Этот труд стал в дореволюционной науке наиболее полным сводом фактического материала по выбранной автором теме[87]. Причину длительного сохранения языческих представлений он видел, подобно митрополиту Макарию (Булгакову), в религиозной психике. По мнению Гальковского, основу двоеверия составили верования, которые не были строго сформулированы и связывались не столько с разумом, сколько с чувствами и переживаниями. Поэтому «остатки язычества» еще несколько веков после крещения Руси напоминали о своем существовании. «Удержалось многое, что связано с земледельческим или семейным бытом, удержались обряды, поверья, песни, игры» – писал Н. М. Гальковский[88]. «Допуская возможность и логическую необходимость борьбы язычества и христианства – отмечал он далее – надо признать, что ни летописи, ни народная литература не сохранили об этом определенных указаний… следует думать, что активные выступления были ничтожны; главная причина этого в том, что русское язычество не имело строго выработанного религиозного ритуала и жрецов»[89]. Подводя итоги своему исследованию, Гальковский сделал следующие выводы: «Именуясь христианами, русские люди в значительной мере оставались при своих старых взглядах и верованиях. <…> Знакомство с древней русской литературой и обличительной литературой в частности приводит нас к убеждению, что… древнерусские люди верили и жили по язычески не вследствие упорного нежелания жить по христиански, а вследствие плохого знания христианского вероучения. <…> Язычество… продолжало существовать прежде всего потому, что его нечем было заменить: духовенству нужно было время и способы научить население новой вере. <…> Сила язычества заключалась в невежестве народной массы»[90].
В советской гуманитарной науке 1920–1930-х годов народное мировоззрение окончательно «перешло в ведение» этнографии и фольклористики[91], а изучение религиозной жизни Древней Руси свелось к выяснению места Церкви в социально-политической истории[92]. Принципиально новых гипотез относительно перехода от язычества к христианству не выдвигалось[93]. В тот же период к исследованию древнерусской религиозности обращались и отечественные ученые, жившие за пределами СССР. В. В. Зеньковский, рассматривая истоки русской философии, отметил, что «из Византии и из славянских земель к нам проникало много и внехристианского или апокрифического материала», с которым связаны и духовные стихи. «И в апокрифах, и в духовных стихах, – писал Зеньковский, – ставятся обычно религиозно-философские вопросы, в разрешении которых христианские мотивы причудливо сплетаются с внехристианскими. Все это еще недостаточно исследовано с философской стороны»[94].
К истокам отечественной религиозно-философской традиции обращался и Г. В. Флоровский. В своем известном труде «Пути русского богословия» он писал: «История русской культуры начинается с крещения Руси». Но «это совсем не значит, будто не было языческого прошлого… побледневшие, а иногда и очень яркие следы его и воспоминания надолго сохраняются и в памяти народной, и в быту, и в самом народном складе. <…> В смутных глубинах народного подсознания, в каком-то историческом подполье, продолжалась своя уже потаенная жизнь, теперь двусмысленная и двоеверная. И, в сущности, слагалось две культуры: дневная и ночная»[95]. «Дневная» византино-христианская культура «долгое время была достоянием и стяжанием книжного или культурного меньшинства». Это было неизбежной и естественной стадией процесса. Одновременно развивается «вторая культура», формируется новый и своеобразный синкретизм, в котором местные языческие переживания сплавляются с бродячими мотивами древней мифологии и христианского воображения[96].
В 1956 г. в Париже А. В. Карташев опубликовал «Очерки по истории Русской Церкви», в первом томе которых посвятил специальный раздел «христианизации русского народа». Он в целом поддержал наблюдения Е. Е. Голубинского о возникновении «чистого и сознательного двоеверия» на первом этапе утверждения новой религии. «Требища идольские были разорены и служение старым богам запрещено, – писал Карташев, – … но простые народные массы… привыкая к христианскому Богу, вместе с тем благоговейно чтили» и прежних богов. С течением времени под влиянием проповеди о том, что языческие боги это злые демоны и настойчивых преследований духовенства, суду которого принадлежали преступления в религиозной сфере, вера в старых богов исчезла. Но после этого в народном веросознании осталась еще нетронутой обширная область язычества – система календарных праздников со множеством «поэтически-символических обрядов». Двоеверие сознательное сменилось бессознательным, причем в семьях «суеверные обряды старого языческого богослужения сохранялись во всей целостности»[97].
В советской историко-этнографической науке конец 1950-х годов ознаменовался выходом крупных исследований В. И. Чичерова и С. А. Токарева, посвященных традиционным верованиям восточных славян[98]. Однако проблема двоеверия, затронутая авторами данных монографий, по-прежнему рассматривалась с позиций механического соединения христианских и языческих элементов. Сохраняла свою силу и тенденция «социологизации» религиозной жизни в контексте изучения межклассовых противоречий. Предпринимались попытки выявления «антицерковной идеологии» на Руси XI в. Д. А. Казачкова, посвятившая данной теме специальную статью, писала: «По мере того как христианская Церковь занимала ведущее место в системе общественных отношений феодального общества, порядки этого общества сливались в сознании народных масс с проповедью новой веры, и оппозиция к ней принимала ярко выраженный социальный характер»[99].
В 1960-х годах в СССР началось активное изучение славянского и древнерусского язычества. С одной стороны, оно проводилось в рамках археологии, с другой – в рамках лингвистики и этнолингвистики. Исследования позволили сделать определенные выводы о становлении русской христианской религиозности. По мнению Вяч. Вс. Иванова, ситуацию двоеверия в Древней Руси можно интерпретировать в терминах языкознания – как своеобразный культурный билингвизм[100]. Данная гипотеза получила развитие в работе Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, которые предположили, что отношения христианства и язычества после крещения Руси строились подобно отношениям между церковно-славянским и русским языком в тот же период, когда между ними происходит распределение функций и формируется диглоссия, подобная двоеверию в области религии[101]. Согласно Б. А. Успенскому, «устраняя все, что было импортировано в процессе христианизации Руси, мы можем получить собственно языческий культурный слой»[102].
Своеобразную концепцию «языческого мировоззрения русского средневековья» выдвинул в 1970-х годах Б. А. Рыбаков. Христианство и язычество, отметил Рыбаков, «сталкивались не потому, что представляли собой диаметрально противоположные религиозные системы, а лишь в силу односторонней классовой направленности христианства, распространявшегося на Руси из верхушечных княжеско-боярских кругов. Исходя из теории общественного примирения, христианство стремилось слиться с народным язычеством, создать ту амальгаму “двоеверия”, которая позволила бы не осложнять социальные противоречия еще дополнительными религиозными конфликтами»[103]. Несколько позднее он выступил с развернутой теорией исторического развития и религиозной сущности древнерусского язычества. Один из разделов его монографии был специально посвящен проблемам взаимодействия христианства и архаических верований. «В результате целого ряда сложных явлений, – писал Рыбаков, – на Руси к началу XIII в. создалось и в деревне, и в городе своеобразное двоеверие, при котором деревня просто продолжала свою прадедовскую религиозную жизнь, числясь крещеной, а город и княжеско-боярские круги, приняв многое из церковной сферы и широко пользуясь социальной стороной христианства, не только не забывали своего язычества с его богатой мифологией, укоренившимися обрядами и жизнерадостными карнавалами-игрищами…, но и поднимали свою старинную, гонимую Церковью религию на более высокий уровень, соответствующий расцвету русских земель в XII в.»[104].



