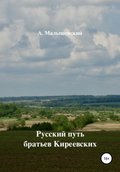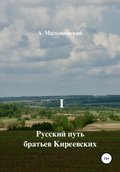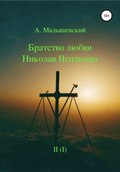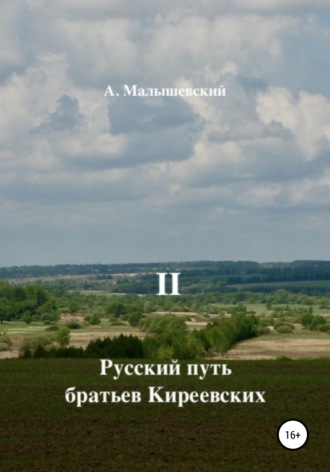
А. Малышевский
Русский путь братьев Киреевских. В 2-х кн. Кн. II
Каймары. 8 октября 1831 года
Спасибо тебе за стихи Пушкина и Жуковского50. Я хотел было их выписать, но ты меня предупредил. Стихи Жуковского читал я без подписи в «Северной пчеле» и никак не мог угадать автора. Необыкновенные рифмы и приметная твердость слога меня поразили, но фамильярный тон удалил всякую мысль о Жуковском. Первое стихотворение Пушкина мне более нравится, нежели второе. <…> Я уже отвечал тебе о журнале. Принимайся с Богом за дело. Что касается до названия, мне кажется, всего лучше выбрать такое, которое бы ровно ничего не значило и не показывало бы никаких притязаний. «Европеец», вовсе не понятый публикой, будет понят журналистами в обидном смысле; а зачем вооружать их прежде времени? Нельзя ли назвать журнал «Северным вестником», «Орионом» или своенравно, но вместе незначительно, вроде «Nain jaune»51, издаваемого при Людовике XVIII наполеонистами? Ты слишком много на меня надеешься, и я сомневаюсь, исполню ли я половину твоих надежд. Могу тебя уверить в одном: в усердии. Твой журнал очень возбуждает меня к деятельности. Я написал еще несколько мелких стихотворных пьес, кроме тех, которые тебе послал. Теперь пишу небольшую драму52, первый мой опыт в этом роде, которая как ни будет плоха, но все годится для журнала. Вероятно, я ее кончу на этой неделе и пришлю тебе. Не говори о ней никому, но прочти и скажи мне свое мнение. В журнале я помещу ее без имени. Не говорю тебе о дальнейших моих замыслах из суеверия. Никогда того не пишешь, чем заранее похвастаешь. Мне очень любопытно знать, что ты скажешь о романах Загоскина53. Все его сочинения вместе показывают дарование и глупость. Загоскин – отменно любопытное психологическое явление. Пришли мне статью твою, как напишешь. Настоящим образом я помогать тебе буду, когда ворочусь в Москву. Я должен писать к спеху, чтобы писать много. Мне нужно предаваться журнализму, как разговору, со всею живостью вопросов и ответов, а не то я слишком сам к себе требователен, и эта требовательность часто охлаждает меня и к хорошим моим мыслям. Между тем все, что удастся мне написать в моем уединении, будет принадлежать твоему журналу…
Каймары. 26 октября 1831 года
<…> Благодарю тебя за деньги и за Villemain54. У меня на душе стало легче, когда увидел я этот замаранный том, который меня порядочно помучил. Я прочел уже две части: много хорошего и хорошо сказанного; но Villemain часто выдает за новость и за собственное соображение – давно известное у немцев и ими отысканное. Многое лишь для успеха минуты и рукоплесканий партии. Еще одно замечание: у Villemain часто заметна аффектация аттицизма, аффектация наилучшего тона. Его скромные оговорки, во-первых, однообразны, во-вторых, несколько изысканны. Чувствуешь, что он любуется своим светско-эстетическим смирением. Это не мешает творению его быть очень занимательным. О Гизо55 скажу тебе, что у меня теперь нет денег. Ежели ты можешь ссудить меня нужною суммою до января, то возьми его; ежели нет, то скажи Urbain56, что Гизо мне не нужен, или попроси подождать денег…
Каймары. Ноябрь 1831 года
Благодарю тебя за твое дружеское поздравление и милые шутки. Впрочем, я тебя ловлю на слове: в год рождения моей Машеньки57 должен непременно издаваться «Европеец», а там, ежели в 12 лет она будет в состоянии слушать твои лекции, прошу в самом деле позаботиться о ее просвещении. Не беда, что моя пьеса пошла по рукам. Я послал Пушкину и другую: «Не славь, обманутый Орфей», но уверяю, что больше нет ничего за душою. Я не отказываюсь писать, но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение. Я не имею нужды в похвалах (разумеется, черни), но не вижу, почему обязан подвергаться ее ругательствам. Я прочел критику Надеждина. Не знаю, буду ли отвечать на нее и что отвечать? Он во всем со мной согласен, только укоряет меня в том, что я будто полагаю, что изящество не нужно изящной литературе; между тем как я очень ясно сказал, что не говорю о прекрасном, потому что буду понят немногими. Критика эта меня порадовала: она мне показала, что я вполне достигнул своей цели: опроверг убедительно для всех общий предрассудок, и что всякий несколько мыслящий читатель, видя, что нельзя искать нравственности литературных произведений ни в выборе предмета, ни в поучениях, ни в том, ни в этом, заключит вместе со мною, что должно искать ее только в истине или прекрасном, которое не что иное, как высочайшая истина. Хорош бы я был, ежели б я говорил языком Надеждина. Из тысячи его подписчиков вряд ли найдется один, который что-нибудь бы понял из этой страницы, в которой он хочет объяснить прекрасное. А что всего забавнее, это то, что перевод ее находится именно в предисловии, которое он критикует. Ежели буду отвечать, то потому только, что мне совестно перед тобою, заставив тебя понапрасну отыскивать и посылать журнал…
Каймары. 29 ноября 1831 года
Вот тебе и число. Я пропустил одну почту оттого, что в моем глубоком уединении
Позабыл все дни недели
Называть по именам.
Я думал, что был понедельник, когда была среда. В это время, однако ж, трудился для твоего журнала. Отвечал Надеждину. Статья моя58, я думаю, вдвое больше моего предисловия59. Сам удивляюсь, что мог написать столько прозы. Драма моя почти переписана набело. Теперь сижу за повестью, которую ты помнишь: «Перстень». Все это ты получишь по будущей тяжелой почте. Все это посредственно, но для журнала годится. Благодарю тебя за обещание прислать повести малороссийского автора60. Как скоро прочту, так и напишу о них. О Загоскине писать что-то страшно. Я вовсе не из числа его ревностных поклонников. «Милославский» его – дрянь, а «Рославлев», быть может, еще хуже. В «Рославлеве» роман ничтожен, исторический взгляд вместе глуп и неверен. Но как сказать эти крутые истины автору, который все-таки написал лучшие романы, какие у нас есть? Мне очень жаль, что Жуковскому не нравится название моей поэмы. В ответе моем Надеждину я стараюсь оправдать его. Не могу понять, почему люди умные и просвещенные так оскорбляются словом, которого полный смысл допущен во всех разговорах. Скажи мне, что он думает о самой поэме, что хвалит и что осуждает. Не бойся меня опечалить. Мнение Жуковского для меня особенно важно, и его критики будут мне полезнее. У меня план новой поэмы61, со всех сторон обдуманный. Хороша ли будет, Бог знает. На днях примусь писать. Не отдаю тебе отчета в моем плане, потому что это охлаждает. Кстати, послание к Языкову и элегия62, которую ты называешь европейской, принадлежит «Европейцу». По будущей почте пришлю тебе еще две-три пьесы…
Каймары. Декабрь 1831 года
Вот тебе для «Европейца». Извини, что все это так дурно переписано: ты знаешь страсть мою к переправкам. Я не мог от них удержаться и при том, что тебе посылаю. Особенно мне совестно за мою драму, которая их не стоит. И я ни за что бы тебе ее не послал, ежели б не думал, что в журнале и посредственное годится для занятия нескольких листов. Пересмотри мою «Антикритику», и что тебе в ней покажется лишним, выбрось. Боюсь очень, что я в ней не держусь немецкого правоверия и что в нее прокрались кой-какие ереси. Драму напечатай без имени и не читай ее никому как мое сочинение. Под сказкой63 поставь имя сочинителя. Я читал твое объявление: оно написано как нельзя лучше, и я тотчас узнал, что оно твое. Ты истолковал название журнала и умно, и скромно. Но у нас не понимают скромности, и я боюсь, что в твоем объявлении не довольно шарлатанства для приобретения подписчиков, Впрочем, воля Божия. Я подпишусь в будущий год на некоторые из русских журналов и буду за тебя отбраниваться, когда нужно. У меня, кроме плана поэмы, в запасе довольно желчи; я буду рад как-нибудь ее излить…
Казань. Декабрь 1831 года
Ежели уже получено позволение издавать журнал под фирмою «Европейца», пусть он остается «Европейцем». Не в имени дело. Ты меня приводишь в стыд слишком хорошим мнением о моей драме. Спешу тебе сказать, что это только драматический опыт; несколько сцен с самою легкою завязкою. Я от нее не в отчаянии только потому, что надеюсь со временем написать что-нибудь подельнее. Ежели б я вполне следовал своему чувству, я бы поступил с нею, как ты поступаешь с некоторыми из своих творений, т. е. бросил бы в печь… Кстати: я не нахожу тебя в этом отменно благоразумным. Во-первых, не мне быть судьею в собственном деле; во-вторых, каждый, принимающийся за перо, поражен какою-либо красотою, следственно, и в его творении, как бы оно ни поддавалось критике, наверно есть что-нибудь хорошее. Что ж касается до совершенства, оно, кажется, не дано человеку, и мысль о нем может скорее охладить, нежели воспламенить писателя…
<…> Ты мне пишешь о портретах известных людей. Но подумай, что у нас их весьма немного, что эти портреты должны быть панегириками, и тогда ни для кого не будут занимательными. Ты скажешь, что не надо называть поименно всех, но по двум или трем приметам легко узнать знакомого человека, особенно автора, а тень невосхищения будет уже обидою и личностию. Оставим наших соотечественников, но не мешает тебе положить на бумагу все, что ты знаешь о Шеллинге и других отличных людях Германии. Загадывать их не нужно, ибо надо их знать, чтобы ценить их; а многие ли с ними знакомы, не только лично, но и по сочинениям? Вот тебе мое мнение: суди сам, справедливо ли оно, или нет.
Казань. Конец декабря 1831 года
<…> Первый номер твоего журнала великолепен. Нельзя сомневаться в успехе. Мне кажется, надо задрать журналистов, для того чтобы своими ответами они разгласили о существовании оппозиционного журнала. Твое объявление было слишком скромно. Скажи, много ли у тебя подписчиков. Напечатай в московских газетах, какие и какие статьи помещены в 1-м номере «Европейца». Это будет тебе очень полезно…
Казань. Начало января 1832 года
<…> Я мало еще познакомился со здешним городом. С первого дня моего приезда я сильно простудился и не мог выезжать. Знаешь ли, однако ж, что, по-моему, провинциальный город оживленнее столицы. Говоря – оживленнее, я не говорю – приятнее, но здесь есть то, чего нет в Москве, – действие. Разговоры некоторых из наших гостей были для меня очень занимательны. Всякий говорит о своих делах или о делах губернии, бранит или хвалит. Всякий, сколько можно заметить, деятельно стремится к положительной цели и оттого имеет физиономию. Не могу тебе развить всей моей мысли, скажу только, что в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему, которое составляет характер большей части наших московских знакомцев. В губерниях больше гражданственности, больше увлечения, больше элементов политических и поэтических. Всмотрясь внимательнее в общество, я, может быть, напишу что-нибудь о нем для твоего журнала, но я уже довольно видел, чтобы местом действия русского романа всегда предпочесть губернский город столичному. Хвалю здесь твоего «Европейца», не знаю только, заставят ли мои похвалы кого-нибудь на него подписаться. Здесь выписывают книги и журналы только два или три дома и ссужают ими потом своих знакомых…
Казань. 18 января 1832 года
Давно не получал я от тебя писем, милый Киреевский, и не жалуюсь, ибо знаю, что хлопот у тебя много. У меня к тебе просьба: если не напечатано первое мое послание к Языкову64, не печатай его: оно мне кажется довольно слабо. Напечатай лучше второе65, которым я более доволен. Я здесь веду самую глупую жизнь, рассеянную без удовольствия, и жду не дождусь возвращения нашего в деревню. Мы переезжаем на первой неделе Великого поста. Там я надеюсь употребить время с пользою для себя и для «Европейца», а здесь – нет никакой возможности…
Казань. Февраль 1832 года
Понимаю, брат Киреевский, что хлопотливая жизнь журналиста и особенно разногласные толки и пересуды волнуют тебя неприятным образом. Я предчувствовал твое положение, и жаль мне, что я не с тобою, потому что у нас есть сходство в образе воззрения, и мы друг друга же в нем утверждали. Мнение Жуковского, Пушкина и Вяземского мне кажется несправедливым. Приноровляясь к публике, мы ее не подвинем. Писатели учат публику, и ежели она находит что-нибудь в них непонятное, это вселяет в нее еще более уважения к сведениям, которых она не имеет, заставляет ее отыскивать их, стыдяся своего невежества. Надеюсь, что Полевой менее ясен, нежели ты, однако ж журнал его расходится и, нет сомнения, приносит большую пользу, ибо ежели не дает мыслей, то будит оные, а ты и даешь их, и будишь. Бранить публику вправе всякий, и публика за это никогда не сердится, ибо никто из ее членов не принимает на свой счет сказанного о собирательном теле. Вяземский сказал острое слово – и только. Ежели ты имеешь мало подписчиков, тому причиною: 1-е – слишком скромное объявление, 2-е – неизвестность твоя в литературе, 3-е – исключение мод. Но имей терпение издавать еще на будущий год, я ручаюсь в успехе. По прочтении 1-го номера «Европейца» здесь в Казани мы на него подписались. Вообще журнал очень понравился. Нашли его и умным, и ученым, и разнообразным. Поверь мне, русские имеют особенную способность и особенную нужду мыслить. Давай им пищу: они тебе скажут спасибо. Не упускай, однако ж, из виду пестроты и повестей, без чего журнал не будет журналом, а книгою. Статья твоя о XIX веке непонятна для публики только там, где дело идет о философии, и в самом деле, итоги твои вразумительны только тем, которые посвящены в таинства новейшей метафизики, зато выводы литературные, приложение этой философии к действительности отменно ясны и знакомым чувством с этой философией, еще не совершенно понятной для ума. Не знаю, поймешь ли ты меня, но таков ход ума человеческого, что мы прежде верим, нежели исследуем, или, лучше сказать, исследуем для того только, чтобы доказать себе, что мы правы в нашей вере. Вот почему я нахожу полезным поступать, как ты, т. е. знакомить своих читателей с результатами науки, дабы, заставив полюбить оную, принудить заняться ею. Постараюсь что-нибудь прислать тебе для 3-го номера. Ты прав, что Казань была для меня мало вдохновительной. Надеюсь, однако ж, что несколько впечатлений и наблюдений, приобретенных мною, не пропадут.
Прощай. Не предавайся унынию. Литературный труд сам себе награда; у нас, слава Богу, степень уважения, которую мы приобретаем как писатели, не соразмеряется торговым успехом. Это я знаю достоверно и по опыту. Булгарин66, несмотря на успехи свои в этом роде, презрен даже в провинциях. Я до сих пор еще не встречался с людьми, для которых он пишет.
Казань. 22 февраля 1832 года
<…> позволь мне побранить тебя за то, что ты не говоришь мне своего мнения о моей драме. Вероятно, она тебе не нравится; но неужели ты так мало меня знаешь, что боишься обидеть мое авторское самолюбие, сказав мне откровенно, что я написал вздор? Я больше буду рад твоим похвалам, когда увижу, что ты меня не балуешь. Я получил вторую книжку «Европейца». Разбор «Наложницы» для меня – истинная услуга. Жаль, что у нас мало пишут, особенно хорошего, а то бы ты себе сделал имя своими эстетическими критиками. Ты меня понял совершенно, вошел в душу поэта, схватил поэзию, которая мне мечтается, когда я пишу. Твоя фраза «…переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную» заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже. Не могу не верить твоей искренности: нет поэзии без убеждения, а твоя фраза принадлежит поэту. Нимало не сержусь за то, что ты порицаешь род, мною избранный. Я сам о нем то же думаю и хочу его оставить. 2-я книжка «Европейца» вообще не уступает первой…
Казань. 14 марта 1832 года
<…> От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Нет сомнения, что тут действовал тайный, подлый и несправедливый доносчик, но что в этом утешительного? Где найти на него суд? Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным. Поблагодарим Провидение за то, что Оно нас подружило и что каждый из нас нашел в другом человека, его понимающего, что есть еще несколько людей нам по уму и по сердцу. Заключимся в своем кругу, как первые братия-христиане, обладатели света, гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать, не печатая. Может быть, придет благопоспешное время…
Как мы видим, литературный разбор «Наложницы», помещенный во втором номере «Европейца», пришелся по сердцу Е. А. Баратынскому. Поэт вообще считал И. В. Киреевского необыкновенным критиком67, тонко чувствующим и автора, и время, в которое он пишет.
Отнеся Е. А. Баратынского к поэтам пушкинского круга, И. В. Киреевский сразу же сформулировал свое отношение к критикам автора «Наложницы». «Поэма Баратынского, – писал Иван Васильевич, – имела в литературе нашей ту же участь, какую и трагедия Пушкина: ее так же не оценили, так же не поняли, так же несправедливо обвиняли автора за недостатки небывалые, так же хвалили его из снисхождения к прежним заслугам и с таким тоном покровительства, который Гёте, из деликатности, не мог бы принять, говоря о писателях едва известных. И под этими протекторскими обозрениями, под этими учительскими порицаньями и советами большая часть критиков не удостоила даже подписать своего имени»68. Тем самым было обращено внимание читателей «Европейца» на нравственные и литературные приличия, господствующие в отечественной словесности, и задан тон последующему литературно-критическому анализу.
По мнению И. В. Киреевского, в «Наложнице» Е. А. Баратынский проявил несомненную художественную зрелость, соразмерно и стройно соединив главную мысль произведения с ясным и сильным чувством, развитым в каждом из описанных событий. Однако понимая, что «художественное совершенство, как образованность, есть качество второстепенное и относительное; иногда оно, как маска на скелете, только прикрывает внутреннюю безжизненность; иногда, как лицо благорожденной души, оно служит ее зеркалом и выражением, но во всяком случае его достоинство не самобытное и зависит от внутренней, его одушевляющей поэзии»69, в своем «Обозрении русской словесности за 1831 год» Киреевский пытается оценить поэму Баратынского в контексте общего характера его поэзии. Для этого подбираются наиболее опоэтизированные образы и сравнения. В одном случае Иван Васильевич сравнивает музу Баратынского со скромной и воспитанной красавицей, одаренной душой глубокой и поэтической, красавицей столь приличной в своих поступках, речах, нарядах и движениях, что с первого взгляда кажущейся обыкновенной. Мимо таких простых и соразмерных женщин, женщин, как принято говорить, без каких-либо ярких отличий толпы людей проходят, не замечая их достоинства. Для них нужен человек с особой душевной проницательностью. В другом случае достоинства «Наложницы» предстают у И. В. Киреевского в красках и мазках Миериса, передающих «что-то бесполезно стесняющее, что-то условно ненужное, что-то мелкое, не позволяющее художнику развить вполне поэтическую мысль свою»70. Прибегает Иван Васильевич к художественному осмыслению роли Паганини, исполнившему свой концерт на одной струне, как воплощенной победе над заданными трудностями свободного излияния души в объеме созданного воображением мастера произведении.
И. В. Киреевский убежден, что в «Наложнице» «нет ни одной сцены, которая бы не привела к чувству поэтическому, и нет ни одного чувства, которое бы не сливалось неразрывно с картиною из жизни действительной, – и эти картины говорят гораздо яснее всех возможных толкований. Вместо того чтобы описывать словами то тяжелое чувство смутной грусти, которое угнетало душу Елецкого посреди беспорядочной, развратной его жизни; вместо того чтобы рассказывать, как эта грязная жизнь не могла наполнить его благородного сердца и должна была возбудить в нем необходимость любви чистой и возвышенной, как эта новая любовь, освежая его душу, должна была противоречить его обыкновенному быту; вместо всех этих психологических объяснений поэт рисует нам сцены живые, которые говорят воображению и взяты из верного описания действительности: картину ночного пированья, его безобразные следы в комнате Елецкого, окно, открытое на златоглавый Кремль поутру, при восхождении солнца, гулянье под Новинском и встречу с Верою, маскарад, разговор с Сарою и пр.»71. Каждый стих Е. А. Баратынского, отличающийся обдуманностью и мерностью, благородной простотой и художественной законченностью, вмещает целую историю внутренней жизни. В картинах, рисуемых, Баратынским, предстает вся правда жизни с ее разногласиями и диссонансами, разрешающимися в поэтической гармонии; «в самой действительности открыл он возможность поэзии, ибо глубоким воззрением на жизнь понял он необходимость и порядок там, где другие видят разногласие и прозу»72.
Отсюда утверждение И. В. Киреевского, что гармонические струны лиры Е. А. Баратынского позволяют поэтически возвысить мысль автора. Все случайности, все обыкновенности жизни, как то: «бал, маскарад, непринятое письмо, пированье друзей, неодинокая прогулка, чтенье альбомных стихов, поэтическое имя», принимают под пером Баратынского «характер значительности поэтической, ибо тесно связываются с самыми решительными опытами души, с самыми возвышенными минутами бытия и с самыми глубокими, самыми свежими мечтами, мыслями и воспоминаньями о любви и дружбе, о жизни и смерти, о добре и зле, о Боге и вечности, о счастье и страданиях»73. Ясная форма, живая определенность и грациозная ощутительность, которыми наделяет Баратынский самые обыкновенные события жизни, ее ежедневные случайности, позволяет читателю пережить состояние возвышенной сердечной созерцательности. Без высочайшешего поэтического дара эту атмосферу музыкального и мечтательного простора воссоздать не удастся. Другое дело, чтобы в нее погрузиться, читателю, а особенно критику, следует обладать соответствующей душевной организацией.
Сегодня мы понимаем, что «Обозрение русской словесности за 1831 год», в котором И. В. Киреевский сделал разбор «Бориса Годунова» А. С. Пушкина и «Наложницы» Е. А. Баратынского, дополнено Иваном Васильевичем отдельным материалом, в котором внимание читателя «Европейца» было обращено на альманахи «Альцион» и «Северные цветы», богатые многими прекрасными стихами В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, Н. М. Языкова, а также прозою А. А. Бестужева (Марлинского) и О. М. Сомова74. К этому же можно присовокупить критику постановки на Московском театре известной комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»75, в которой даже при дурной игре актеров «каждое слово остается в памяти неизгладимо, каждый портрет прирастает к лицу оригинала неотъемлемо, каждый стих носит клеймо правды и кипит огнем негодования, знакомого одному таланту»76. А еще языковедческое эссе о Вильмене77, в слоге которого И. В. Киреевский находит не столько красоту правильную, строгую и классически спокойную, сколько красоту живую, прихотливо грациозную и щеголевато своеобразную78. И даже при этом все это обилие высокопрофессионального литературного текста, подготовленного для 1-го и 2-го номеров «Европейца», явилось лишь частными случаями редакционно-издательской деятельности И. В. Киреевского. Содержательно все эти статьи были подчинены в конечном счете смыслам, раскрываемым в его программной работе «Девятнадцатый век».
И. В. Киреевский поставил перед собой задачу выяснить магистральные направления в быте просвещенной Европы, проявляющие себя в литературе, в обществе, в религии, в философии, а через них разобраться в особенностях текущей минуты современной ему жизни. Задача сложная, но важная, «ибо одно понятие текущей минуты, связывая общие мысли с частными явлениями, определяет в уме нашем место, порядок и степень важности для всех событий нравственного и физического мира»79.
Для постижения духа своего времени И. В. Киреевский предлагает сравнить прежние времена с настоящим. «Раскройте, – пишет он, – раскройте исторические записки, частные письма, романы и биографии прошедших веков: везде и во всякое время найдете вы людей одного времени. При всем разнообразии характеров, положений и обстоятельств каждый век представит вам один общий цвет, одно клеймо, которое больше или меньше врезано на всех одновременных лицах. Все воспитаны одномысленными обстоятельствами, образованы одинаковым духом времени. И те умы, которые в борьбе с направлением своего века, и те, которые покорствуют ему, все равно обнаруживают его господство: оно служит общим центром, к которому примыкают направления частные»80. В этой связи в европейском обществе XIX века обнаруживаются не разногласные мнения одного времени, а «отголоски нескольких веков, не столько противные друг другу, сколько разнородные между собою. Подле человека старого времени найдете вы человека, образованного духом Французской революции; там – человека, воспитанного обстоятельствами и мнениями, последовавшими непосредственно за Французской революцией; с ними рядом – человека, проникнутого тем порядком вещей, который начался на твердой земле Европы с падением Наполеона; наконец, между ними встретите вы человека последнего времени, и каждый будет иметь свою особенную физиономию, каждый будет отличаться от всех других во всех возможных обстоятельствах жизни, одним словом, каждый явится перед вами отпечатком особого века»81.
В этой быстроте изменений духа времени усматривается и сущность самих изменений, и характер действующих лиц истории, и устои просвещения, которые можно охарактеризовать одним словом европеизм. Именно господствующие направления последнего более всего волновали И. В. Киреевского. Причем исторические особенности и сущность европеизма автор «Девятнадцатого века» предполагал описать через генезис европейского просвещения, через отношения русского просвещения к просвещению остальной Европы. Он утверждает, что из трех основных стихий европейского просвещения – христианской религии, характера варварских народов и остатков древнего мира – России недоставало последней и что этим-то отсутствием в русской жизни следов влияния классической древности и объясняются ее особенности и недостатки русского просвещения. Для восполнения этих недостатков был один путь: заимствование западной культуры, совершавшееся сначала отрывисто, а при Петре I принявшее характер необходимого и законного переворота.
Такова вкратце главная идея статьи И. В. Киреевского «Девятнадцатый век». Чтобы дать понятие об образе и способе мышления автора, приведем несколько отрывков из нее. Прежде всего, о влиянии европейского просвещения на Россию: «Какая-то китайская стена стоит между Россией и Европой и только сквозь некоторые отверстия пропускает к нам воздух просвещенного Запада; стена, в которой Великий Петр ударом сильной руки пробил широкие двери; стена, которую Екатерина долго старалась разрушить, которая ежедневно разрушается более и более, но, несмотря на то, все еще стоит высоко и мешает»82.
О характере и степени взаимосвязи просвещения европейского и российского: «Скоро ли образованность наша возвысится до той степени, до которой дошли просвещенные государства Европы? Что должны мы делать, чтобы достигнуть этой цели или содействовать ее достижению? Изнутри ли собственной жизни должны мы заимствовать просвещение свое или получать его из Европы? И какое начало должны мы развивать внутри собственной жизни? И что должны мы заимствовать от просветившихся прежде нас?»83
О национальных особенностях русского просвещения по отношению к просвещению остальной Европы: «Не со вчерашнего дня родилась Россия: тысячелетие прошло с тех пор, как она начала себя помнить; и не каждое из образованных государств Европы может похвалиться столь длинной цепью столь ранних воспоминаний. Но несмотря на эту долгую жизнь, просвещение наше едва начинается, и Россия, в ряду государств образованных, почитается еще государством молодым. И это недавно начавшееся просвещение, включающее нас в состав европейских обществ, не было плодом нашей прежней жизни, необходимым следствием нашего внутреннего развития; оно пришло к нам извне, и частию даже насильственно, так что внешняя форма его до сих пор еще находится в противоречии с формой нашей национальности»84.
Об очевидном влиянии на европейскую образованность устройства торговых городов: «У нас также были Новгород и Псков; но внутреннее устройство их (занятое по большей части из сношений с иноземцами) тогда только могло бы содействовать к просвещению нашему, когда бы ему не противоречило все состояние остальной России. Но при том порядке вещей, который существовал тогда в нашем отечестве, не только Новгород и Псков долженствовали быть задавлены сильнейшими соседями, но даже их просвещение, процветавшее столь долгое время, не оставило почти никаких следов в нашей истории – так несогласно оно было с целой совокупностью нашего быта»85.
О христианской религии как источнике духовного образования и политического устройства: «В России христианская религия была еще чище и святее. Но недостаток классического мира был причиной тому, что влияние нашей церкви во времена необразованные не было ни так решительно, ни так всемогуще, как влияние церкви Римской. Последняя, как центр политического устройства, возбудила одну душу в различных телах и создала таким образом ту крепкую связь христианского мира, которая спасла его путь от нашествий иноверцев; у нас сила эта была не столь ощутительна, не столь всемогуща»86.
О системе государственного раздробления как отчуждения от всего остального образования Европы: «…система раздробления была свойственна не одной России, она была во всей Европе и особенно развилась во Франции, несмотря на то остановившей стремительный натиск арабов. Но мелкие королевства, связанные между собой сомнительной и слабой подчиненностью политической, были соединены более ощутительно узами религии и церкви»87. Россия, раздробленная на уделы, на несколько веков подпала под владычество татар. «Не имея довольно просвещения для того, чтобы соединиться против них духовно, мы могли избавиться от них единственно физическим, материальным соединением, до которого достигнуть могли мы только в течение столетий. <…> Нам не предстояло другого средства избавиться от угнетения иноплеменного, как посредством соединения и сосредоточения сил; но так как силы наши были преимущественно физические и материальные, то и соединение наше было не столько выражением единодушия, сколько простым материальным совокуплением; и сосредоточение сил было единственно сосредоточением физическим, не смягченным, не просвещенным образованностью. Потому избавление наше от татар происходило медленно и, совершившись, долженствовало на долгое время остановить Россию в том тяжелом закоснении, в том оцепенении духовной деятельности, которые происходили от слишком большого перевеса силы материальной над силой нравственной образованности. Это объясняет нам многое и, между прочим, показывает причины географической огромности России»88.