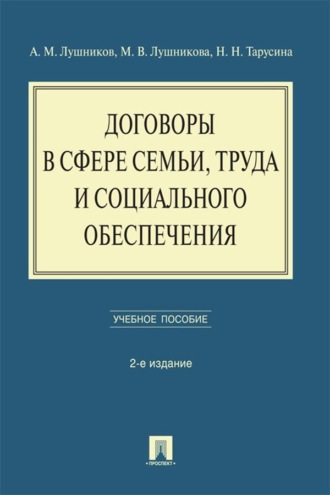
М. В. Лушникова
Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения
Как отмечает С. В. Сивохина, в отличие от брака и от гражданского пакта солидарности, конкубинат – не юридическое, а фактическое состояние. Однако французское право учитывает эти пары и предоставляет им защиту в различных сферах. Для этого необходимо получить в мэрии сертификат конкубината (свидетельство свободного союза): этот документ позволяет конкубинам сохранять право проживания по месту жительства умершего конкубина-нанимателя, права на получение пособий по социальному обеспечению и некоторых пособий на семейные нужды (карты скидок и т. п.). Ряд организаций не требуют предоставления сертификата и удовлетворяются письменными заявлениями произвольной формы. Возможны два вида конкубината: простой, где пару составляют двое людей, свободных от брака, и конкубинат-измена, когда один из сожителей состоит в браке[247].
Весьма своеобразен подход к проблеме в Эквадоре. В этой стране еще в 1982 г. был принят Закон «О регистрации фактического брака». В ст. 1 Закона установлено, что «постоянный и моногамный фактический брак продолжительностью более двух лет между мужчиной и женщиной, свободными от брачного союза, чтобы вместе жить, рожать детей и оказывать друг другу взаимную помощь, дает основание для образования общности имущества». Норма ст. 10 Закона предписывает применять к пережившему фактическому супругу все правила о наследовании для «законных» супругов по ГК Эквадора, а ст. 11 – налоговое и пенсионное законодательство[248].
Социальным кодексом Германии в ред. от 8 июня 2006 г. закреплены признаки супружеского сообщества: 1) совместное проживание на одной жилплощади более одного года; 2) наличие совместного ребенка; 3) взаимное материальное обеспечение и забота о проживающих с ними детях одного из партнеров или прочих близких родственниках; распоряжение имуществом или улаживание дел другого партнера. При доказанности одного из этих фактов союз мужчины и женщины признается фактическим сообществом и влечет обязанности по взаимной материальной поддержке.
Получили признание разнообразные зарегистрированные партнерства: социально-экономическое партнерство Франции, зарегистрированные партнерства стран Скандинавии, Германии, Исландии, Бельгии, ЮАР, Португалии, региональные партнерства в Канаде и США и т. д.[249] Частично легализовала фактические брачные отношения Украина. Семейным кодексом 2003 г. (с соответствующими изменениями) устанавливается: 1) «Если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой или в любом другом браке, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними» (п. 1. ст. 74); 2) «при длительном проживании и нетрудоспособности одного из них, наступившей в данный период, возникает также право на содержание» (ст. 91)[250].
Определенные последствия установлены и для соглашения о заключении брака: «Лицо, отказавшееся от брака, обязано возместить второй стороне затраты, понесенные ею в связи с приготовлением к регистрации брака и свадьбе». Причем затраты не подлежат возмещению, если отказ от брака вызван противоправным, аморальным поведением противоположной стороны. Предусмотрена также возможность расторжения договора дарения (ст. 31 СК Украины).
Вызывают интерес два нормативных положения Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (в ред. от 20.07.2006 г.). Во-первых, среди общих начал семейного законодательства присутствует очень важное заявление: «Воспитание детей и ведение домашнего хозяйства признается общественно полезным трудом» (п. 3 ст. 3). Теоретически это подчеркивает необходимость защиты фактических супругов (как правило, женщины) в имущественной сфере, а практически – возможность создания справедливого прецедента, основанного на аналогии с нормами о законном супружеском имуществе. Во-вторых, в норме ст. 59, как мы уже отмечали ранее, дается определение семьи[251]. При этом ее конститутивные признаки, по сути, аналогичны признакам фактического брака (моральная и материальная общность и поддержка, совместное проживание, ведение общего хозяйства и т. п.), а в качестве субъектов, хотя и в порядке исключения, допускаются не только супруги, но и иные лица[252]. Полагаем, что до признания необходимости хотя бы некоторой защиты фактических супругов, с учетом указанных предпосылок (которые отсутствуют в российском законодательстве), белорусскому законодательству остался один шаг.
Таким образом, фактический брак как особая разновидность фактического договора о создании семьи требует, по меньшей мере, частичного признания семейным законом. Соответственно, факт фактического брака с этого момента может устанавливаться в особом производстве гражданского процесса. Фактическим супругам следует предоставить право заключать договор о совместной семейно-хозяйственной деятельности (по типу брачного договора) и соглашения о предоставлении материального содержания нуждающейся стороне (в случае прекращения союза). Не исключается также предоставление фактическим супругам права быть субъектами правоотношений «технолого-репродуктивного» характера – вплоть до заключения договора о суррогатном материнстве[253].
* * *
В последнее время некоторыми российскими цивилистами актуализируется проблема однополых союзов (партнерств). При этом подходы к ее решению разнятся до противоположности.
Так, О. Ю. Косова полагает, что из социологического понятия семьи вполне определенно выводится заключение о невозможности союзов лиц одного пола, хотя автор и не отрицает, что в различном историческом времени, социальном и правовом пространствах такие состояния существовали и существуют сейчас. «С точки зрения физической природы человека и законов развития общества, – утверждает автор, – это аномалия. Значит, и их правовое признание – правовой нонсенс»[254].
Признавать такие союзы браком (да и вообще признавать их неким явлением de jure), полагают представители различных конфессий и, в частности, Русской православной церкви, значит приглашать человека к греху… В последнее время осуждение подобных союзов прозвучало и из Ватикана, несмотря на широкое распространение в Европе иного общественного мнения и принятие соответствующих законов. (Вспомним, кстати, что в недалекой советской истории «мужеложество» преследовалось уголовным законом.)
Ряд цивилистов рассматривают даже факт смены пола одним из супругов (в уже заключенном браке) либо как «социальную смерть» и основание к автоматическому прекращению брака после вынесения судебного решения об объявлении лица умершим (Д. И. Степанов), либо как основание прекращения брака без развода (Л. А. Смолина), либо как основание расторжения брака (М. Н. Малеина). Последняя, впрочем, допускает сохранение брака, в котором однополые люди ведут общее хозяйство, воспитывают детей, но не выполняют роль мужа и жены по отношению друг к другу[255]. (Впрочем, это допущение, особенно во второй своей части, ничем не может быть обеспечено…)
Н. А. Алексеев считает, что дискриминация сексуальных меньшинств в семейных отношениях существует, однако носит не прямой, а косвенный характер и является следствием не наличия, а отсутствия правового регулирования. В силу того, что отношения между однополыми партнерами российским семейным законодательством не признаются, в совместной жизни подобных пар возникает немало проблем, являющихся юридическим следствием такого непризнания (защита имущественных прав и интересов, невозможность усыновления, приема детей на воспитание в иных законных формах и т. д.[256]).
Однополые союзы, как известно, стали очевидным и общественно признаваемым явлением в 80–90-е гг. XX в. Впервые институт зарегистрированного однополого партнерства появился в 1989 г. в Дании, затем в 1993 г. – в Норвегии, 1994 г. – Швеции, 1997 г. – Нидерландах, 1999 г. – Исландии, 2001 г. – Финляндии. В 2001 г. в Германии был принят закон «О прекращении дискриминации однополых союзов: пожизненных партнерствах». В настоящее время, констатирует С. В. Сивохина, свыше двух десятков государств приняли законы о партнерствах (дополнительно к перечисленным – Франция, Бельгия, Канада, Австрия, Израиль, Швейцария, Великобритания и др.). В ряде государств он легализован на региональных уровнях – в Испании (Каталония и др.), Италии (Тоскания и др.), Австрии, Бразилии, США (Гаваи, Калифорния, Вермонт, Дакота, Нью-Йорк, Мэн и др.[257]).
В конце XX в. наметились две тенденции в развитии этого блока семейного законодательства. В большинстве стран законодательные органы исходили и исходят из того, что брак не может быть заключен между лицами одного пола, поскольку тому препятствуют национальные и религиозные традиции и/или соответствующие конституции. При этом не разрешаются и иные формы союзов – партнерства. В странах, где однополые союзы разрешены, брак, как правило, остается союзом мужчины и женщины, хотя в ряде из них правовые последствия однополых партнерств, особенно в имущественном плане, существенно приближены к брачному союзу[258].
Особое место занимают Нидерланды, где на уровне законодательства в корне изменено представление о браке как семейном союзе только мужчины и женщины: в соответствии с нормой ч. 1 ст. 30 ГК «брак может быть заключен между двумя лицами разного или одного пола»[259].
Законодательным экспериментом Франции стала социально-экономическая модель зарегистрированного партнерства – на основе закона 1999 г. «О гражданском пакте солидарности» (с последующим внесением в ГК Франции положений о самостоятельном гражданско-правовом договоре), поддержанного почти половиной населения страны (при том, что 13 тыс. мэров городов и президент республики Ж. Ширак выступили против любых имитаций брака[260]).
Участники договора о партнерстве должны отвечать определенным требованиям: возраст, дееспособность, несостояние в браке или другом партнерстве. Именно это позволяет ряду исследователей признавать его косвенную семейно-правовую природу, хотя формально-юридически он таковым не является[261]. В отличие от брака, заключение которого требует регистрации в мэрии, партнерство регистрируется в суде. Расторжение осуществляется как на основе взаимного согласия, так и при наличии спора также в суде. К правовым последствиям относятся: возникновение совместной собственности (если иное не предусмотрено договором), право на социальное обеспечение по семейному типу, право требовать совместного отпуска (при работе в одной компании), перевода в область проживания партнера (для лиц, работающих в государственной администрации), право на долгосрочную визу для партнера-иностранца (с последующим получением вида на жительство), на налоговые льготы (после трех лет сожительства). Не возникает, однако, аналогий с браком в области наследования и налогообложения[262].
По мнению Н. А. Алексеева, французская модель служит образцом для стран, не готовых сразу перейти к институту зарегистрированного партнерства для однополых пар и признать их семейный статус, ибо пакт не наносит ущерба традициям брака и не разрушает материю семейного права. Автор предлагает инкорпорировать в российское законодательство правовую конструкцию партнерства, альтернативную браку, – предпочтительно не семейно-правовой, а гражданско-правовой принадлежности. Этот вариант, с его точки зрения, вызовет меньше споров и возражений. Н. А. Алексеев считает необходимым ввести в ГК РФ договор социально-экономического партнерства – это даст возможность однополым парам получить некоторые экономические преимущества и официальное признание отношений. Договор должен заключаться в письменной форме и подлежать нотариальному удостоверению. На втором этапе либерализации законодательства автор предполагает корректировку разнополой сущности брака[263].
С. В. Сивохина полагает, что законодательный эксперимент, захлестнувший многие страны Европы, «в условиях патриархальной России представляется несвоевременным и даже кощунственным, если учесть низкий уровень правовой культуры населения, господство правового нигилизма… высокую степень распространенности гомофобии, игнорирование государством проблемы внебрачных сожительств, а также если учесть скромную, едва заметную политику государства в социальной сфере». Особенно беспокоит автора возможное разрешение воспитания и усыновления детей однополыми парами[264].
Так или иначе какие-то эксперименты в этой области нас, безусловно, не минуют. Лидеры России постоянно подчеркивают европейские статус и традиции нашей страны, а «европейский канон», которого Россия пытается придерживаться, в гендерном плане, как видим, много либеральнее нашей правовой доктрины. Ввиду светского характера государства категорическое осуждение однополых союзов православною церковью также не может быть принято за основу указанной доктрины. В вопросах же венчания и проповеди любви в классическом браке церковь, соответственно, также самостоятельна.
Этапность продвижения к юридическому признанию партнерств, предложенная Н. А. Алексеевым, на наш взгляд, не может быть принята: с одной стороны, вряд ли их природа является гражданско-правовой (это явный лично-правовой союз с семейными элементами), с другой стороны, не следует ставить перед законодателем и перспективную цель приближения таких партнерств к браку, а тем более – отождествления с ним. (Данные союзы с биологической точки зрения не относятся к нормам человеческой природы.) Допущение для участников партнерства приемного родительства, усыновления и иных прав в области попечения над детьми также представляется неприемлемым, так как образцы жизнедеятельности партнеров будут оказывать очевидное влияние на воспитуемого ребенка, в котором в большинстве случаев изначально заложены обычные природные потребности.
О. И. Баженова отмечает, что прямого запрета рассмотрения однополых союзов в качестве вида семейных отношений нет, так как норма ст. 2 СК РФ допускает регулирование семейным законодательством отношений между «иными лицами»[265]. Однако это утверждение не соответствует смыслу указанного нормативного предписания: отношения иных лиц могут быть включены в сферу семейно-правовой регуляции в случаях и пределах, предусмотренных семейным законодательством. (Сложнее вопрос о признании таковых союзов «с иностранным элементом», о чем далее размышляет О. И. Баженова, опираясь на норму ст. 166 СК РФ[266].)
В любом случае, прежде чем менять правовую доктрину в указанном направлении (если это вообще состоится), следует либерализовать отношение последней к фактическому браку, основанному на классическом семейном союзе мужчины и женщины.
2.4. Брачный договор
Термин «брачный договор» является условным. Во-первых, исторически он совпадал с договором о заключении брака. Так, у древних славян два из трех способов такового заключения (похищение, покупка, приведение) являлись сделками: 1) передача купленной невесты сопровождалась «запродажной сделкой»; 2) «приведение» невесты – приданым [267]. Приданое, как известно, сохранило свое значение в России, пусть и не всегда в качестве обязательного элемента (союз с «бесприданницей»), вплоть до начала ХХ в. Одна из причин «теремного» быта девиц, отмечает Н. Л. Пушкарева, коренится в том, что к середине ХVI в. знатные девицы-московитки превратились в род весьма дорогого «товара», которым торговали родители, заключая династические союзы[268]. Роль предварительного договора играли соглашения о помолвке, которые, например, в XII в. включали условие о неустойке, если свадьба расстроится по вине ветреника-мужчины. С XVI в. появилась и формула о штрафе с родственников несогласной на брак невесты. Близкие родственники, разумеется, старались не допустить таких инцидентов. Однако были и дошедшие до нас исключения: богатая бабушка Марфа (начало 1560-х гг.), любя внучку Авдотью, продала два села, чтобы выплатить штраф жениху, за которого, влюбившись в другого, внучка отказалась идти замуж[269]. В крестьянкой среде акт заключения брака рядом цивилистов квалифицировался как обычная имущественная сделка – договор типа купли-продажи (Н. Г. Оршанский, К. Кавелин, А. Ефименко). Однако с этим соглашались далеко не все (С. В. Пахман, Д. И. Мейер и др.[270]). В допетровскую эпоху «брачным договором» нередко определялось время заключения брака, приданое невесты или выводные деньги со стороны жениха, оговаривались свадебные расходы, подарки, залоги, задатки и т. д.[271]
Л. Б. Максимович полагает, что в исконном значении понятие «брачный договор» тождественно понятию «брак»[272]. На наш взгляд, это не совсем так. Еще цивилисты XIX в. отмечали, что нередко происходит отождествление соглашения о заключении брака (в этом смысле – брачного договора, или договора о браке) с собственно браком, что не соответствует сущности последнего как пожизненного супружеского союза[273].
Поскольку брак нами рассматривается как разновидность семейно-правового договора о создании супружеской семейной общности, постольку выстраивается цепочка: соглашение о заключении брака, брак как договорное правоотношение и брачный договор как необязательное, но допустимое семейным законом соглашение об имущественных правоотношениях супругов, строящихся на основах, отличных от законного режима.
В контексте действующего семейного законодательства, российского и большинства других стран, с этим (кроме констатации «брак – семейно-правовой договор») соглашается и Л. Б. Максимович[274].
Российская версия сферы применения брачного договора весьма ограничительна. В соответствии с нормой ст. 4 °CК РФ последний является соглашением лиц, вступающих в брак, или супругов только об их имущественных правах и обязанностях в браке и (или) в случае его расторжения, т. е. в правоотношениях собственности и алиментном.
Между тем в ряде стран содержательный объем данного договора существенно больше. Так, его англо-американская модель допускает урегулирование не только имущественных отношений, но и отношений, связанных с воспитанием и содержанием детей[275]. Норма ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье в целях «укрепления брака и семьи, повышения культуры семейных отношений, осознания прав и обязанностей супругов, ответственности за детей и друг за друга» также предполагает в брачном договоре регулирование не только имущественных, но и личных отношений: формы, методы и средства воспитания детей, место их проживания, алиментирование, порядок общения с детьми отдельно проживающего родителя, а также другие вопросы содержания и воспитания детей в случае расторжения брака. Более того, устанавливается, что в данном договоре «могут быть урегулированы и другие вопросы взаимоотношений между супругами, если это не противоречит законодательству о браке и семье».
Л. Б. Максимович отмечает, что российский законодатель предпочел не англо-американскую, а континентальную модель (Франции, Германии, Италии и др.), – это «позволило решить вопрос взвешенно и осторожно, о чем свидетельствует намеренное сужение рамок брачного договора путем ограничения его содержания законом». Ограничение инициативы супругов имущественным аспектом, продолжает автор, произведено не только потому, что личные права и обязанности не могут быть принудительно осуществлены, но и из-за опасения многочисленных нарушений прав и законных интересов граждан[276]. П. В. Крашенинников сразу по следам принятия СК РФ констатировал, что кодекс «к счастью, нельзя назвать революционным документом», потому что, «учитывая сложность и деликатность семейных отношений, законодатель достаточно осторожно отнесся к построению новых правовых конструкций»[277].
Вероятно, американский и белорусский законодатели (коих, кстати, никак не заподозришь в нормативном «сговоре»), к несчастью, не были осторожны…
Между тем, во-первых, не всякие личные права и обязанности исключают принудительное осуществление (например, вопрос о месте проживания ребенка может быть обеспечен данной технологией), во-вторых, не всякие из них, если исходить не из традиций гражданского права, а из начал семейного закона, должны отвечать этому признаку. Часть положений закона вполне может быть ориентирована на позитивную ответственность супругов и регулятивные (нормально развивающиеся) отношения в семье. Кроме того, различного рода соглашения о детях супругами могут заключаться[278]. Почему же им категорически нет места в брачном договоре?..
И наконец, мы как раз и не наблюдаем взвешенной позиции законодателя, так как все ограничители свободы брачного договора, которые предусмотрены семейным законом (п. 3 ст. 42 СК РФ), либо относятся к классике цивилистики (обеспечение равноправия, запрет ограничения правоспособности и т. д.), либо предельно размыты, требуют оценочной и конкретизирующей деятельности, которую супруги осуществлять по общему правилу не могут, будучи непрофессионалами, а нотариусы – не должны по сущности своего статуса.
При этом супруги, выбирая технологию брачного договора, в противовес законному режиму вольны довести ситуацию до противостояния его содержания методологии бездоговорного («законного») регулирования, установив принцип раздельности имущества (что сделать вправе – п. 1 ст. 42 СК РФ) и проигнорировав положения о способах участия в доходах друг друга и порядке несения каждым из них семейных расходов (что также сделать вправе – в соответствии с буквальным толкованием правила ч. 3 п. 1 ст. 42 СК РФ).
«В принципе режим раздельности, – отмечает М. В. Антокольская, – можно назвать наиболее справедливым для современной семьи, в которой оба супруга в более или менее равной степени делят домашние обязанности и оба имеют самостоятельные доходы». Такой режим, продолжает автор, является предпочтительным и для семей, где жена имеет более высокий доход по сравнению с мужем и при этом несет на себе львиную долю обязанностей по ведению домашнего хозяйства, заботе о детях и их воспитании. И главное: М. В. Антокольская полагает, что при режиме раздельности «необходимо определить, в какой мере каждый из супругов будет выделять средства на ведение общего хозяйства, оплату общего жилища и другие общие расходы»[279]. Такая трактовка, верная по сути, является императивной – в то время как соответствующие правила ст. 42 СК РФ имеют диспозитивный характер. Разумеется, можно применить ссылку на общие начала семейного законодательства: семейные отношения должны строиться на основе взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов (ч. 2 п. 1 ст. 1 СК РФ); супруги обязаны «содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей» (п. 3 ст. 31 СК РФ). Но это, как мы уже отмечали, оценочные характеристики, поэтому, кроме опоры на них, необходимо императивным образом сформулировать указанные требования в норме ч. 3 п. 1 ст. 42 СК РФ.
Правила ст. 42 СК РФ не содержат и никаких ограничителей свободы договора в целях обеспечения интересов общих несовершеннолетних детей как членов данной «супружеской семьи». Между тем положения законного режима (п. 5 ст. 38, п. 2 ст. 39 СК РФ) являются в этом смысле достижениями российского законодательства, воплощением его социального, гуманитарного начала. То же касается и защиты интересов социально слабой стороны (супруга), на проблемы которой М. В. Антокольской и другими авторами вообще не делается акцента. Полагаем, что и в этой связи нормы о брачном договоре должны быть скорректированы – в соответствии с началами семейного законодательства, т. е. прежде всего предусмотрены обязанности субъектов договора по формированию семейного бюджета и охранно-защитная компонента в части социально значимых имущественных интересов самих супругов и их общих несовершеннолетних детей. Мы солидарны с мнением Л. Ю. Михеевой о необходимости сохранения в том или ином, пусть и ограниченном, виде конструкции общей совместной собственности и более взвешенном сближении в этом вопросе имущественных институтов семейного законодательства с соответствующими институтами законодательства гражданского[280].
* * *
Как в действующем варианте, так и в вариантах de lege fеrenda (расширение социальных ограничений диспозитивности, содержания – за счет некоторых личных прав и обязанностей), брачный договор является комплексным, смешанным, а его природа (особенно в усовершенствованных случаях) – семейно-правовой или, но в меньшей мере, двойственной.
По этому поводу полного единства мнений среди цивилистов нет, причем большинство с данным утверждением не согласны. Так, А. А. Иванов утверждает: брачный договор – обычная гражданско-правовая сделка и потому подчиняется правилам о сделках, обязательствах и договорах[281]. Б. М. Гонгало и П. В. Крашенинников также полагают, что исследуемое явление не относится к уникальным, оно – одно из многих в ряду гражданско-правовых договоров: 1) сама возможность его заключения предусматривается в ГК РФ; 2) изменение и расторжение производятся по основаниям и в порядке, установленным гражданским законом (п. 2 ст. 43 СК РФ)[282]. М. В. Антокольская столь же категорична в решении этого вопроса: во-первых, в общем виде брачный договор урегулирован нормами ГК РФ; во-вторых, невозможно объяснить, почему в отношении общего имущества супругов должны действовать особые семейные соглашения, а в отношении раздельного – обычные гражданские договоры[283]. Да и само название свидетельствует об этом же[284]. На гражданско-правовую природу брачного договора указывают также М. И. Брагинский, В. В. Витрянский[285], Е. А. Чефранова[286] и др.
Л. М. Пчелинцева[287], Л. Б. Максимович подчеркивают его сложную правовую природу. Так, последняя пишет: «Брачный договор обладает столь яркой и очевидной спецификой, что никак не может быть отнесен к обычным гражданско-правовым сделкам или договорам». «Супружеская общность, – продолжает автор, – не только экономическая, но бытовая, психологическая, эмоциональная, физическая – обусловлена самим браком. Именно это оказывает существенное влияние на супружеские имущественные отношения. …Вместе с тем брачный договор предназначен для регулирования именно имущественных отношений между супругами. И с этой точки зрения он, несомненно, является инструментом гражданского права…»[288].
Во-первых, тождество терминов и схожесть определений, как мы уже отмечали в главе I данной работы, отнюдь не всегда ведет к поглощению «вторичных аналогов» (договоров в международном, административном, трудовом праве и др.) первичным источником.
Во-вторых, регуляция в наиболее общем (совершенно неконкретном) виде исследуемых отношений[289] гражданским законом (п. 1, ч. 3 п. 2 ст. 256 ГК РФ) не с очевидностью свидетельствует об «узурпации» гражданско-правовой власти над брачным договором. Например, наличие норм ст. 47 ГК РФ «Регистрация актов гражданского состояния» и ст. 30–39 ГК РФ об опеке малолетних не подрывает в значительной части административно-правовой природы регистрации АГС и семейно-правовой природы попечения над детьми. Законы систематики, может быть, и требуют упоминания в ГК РФ тех или иных понятий и институтов, но, коль скоро их существенные характеристики находятся в других отраслевых образованиях, а частные цели соответствуют стратегическим целям последних, природа таких понятий, норм и отношений вполне может быть и не гражданско-правовой или, по крайней мере, как мы уже отмечали, смешанной (двойственной). Субсидиарное, по аналогии и прямое применение гражданского законодательства к брачному договору, пусть и более масштабное, нежели к другим явлениям семейно-правовой сферы, также не с очевидностью указывает на его исключительно гражданско-правовую природу: указанные технологии корректируются положениями ст. 4 и 5 СК РФ о соответствии их содержания специфике семейных отношений.
В-третьих, сначала законодатель (в том числе те же цивилисты как участники проектирования закона) создает модель, возможно ошибочную или, по крайней мере, отрицающую прежний опыт добрачного регулирования брачных отношений, неточную, неоптимальную, а затем предлагает самому себе (в лице цивилистов-проектантов) использовать ее в качестве базовой теоретической предпосылки.
Семейно-правовую природу отстаивают О. Н. Низамиева, И. В. Злобина, Л. А. Смолина и некоторые другие цивилисты[290]. Основные аргументы (как и у автора данного параграфа[291]) сводятся к специфике субъектного состава (лица, вступающие в брак; супруги), цели договора – регулирование имущественных отношений семейной общности, ориентации на общие начала семейного законодательства, кои, что предельно важно, принципиально отличаются от начал законодательства гражданского – в силу существенного отличия объектов регуляции[292]. Среди особых оснований недействительности брачного договора, отмечает Л. А. Смолина, имеются и неизвестные ГК РФ, например «условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение» (п. 2 ст. 44 СК РФ)[293].
Кроме того, как мы уже подчеркивали, российский эксперимент с брачным договором не во всем успешен, особенно в социально-гуманитарной области. Если дополнительные ограничители его свободы будут введены, а сфера применения расширена, семейно-правовое начало существенно усилится.
* * *
Не ставя перед собой цели подробного анализа вариантов содержания брачного договора и других его нормативных составляющих, остановимся лишь на наиболее дискуссионных аспектах.
Так, с точки зрения многих цивилистов, не вполне ясен его субъектный состав. Во-первых, нуждается в уточнении формула «лица, вступающие в брак». О. Ю. Косова предлагает ограничительное толкование нормы: формулировка ст. 4 °CК РФ дает основания считать, что при удостоверении брачного договора стороны должны представлять нотариусу доказательства своих действительных намерений вступить в брак, например, справку органа ЗАГС о подаче ими заявления о вступлении в брак[294].
Полагаем, что ничто в тексте закона не указывает на такую формализацию поведения. Неточность термина, отмечает Л. Б. Максимович, обусловлена примененной конструкцией причастного оборота, обозначающего незаконченное действие; можно было бы избежать неточности при использовании формулы «лица, собирающиеся (или намеревающиеся) вступить в брак»[295]. Е. А. Чефранова предлагает сходный вариант: «лица, имеющие намерения вступить в брак»[296]. Хотя помолвка и статус жениха и невесты, подчеркивает Л. Б. Максимович, не имеют по российскому семейному законодательству юридического значения, мужчина и женщина приобретают право заключить брачный договор именно с момента принятия совместного решения о вступлении в брак, а не с момента подачи соответствующего заявления в орган ЗАГС. К тому же факт подачи заявления не следует переоценивать: примерно 8 % от числа лиц, подавших такие заявления, не являются впоследствии на регистрацию брака[297].


