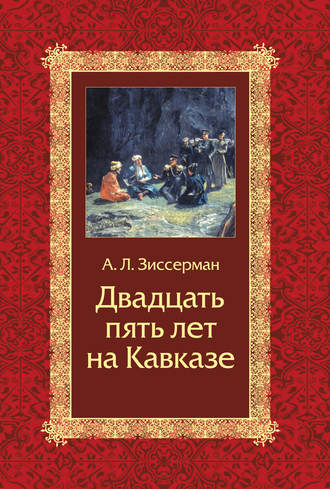
А. Л. Зиссерман
Двадцать пять лет на Кавказе (1842–1867)
Это монотонное канцелярское существование не могло удовлетворять моей подвижной натуре, постоянно жаждавшей перемен, новых образов и ощущений. Вне службы я предался чтению с каким-то запоем. «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», сочинения Марлинского, переводные романы Дюма, Сю и множество всякого печатного хлама, за недостатком тогда более питательной умственной пищи, проглатывались с жадностью. Город и его окрестности после первых, скоро исчезнувших впечатлений стали мне противны. Я рвался вон, куда бы то ни было, лишь бы побывать в новых местах, посмотреть поближе на тот Кавказ, который рисовала мне собственная фантазия, возбужденная очерками Марлинского, на те горы и дикие ущелья, где геройствовали наши войска – одним словом, где, казалось, должен быть другой, неведомый мир, полный всяких диковин и сильных ощущений. Скука и тоска, одолевавшие рано или поздно всех приезжих, отсутствие всяких общественных удовольствий при ежедневных утомительно-механических занятиях переписыванием «так как и потому» делались невыносимы.
Чиновный класс так резко делился на высший и низший, что среднего почти не было; гостиные первых были недоступны низшим, а эти по недостатку средств жили замкнуто, вынужденные предаваться картам или вакхическим развлечениям, страсть к коим была развита в поразительной степени, особенно в уездных городках. Изобилие и дешевизна местного вина загубили не одного, даже и порядочного чиновника; пьянство доходило до безобразия, особенно резко бросавшегося в глаза среди туземцев – или не пьющих вовсе, как мусульмане, или пьющих хотя и много, но весьма редко пьянеющих, как грузины, у которых слова русси (русский) и лоти (пьяница) были синонимы неразлучаемые… Каково было нравственное влияние подобных представителей русского управления и какое уважение к ним туземцев – представить себе нетрудно, в особенности если прибавить преобладающий элемент взяточничества, опять-таки более среди уездной и особенно полицейской администрации… В последнем отношении за Кавказом многие перещеголяли тех героев, которых Щедрин и его последователи так обильно рисовали в конце пятидесятых годов. Проделки некоторых уездных начальников и участковых заседателей (становых) долго хранились в памяти кавказских старожилов и теперь показались бы разве анекдотами, более или менее остроумными… Один собирал со всех жителей своего участка по нескольку гривен будто бы на приданое одной из великих княжон, выходившей за германского принца. Теперь память мне изменила, а то можно бы не одну страницу наполнить подобными образчиками. Грустно и обидно, да шила в мешке не утаишь… Что и говорить, немногим отставали в этом отношении от наших артистов и чиновники из туземцев. Но, во-первых, это для наших плохое оправдание, а во-вторых, туземцы как-то ловчее умели делаться со своими единоплеменниками, заглаживали свои проделки то укрывательством и потворством их преступлений, то угощениями, то запанибратством с более влиятельными людьми или маскированным поклонением разным местным обычаям.
Возвращаюсь к тифлисской жизни. Переписывание в палате до ломоты в плече, чтение дома до рези в глазах изо дня в день, деваться некуда; с туземцами-сослуживцами у нас тогда не было ничего общего: у них свои привычки, свои потребности, свои страсти, между прочим, к новостям и сплетням. При каждой встрече двух грузин первый вопрос: ра-амбавия? двух армян: инчь-хабаре? двух татар: на-хабар? (что нового?) – без этого разговор не начинается. Назначение нового главноуправляющего краем генерала Нейдгарта, его строгие распоряжения, преследовавшие злоупотребления, несчастные военные действия 1843 года давали обильную пищу всем амбавистам; постоянное место их вечерних сходбищ – кучи бревен на Эриванской площади – представляло часов около семи-восьми разнообразную картину: по всем направлениям стояли кучки в пестрых костюмах, перебирали четки и вполголоса рассказывали новости. Тайны для них не существовало: что бы ни случилось, какое бы ни затевалось дело, стоило выйти на площадь и, зная туземный язык, можно было все узнать, конечно, нередко в искаженном, преувеличенном виде, но большей частью все-таки с долей правды. По поводу этих хабаров в Тифлисе часто рассказывались забавные анекдоты. Так, один из чиновников средней важности долго ждал обещанного места и был, что называется, на иголках. При встрече с одним знакомым старожилом он передал ему свое неприятное положение, а тот дал ему, не шутя, совет послать доверенное лицо вечером на Эриванскую площадь. И действительно, посланный вечером возвратился с известием, что на площади рассказывали о назначении NN на такое-то место, а на другой день явилась и официальная бумага. Так, вскоре после отъезда графа Чернышева амбависты уже толковали, что генерал Головин, главноуправляющий Кавказом, будет сменен – и действительно, месяцев через пять, не больше, сделалось известным назначение генерала Нейдгарта.
Евгений Александрович Головин был назначен главным начальником Кавказа в 1837 году, на место барона Розана, которым император Николай остался недоволен в свой приезд на Кавказ, причем открылись большие злоупотребления некоторых полковых командиров, в том числе флигель-адъютанта князя Дадьяна, женатого на дочери барона Розена. Дадьян был тут же разжалован и отправлен в ссылку, и хотя государь тогда же возложил снятые с Дадьяна флигель-адъютантские аксельбанты на сына Розена, но старика это не спасло, и он вслед за тем был уволен. Считаю нелишним присовокупить, что неправильные действия, за которые Дадьян так тяжко поплатился, были, к сожалению, далеко не редкостью в то время в нашей армии.
Генерал Головин был человек умный, начитанный и, как видно по многим бумагам, лично им писанным, владевший хорошо пером. Ему, однако, кажется, недоставало энергии и самостоятельности, особенно в военных делах. Говорят, что когда выбор покойного государя остановился на нем для должности кавказского главноуправляющего, чуть ли не Чернышев доложил, что Головин все время своего генерал-губернаторства в Варшаве проспал. «Ну, тем лучше, значит, выспался и теперь не будет дремать», – возразил государь. Должно быть, однако, Чернышев не жаловал его и по возвращении с Кавказа в Петербург вскоре устроил его увольнение за неуспешность военных действий. Между тем сам сей всесильный тогда вельможа принес своим приездом ту пользу Кавказу, что несколько хорошеньких туземок, их мужья и родственники получили крупные пенсии за небывалые услуги русскому правительству, да в управлении Черноморского казачьего войска последовали нововведения, оказавшиеся впоследствии негодными; наконец, по его, Чернышева, соображениям, основанным, по-видимому, главнейше на свежих впечатлениях весьма неудачной, чуть не на его глазах совершенной генералом Граббе Ичкеринской экспедиции, ввели новую систему военных действий – «оборонительную», чрезвычайно поднявшую дух горцев и Шамиля, уверявшего их, что русские его боятся. Бездействие наше дало им возможность выполнить давно задуманный план – возмутить всю покорную часть Дагестана; печальным результатом этого был переход Шамиля из оборонительного в наступательное положение, потеря нами десятка укреплений в нагорном Дагестане, истребление всех их гарнизонов, приобретение Шамилем множества орудий, снарядов и прочих запасов, нравственное усиление его на всей обширной враждебной нам территории, что заставило нас опять перейти в наступление и вызвало, наконец, с нашей стороны чрезвычайные усилья, подняло войну до небывалых размеров и послужило поводом падения только что назначенного генерала Нейдгарта, весьма мало в этом повинного, сыгравшего только жалкую роль козла отпущения… Он, впрочем, в короткий период своего управления обратил большое внимание на гражданские дела, на соблюдение экономии и принялся было за чиновников по тогдашнему военному приему, нагнав панику немалую.
III.
Прошло почти два года со времени моего приезда в Тифлис, и я все еще не нашел возможности вырваться из него. Я уже стал подумывать, не бросить ли вообще гражданскую службу, не представлявшую в будущем ничего, кроме того же бесплодного скрипения пером, и не поступить ли юнкером в полк? Я бы так и сделал, если бы не препятствие, преодолеть которое я не имел возможности. Получив казенные прогоны и, кажется, около 200 рублей пособия по приезде в Тифлис, я обязан был за это прослужить три года, если бы уже вздумал выйти раньше, то должен был возвратить назад все деньги, переход же в военную службу считался бы все равно нарушением обязательства. Таким образом, оставалось ждать еще целый год, что для нетерпеливого девятнадцатилетнего юноши было очень трудно, или бросить идею о переходе в военную службу. И ведь странно, что мне, уже с детства проявлявшему решительную наклонность ко всему военному, до того что девяти-десятилетним мальчиком я жертвовал самым сладким утренним сном, рисковал быть строго наказанным, в три-четыре часа утра бежал за город, лишь бы хоть часочек посмотреть на учения какого-нибудь батальона, послушать зычную команду молодцеватого майора и тот особенный, шикозный, единозвучный лязг, раздававшийся при проделывании некоторых ружейных приемов, который составлял гордость истых служак того времени и наслаждение зрителей, не только мальчиков, но и многих взрослых обоего пола особ, конечно, не из низшего рабочего класса. Итак, мне на пути к удовлетворению этой страстной наклонности ставились препятствия, заставлявшие меня сворачивать на другие, не добровольно избираемые пути. Должно быть, однако, что искреннее, сознательное настойчивое стремление к чему-нибудь в большинстве случаев достигает цели, невзирая на препоны, и я хоть гораздо позже, при совершенно уже других обстоятельствах, попал-таки в военные, но уже не в те, которые наслаждались ружейными приемами, да таких и вообще на Кавказе было весьма мало. Но об этом в своем месте.
Совершенно неожиданный случай познакомил меня с майором князем Михаилом Ивановичем Челокаевым, начальником Тушино-Пшаво-Хевсурского округа, человеком без всякого образования, но по-своему весьма умным. Я просил его о назначении меня на вакантную должность письмоводителя окружного управления, что дало бы мне возможность выбраться наконец из душной городской и канцелярской атмосферы в горы и дикие ущелья, к которым я так давно стремился, да вдобавок увеличило бы мое содержание до 450 рублей вместо 300 рублей в год. Просьба моя была принята, и в двадцатых числах июля 1844 года я оставил надоевший мне Тифлис, пускаясь опять в странствия к неведомым местам, к неизвестным людям. Чтобы избегнуть палящего зноя, я выехал вечером, ехал всю ночь и к рассвету очутился на реке Иоре. Через эту быструю реку, разливающуюся у села Муганло на несколько рукавов, переезжали вброд при помощи жителей татар, поддерживавших в воде экипажи. Местность эта пользовалась тогда особенной известностью: здесь «потонул» один из почтовых чемоданов с 47 тысячами рублей. Подозревались в этой истории помещик ближайшей деревни полковник князь Андроников и местная полиция, были они впоследствии и арестованы; следственных комиссий было много, а чемодан с деньгами канул в воду. На этот раз поговорка, что «казенное в огне не горит, в воде не тонет», не оправдалась.
Проехав уездный город Сигнах, раскинувшийся в живописном беспорядке у подножия довольно крутой горы, увенчанной старинной крепостью, я поздно к вечеру достиг другого уездного городка Телава, бывшего столицей кахетинских царей и любимым местопребыванием последних двух царей Грузии – Ираклия II и Георгия XIII, передавших свое маленькое царство России для предохранения его от окончательного истребления мусульманами. Город раскинут довольно живописно на высоте, среди садов; вся долина Алазани (Кахетия) как на ладони, и посредине ее виднеется известный всему Кавказу Алавердский собор, постройку коего приписывают кахетинскому царю Кирику еще в IX веке. 14 сентября в нем бывает годовой праздник, к которому стекается множество богомольцев изо всей Грузии, но, конечно, «богомольцы» эти не то что толпы лапотников, стремящихся к Киеву, Соловкам и Воронежу – здесь это разряженная, праздничная толпа, желающая повеселиться, предпринявшая partie de plaisir, окруженная великолепной природой, роскошными виноградниками, фруктовыми садами, пирующая под чистым сводом южного неба. Ту т разгульная жизнь кахетинцев: не только князья, но и простой народ выказываются нараспашку – пьют, поют, пляшут, стреляют, потешаются разными фокусниками, борцами и другими народными забавами, и все это целые сутки без перерыва, только приличия ради с утра заглянут в церковь, наполненную старухами… Ночью особенно хороша картина: кругом версты на три тысячи костров освещают пирующие группы, песни, выстрелы, ржание коней, блеяние и мычание скота, рокот тут же бегущей быстрой Алазани, все это в одном гуле, в одном дико-эффектном освещении!
Из Телава, где прекращается почтовое сообщение, я нанял верховых лошадей и отправился в село Матаны, имение князя Челокаева. Дорога пролегала через много деревень, тонувших в зелени: богатая растительность, красивые виды заставляли забывать неудобства езды, тем более скучной, что проводник не знал ни слова по-русски, и мы обречены были на молчание. Кругом видны были развалины церквей и замков, построенных большей частью на крутых лесистых возвышенностях; в густых кустарниках, издававших приятный аромат, перепархивало множество невиданных мною до того птичек. Встречные грузины на тяжелых арбах, едва влекомых неуклюжими буйволами, прерывали свои дико-заунывные напевы, чтобы произнести обычное: гамарджобад – «победа вам», то есть здравствуйте, и слить последнюю букву опять с напевом; попадались женщины верхом и под зонтиками, целые семейства в арбах, закрытых коврами, сопровождаемые своими мужьями и слугами верхом, или ряд навьюченных лошадей и катеров (мулы): на передней сидит верховой, а шесть-семь задних привязаны к хвостам друг за дружкой, оттягиваются, лягаются – очень комичный вид с непривычки.
Переехав вброд быструю речку Ильто, я прибыл в Матаны уже в сумерки. Дом князя Челокаева находился внутри крепости, составлявшей четвероугольник с башнями по всем углам, еще хорошо сохранившейся: такие крепости были у всех князей, даже у некоторых дворян, и туда в случае сильных нападений горцев скрывались семейства и имущества всей деревни; только с сороковых годов начали многие уже строить себе новые дома полуевропейской архитектуры, крепости стали приходить в упадок. Горцы продолжали мелкие хищничества, но грозные появления целых полчищ сделались чрезвычайной редкостью (за мое время их было только два; расскажу о них в своем месте). Во дворе крепости была небольшая каменная церковь, к одной из стен был пристроен дом князя, состоявший из нескольких комнат, полуевропейски убранных, большой, во всю длину деревянной галереи, и внизу кухни, службы и прочее. В комнатах длинные нары (тахта), покрытые персидскими коврами, много оружия развешано по стенам, в углах шкафы с посудой, между которой серебряные азарпеши (вроде разливных ложек), кулы (кувшинчики с длинными узенькими горлышками), большие кувшины, чаши, несколько пар огромных турьих рогов, оправленных в серебро с бирюзой, – все напоминало о гомерических попойках.
Радушно принятый хозяином и начальником, я расположился в отведенной мне в нижнем этаже комнате, или правильнее – подвале, в котором, кроме покрытых старыми ковриками двух тахт да треногого столика, ничего не было; окно заклеено бумагой, сырость и мрак, общая принадлежность некняжеских азиатских жилищ, царствовали тут; впрочем, в очень жаркое время это было приятно. Множество прислуги, оборванной, грязной, ленивой, суетящейся только по крику князя (то же, что и в большей части русских помещичьих домов недавнего времени), от которой трудно было допроситься кувшина свежей воды, не обещало особых удобств жизни. Первые дни одним из моих единственных развлечений было взбираться на высокие фиговые деревья и, подбирая лучшие зрелые плоды, в то же время любоваться прелестнейшим видом всей долины до Телава. К Челокаеву, славившемуся своим гостеприимством даже между своими, вообще столь гостеприимными соотечественниками, постоянно приезжали и по делам, и в гости соседние князья. Не понимая ни слова, я, однако, с любопытством наблюдал их все приемы, манеры, резко оригинальные и характеристические, носившие, впрочем, сильный отпечаток персиянизма, утонченной лести и десяти тысяч церемоний. Иной, подъезжая к крепости, вдали слезал с коня, поправлял платье, опускал рукава чухи – знак почтения, входил с докладом, с низкими поклонами, на что хозяин, не изменяя обычного полулежащего на тахте положения, произносил «а, а!» и спрашивал: «Ра-амбавия?». Гость садился, как видно было, уже после нескольких приглашений. Другой слезал с коня у самых ворот, входил без доклада. Хозяин вставал, подавал руку, тотчас начинался шумный, живой разговор, сопровождаемый громким смехом и жестами. К приезду третьего, завиденного издали, хозяин выходил на крыльцо или даже за ворота, кричал «а, а! князь NN!» еще сидевшему на лошади гостю, с этим обнимались, провожали в комнату, снимали с него саблю (без сабли, кинжала, а помоложе – без пистолета никто не выезжал); он сейчас посылал человека к княгине, по обычаю не выходившей из женской половины, доложить о приезде, передать почтение и поклон от своей семьи; начинались беготня, добавочная стряпня к обеду или ужину; при этом я заметил, что для излюбленных гостей непременно заказывались макароны – европейское нововведение и нечто вроде редкости. Громкий разговор, сопровождаемый непременно раскатами особенно здорового, от всего сердца хохота и энергичной жестикуляцией, не умолкал; иногда хозяин или гость брали тари (род балалайки) и, ударяя по металлическим струнам, запевали большей частью персидские мелодии или стихи из известной грузинской поэмы Руставели «Барсова кожа», выше которой, по мнению тогдашних грузин, уж конечно, ни одна литература ничего представить не могла. Затем опять разговоры, рукопожатия и разные жесты – очевидно, уверяли друг друга в неизменной любви и преданности. Таким образом собирались иногда несколько человек; наступало время обеда, накрывали в большой комнате на тахте, вместо скатерти расстилали узкий длинный кусок темного ситца, перед каждым прибором клали большой шоти (пресный хлеб) и ставилась бутылка с вином, кувшины про запас оставались в углу.
По приглашению хозяина гости, поджав ноги, садились на той же тахте по старшинству в ряд, и начинался обед с бозбаша или чихиртма (род супов: первый – из баранины, второй – кислый из кур), каждый крошил себе туда хлеб, и ели большей частью руками, ложки, вилки и ножи оставались без употребления; для отрезания вынимались из ножен кинжалов ножики; аппетит без исключения бывал у всех отличный, ели с особенным присмакиванием, здорово, не жеманясь, даже славно было смотреть. Кто-нибудь из старших гостей или сам хозяин, налив стакан вина, обращался к присутствующим с неизменным приветствием: «Хвала Богу, да дарует победу хозяину дома или князю NN и всем, здесь присутствующим». Это повторялось тотчас всеми. После пили уже, кто когда вздумает, желая здоровья хозяину и почетным гостям. Если же обед принимал характер более шумный и сопровождался доброй попойкой – так большей частью и бывало, – то кого-нибудь поздравляли толубашем (глава, законодатель пирушек), и начинались тосты один за другим без перерыва, и за всех присутствующих, и за их семейства, и за отсутствующих, и прочее. Сначала ходили по рукам стаканы, потом чаши, рога или по нескольку стаканов разом на тарелке; обнимались, целовались, кричали «алла-верды» (по-татарски – Бог дал), на что отвечалось: «иахшиол» (будь здоров); раскутившись, бросали стаканы и тарелки, пол покрывался черепками, проворно убираемыми прислугой. Лица краснели, разговор превращался в общий шум, начинались хоровые песни, не совсем приятные для слуха, где видно было старание перекричать друг друга, до охрипки. Для подобного пения призывали иногда кое-кого из дворни или из крестьян, который с подобострастием, после множества поклонов, подходил к тахте, становился на колени и затягивал; получив в награду большущий сосуд с вином, он произносил обычное поздравление и, осушив до дна, незаметно, задком, исчезал. Иногда хозяин схватывал бубен, с особенной ловкостью ударял в него в такт лезгинки – единственный общеупотребительный танец, и кто помоложе, половчее пускался в пляс, иногда тут же по скатерти между тарелок, выделывая ногами такие дроби и фокусы, и все так ловко, грациозно, что действительно, хоть на сцене показать; все присутствующие хлопали в такт в ладоши, выражая удовольствие покрикиваниями. Кутеж продолжался до сумерек, пирующие расходились: кто на двор – посидеть на свежем воздухе, кто в угол – вздремнуть. Гости оставались большей частью ночевать, подавались сальные свечи в больших старинных медных шандалах, чай, главное достоинство которого – побольше сахару; начинались игры в нарды (бросание костей) или в карты: цхра и асунас – азартные игры; играли на тари, пели уныло-сладострастные персидские мелодии. В десять часов ужин и большей частью опять тот же кутеж до полуночи… Затем гостей укладывали спать по нескольку в ряд на тахте; некоторых старших особо, на диванах, а кто помельче отправлялся вниз, ко мне; храп раздавался гигантский; воды за ночь испивались бочки. Но пьяных, не держащихся на ногах или лезущих драться, я никогда не видел – такова уж сила привычки к вину и, должно быть, натура.
Родословная – это альфа и омега для грузина: настоящий человек – только князь хорошей старой фамилии, а дворянин и все остальное – мелочь, обязанная покланяться и честь знать; а уж особенно русский, если по занимаемому месту не имел выдающегося значения и силы, трактовался не только как не князь, следовательно, во всяком случае мелкий человек, но еще и как симбирели (сибиряк, в презрительном смысле) и как лоти (пьянчужка). Много горечи пришлось мне испытать, пока я впоследствии таки довел этих сиятельных, недалеких умом и образованием добряков до вежливого обращения и до сознания, что нет правил без исключения.
Я довольно скоро стал понимать более употребительные фразы, записывая слова по-русски, но пока не достиг более правильного умения говорить по-грузински, всегда показывал вид, что ничего не понимаю, и когда обращались ко мне, я, в свою очередь, обращался к князю Челокаеву или его помощнику Рушеву за переводом. Это чрезвычайно облегчало мне мою задачу: вразумить господ князей, что у нас и не князья люди, что невежливости дурно рекомендуют тех, кто их себе позволяет, и что они, как видно, не имели случая встретить русского, который бы опроверг их ложное понятие обо всей нации. Помню, однажды за обедом, по обыкновению шумным, один князь с нахальной миной обратился ко мне: «Э, руссо, далие» (Э, русский, пей). Я, будто не понимая, спросил у Челокаева: «Что говорит этот господин?» – «Князь предлагает вам пить». – «Скажите ему, пожалуйста, – ответил я, – что, во-первых, по нашим обычаям ко всем обращаются по имени-отчеству, без «ы», что считается невежливостью; во-вторых, что угощать гостей может только хозяин, а не такой же гость; в-третьих, что если бы я хотел пить, то предо мной бутылки и стакан, а подобные напоминания похожи на то, как кучера посвистывают лошадям в воде, приглашая их пить». Князь Челокаев, казалось, смягчил перевод, но последнее сравнение пришлось по вкусу публике, раздались громкий хохот и даже тосты за меня.
Да, бывали неприятные минуты в первое время пребывания в этом новом для меня кругу; подчас с сожалением вспоминались и тифлисская канцелярия, и еще более далекая родина… Но делать было нечего, выход из этого положения был слишком труден. Бросить службу и уехать обратно в Тифлис… но нечем было жить, другого места не скоро можно было добиться, когда число чиновников до того увеличилось, что уже прекратили вызовы, и на каждую вакантную должность считалось по несколько кандидатов. Я решился терпеть до возможности, как ни возмущали меня эти пренебрежительные обращения ко мне тогдашних сиятельных кахетинцев, а еще более постоянные насмешки и остроты над русскими. Между тем сам окружной начальник был довольно вежлив, пускался в откровенности, представлял возможность служебной карьеры в случае ожидавшихся военных действий с его участием, старался загладить скверные впечатления, о которых я стал ему намекать, оправдывая своих соотечественников незнанием России, ее обычаев и прочего.
Тяжел был для меня первый год, пока я не овладел вполне грузинским языком и не ознакомился с местными обычаями и нравами. Зато уж и удовлетворял же я себя после насчет большинства тех господ князей, которые отличались особенным злорадством. Впоследствии, чтобы поддерживать свое упорное убеждение, что русский, да еще такой маленький чиновник, должен быть непременно лотти и вообще не заслуживающий уважения субъект, они ухватились за мою немецкую фамилию и вероисповедание и не иначе звали меня, как нэмса (немец), следовательно, и не удивительно, что не лотти и другой человек… Все мои уверения, что ни фамилия, ни исповедание ничего не значат, что я чисто русский душой и телом, что десяток дрянных чиновников не могут служить представителями семидесятимиллионной нации и прочее, ни к чему не вели. Даже несколько князей, воспитывавшихся в Петербурге, служивших в гвардии, не могли изменить взглядов большинства, опиравшегося на факты и рассказы о различных безобразиях чиновников уездной администрации, равно офицеров и солдат войск, расположенных за Алазанью на кордоне.
Грустно вспоминать об этих временах, к счастью, давно уже минувших, и должно надеяться, безвозвратно. Уже с конца сороковых годов Закавказский край стал исподволь наполняться другими людьми, вытесняя негодную закваску прежних безобразных вызовов, а еще через десять лет контингент чиновников, за малыми исключениями, мог считаться относительно внутренних губерний образцовым. Как и по каким причинам произошла такая перемена к лучшему, я постараюсь подробно изложить дальше, когда придется говорить о временах князя Воронцова, замечательного государственного человека, который при некоторых своих недостатках (а кто же их не имеет?) две обширные области России – Новороссийскую и Кавказскую, можно сказать, извлек из хаоса и поставил на путь правильного развития.
IV.
Собственно резиденция окружного управления была в селе Тионеты, верст около 25 от Матаны далее к горам, но Челокаев предпочитал жить у себя в деревне, считавшейся тоже в составе округа, и здесь устраивалась походная канцелярия. Однако, прожив некоторое время тут, я заявил желание отправиться, наконец, в Тионеты, чтобы познакомиться ближе с делами, с тамошним помещением и прочим.
Дорога из Кахетии в Тионеты – самая привлекательная поездка; первые семь-восемь верст она идет по ущелью реки Ильто, которую приходится переезжать вброд на этом пространстве до десяти раз: речка то с шумом низвергается с высоты нескольких футов, то пробивается между огромных камней, то сочится под вековыми деревьями, снесенными с корнем бешеными потоками, мгновенно образующимися при сильных дождях; оставив вправо речку, дорога идет по небольшим лесистым возвышенностям и вдруг с одной открывает две прекрасные картины: сзади вся Кахетия, окаймленная слева гигантскими снежными вершинами Главного хребта, справа – лесистым Гомборским хребтом, по коему разбросаны старые крепости и монастыри, посредине бежит Алазань, берега которой усеяны деревьями и виноградниками, потонувшими в синеватой мгле; в центре резко выдающийся белизной Аллавердский собор, и далее едва белеющие домики Телава. А посмотрите вперед: плоскость верст десять в окружности, раскинувшаяся у подножия лесистых гор, прорезанная быстрой, извилистой рекой Иорой и множеством мелких речек, усеянная деревушками, среди которых отличаются величиной Тионеты; вдали снежные макушки Борбало и Чичос-Тави, высочайших точек этой части Главного Кавказского хребта.
Спустившись на эту плоскость, я переехал вброд через Иору у самых Тионет и очутился во дворе полуразвалившейся старой крепости, постройку коей, как и всех древних зданий в Грузии, приписывают царице Тамаре. Над воротами к стене были прибиты деревянными колышками десятка два рук, настоящих, человеческих, и все правые, многие – совсем почти черные, некоторые – только голые кости. Это обычай большинства кавказских горцев: отрезать у убитых врагов кисти правых рук и в виде трофея прибивать к стенам собственных домов или домов своего начальства. На первых порах вид этих зверских трофеев возбуждал во мне сильное отвращение, но я напрасно старался, проходя мимо, не поднимать к ним глаз. Наконец, я привык к этой отвратительной картине. Снять руки со стены князь Челокаев не соглашался, чтобы не оскорбить горцев: они могли бы почесть это знаком неудовольствия к их подвигам в деле истребления хищнических шаек, а между тем это следовало всеми мерами поощрять. Внутри развалин стояли одинокая хижина, подобие малороссийских крестьянских хат, с двумя заклеенными бумагой окошечками – это была канцелярия, да две уцелевшие башни: в одной была устроена комната, где помещался окружной начальник, приезжая сюда, в другой кое-как мостились четыре донских казака – единственные русские люди в округе. Перспектива жизни при таких условиях, да вдобавок без книг, которых я, с трудом и долго ожидая, едва мог добиться из Тифлиса, признаться, была не блистательна: ни товарищей, ни общества, среди народа, не понимающего по-русски, и при скверной материальной обстановке… Но я решился выдержать характер. Время проходило среди служебных занятий, то есть отписывания бумаг, посылавшихся к подписи в Матаны, в прогулках по берегу Иоры и смотрении на ловких рыболовов, закидывавших искусно свои сети и вытаскивавших всегда десятки прекрасной форели и других вкусных рыбок, да в изучении грузинского языка. С каждым днем я стал более и более убеждаться, что жить среди этого народа и придерживаться своих европейских обычаев невозможно. Между сотнями людей, не покидающих оружия, ходить в статском сюртучке и неудобно, и смешно; постоянно разъезжать верхом по гористым, неудобным дорогам, переправляться вброд через быстрые реки, ждать нападения хищнических шаек близких соседей – непокорных горцев в нашем костюме, без оружия опять и неудобно, и даже как-то щекотливо. Я начал с того, что нарядился в черкесский костюм, самый удобный и красивый, получивший право гражданства на всем Кавказе, обзавелся собственной верховой лошадью, оружием и всеми принадлежностями коренного джигита (удальца-наездника), да с большим успехом и довольно скоро усовершенствовался в верховой езде. Одно это уже подняло меня в глазах жителей, которые не могли никогда без смеху видеть чиновников, уродливо болтавшихся на лошадях, державшихся обеими руками за гриву и действительно изображавших всей своей наружностью весьма жалкие комические фигуры. Повозочного же сообщения здесь, как и в большинстве мест за Кавказом, не было, и всяк должен был садиться верхом на плохо выезженных, горячих горских лошадей. Через год я стал свободно объясняться по-грузински, а выучившись после еще читать и писать, усовершенствовался на удивление всем грузинам. Выговор – это неодолимое препятствие для всех европейцев – дался мне, однако, настолько, что даже трудно было угадать во мне не грузина. Постоянной наблюдательностью, расспросами, сношениями с туземцами я узнал в подробности их нравы, образ жизни, взгляды и наклонности, и впоследствии в обществе туземцы почти забывали, что я русский, однако перестали при мне пускаться в ругательства и насмешки. При этих условиях и жизнь моя стала разнообразнее и легче; я стал находить в этой воинственной, полукочевой жизни своего рода поэзию и, наконец, пристрастился к ней до того, что изменить ей и работаться со средой, у которой я приобрел уважение, казалось мне невозможным. Те же князья, обращение которых так раздражало меня год назад, наперерыв стали выказывать мне свое дружеское расположение, извиняясь за прошлое и ссылаясь на свои вкоренившиеся убеждения, что дворянин ни в чем не может равняться с князем и пользоваться одинаковым вниманием. И действительно, у них дворяне, большей частью бедняки, составляли низший класс, а в Имеретии до недавнего еще времени были крепостные дворяне, законно признанные и утвержденные нашим правительством…




